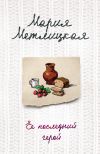Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
– Пол-Перемышля в Лихвинскую тюрьму переехало… по случаю построения социализма, – подвел итог тридцать седьмому году Георгий Авксентьевич Траубенберг.
Говорили, будто подручные Калдаева предлагали арестовать священника, служившего в единственной тогда еще не закрытой в Перемышле Георгиевской церкви, о. Иоанна Никольского, на что Калдаев будто бы наложил милостивую устную резолюцию:
– Черт с ним, пускай старый хрыч остается, все равно скоро сдохнет.
Петр Михайлович все еще сидел в Лихвинской тюрьме, но, по слухам, в деле его произошел перелом. Летом Калдаева вызвали в Москву: в Москве не хватало следователей, и участие в Корекозевском восстании Петру Михайловичу пришили в его отсутствие. Вернувшись из Москвы, Калдаев самое страшное обвинение с Петра Михайловича снял.
В это время в Детчине, районном центре Калужской области, состряпали дело ветеринарных врачей и зоотехников, якобы по заданию какой-то иностранной разведки моривших колхозный скот. Несколько человек расстреляли.
…Опять я в Москве, и опять «свежие новости».
Арестован заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Яковлев. Он совсем недавно делал доклад на сессии ЦИКа о проекте «Положения о выборах в Верховный Совет СССР». Только что издал брошюру о том, как надо выбирать; эту брошюру вменялось в обязанность изучать всем членам избирательных комиссий и рекомендавалось изучать избирателям.
Ликвидировано «троцкистское гнездо» «Перевала», арестованы «выкормыши матерого троцкиста», «агента Троцкого в литературе» Воронского: член партии Зарудин, член партии Губер, Пакентрейгер, позднее других – Абрам Захарович Лежнев.
Арестован один из самых злых рапповских псов, присяжный драматург Киршон, рапортовавший XVI партийному съезду о достижениях советской литературы и клеймивший внутренних ее врагов, от них же первый – автор «Красного дерева» Борис Пильняк.
Арестован «лефовец» Сергей Третьяков.
Александр Вильямович Февральский, через Мейерхольда близкий к футуристическим кругам, рассказывал мне двадцать лет спустя, что в разгар «реабилитанса» к нему неожиданно позвонил Асеев и спросил, не помнит ли он, любил или не любил Третьяков играть в карты и не был ли азартным игроком. Февральский ответил, что, насколько он помнит, Третьяков, этот сухарь, игравший под делового иностранца, никаких карт в руки не брал.
– А почему вы меня об этом спрашиваете, Николай Николаевич?
– После объясню. Это не телефонный разговор.
Оказалось, что «дело» Сергея Михайловича Третьякова, автора популярного в свое время романа «Дэн-ши-хуа», пьесы «Рычи, Китай!», шедшей у Мейерхольда, и бездарных футуристических стихов, было сляпано следующим образом. Третьяков свободно изъяснялся на нескольких иностранных языках, рыбу ножом не ел, и его просили принимать у себя иностранных писателей и постоянно посылали за границу. Ну, а в ежовщину он как нельзя больше подходил к роли шпиона. Его арестовали и предъявили следующее обвинение: будто бы он за границей проиграл в игорном доме огромную сумму. Расплатиться ему было нечем. Тогда к нему подскочил некто и, отведя в сторону, шепнул, что он уплатит его долг, но что за это Третьяков должен стать агентом такой-то разведки. Третьяков будто бы согласился. При пересмотре дела оказалось, что это – эпизод не из биографии благоразумнейшего, рационалистичнейшего, не склонного ни к каким порывам и увлечениям Третьякова, а из плохого уголовного романа, наспех сочиненного следователями.
…Арестован ответственный редактор «Литературной газеты», совмещавший эти обязанности с обязанностями военного прокурора НКВД, Лев Матвеевич Субоцкий.
Арестован его брат Михаил, член редакционной коллегии журнала «Знамя».
– Теперь у нас попасть в шпионы и диверсанты легче, чем нарваться на штраф за то, что спрыгнул на ходу с трамвая, – заметил Глеб.
А по радио мы чуть не каждый день слышим:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
А в газетах, журналах, по радио фамилия «Сталин» сопровождается постоянными эпитетами: «великий», «гениальный», «любимый», «мудрый», «родной».
Споем же, товарищи, песню
О самом большом человеке,
О самом родном и любимом, —
О Сталине песню споем, —
призывает Михаил Исаковский в «Песне о Сталине». Глаза Сталина видятся песеннику (сослепу, что ли?) «ясными и чистыми», как «светлая вода в колодце», сам Сталин – воплощением «правды народов».
А фамилия Народного Комиссара Внутренних Дел Николая Ивановича Ежова появляется не иначе как с присовокуплением составных постоянных эпитетов: «железный нарком», «любимый сталинский нарком». А подхалимы азиатские, вереща и блея свои стихи, величают этого плюгавца (таких русский народ величает «выпердышами») «Батырь Ежов». А печать в припадке буйного раболепства восхваляет «ежовые рукавицы». Бывшего художественного руководителя киевской киностудии Соломона Моисеевича Баевского следователь заставлял по нескольку часов кряду стоять «смирно» – заставлял, зная, что у подследственного больные ноги, отмороженные в гражданскую войну, – весело потирал руки и приговаривал:
– Это вам не ягодовщина – это вам ежовщина!
Я получил от тети Саши письмо… Мама «– в больнице: тяжелое нервное расстройство. Я полетел в Перемышль.
Болезнь моей матери нарастала исподволь, еще со времен моего сиденья и ссылки. Общероссийские и перемышльские события растравили незаживающую рану.
Мы боялись друг за друга, Я боялся, что ее арестуют в Перемышле. Ни на миг не утихала ее тревога за меня. Я – бывший ссыльный – подолгу живу в Москве без прописки. Случайный или не случайный – по доносу соквартирантов – милицейский обход, и я подвожу родных моей жены, хозяев квартиры, а меня могут не просто попросить о выходе, а загрести.
Как-то, когда я уезжал из Перемышля в Москву, маме захотелось проводить меня до Калуги. Времени до отхода поезда оставалось еще много. Мы с ней сели подзакусить и выпить чайку в вокзальном ресторане. За соседним столиком сидел молодой человек и, прихлебывая чай, водил пером по ватмановской бумаге. По-видимому, это был студент Калужского строительного техникума, уезжавший на практику и что-то наспех, перед отходом поезда, подправлявший в своих чертежах. Временами он отрывался от своего занятия и останавливал рассеянный взгляд на ком придется, в том числе и на нас.
Мама долго смотрела на него, потом ее внезапно побелевшие от ужаса глаза глянули на меня.
– II te dessine[37]37
Он тебя рисует (фр)
[Закрыть], – шепнула она.
Мне стоило немалых усилий разуверить ее.
Бредовые видения, сначала посещавшие ее изредка, к концу 37-го года сомкнулись вокруг нее кольцом.
Я побежал в больницу. Мама лежала в палате одна.
Она меня сразу узнала и заплакала слезами радости. Еще немного – и ее лицо исказила душевная боль.
– Тебе тетя Саша успела сказать, что Петру Михайловичу дали десять лет?
Я постарался утешить маму так же, как на другой день утешал Екатерину Петровну: по нашим временам десять лет с правом переписки – пустяки. Главное, что с него сняли обвинение в организации Корекозевского восстания, а 5810 – это самое легкое обвинение, какое только могут дать «политическому». Полного срока он, конечно, не просидит, – его освободят по возрасту и по здоровью.
Мама приободрилась. И вдруг опять уже знакомый мне белый ужас оледенил ее взгляд.
– Слышишь? Стучат!
– Да это дверью кто-то хлопнул.
– Нет, нет, это печку ломают, нарочно… а потом скажут, что это я сломала печку… что я – вредительница…
От доктора Татьяны Никитичны Жиздринской я узнал, что несколько дней назад мама в одном халате, с непокрытой головой убежала из больницы. Был холодный позднеосенний день. Сиделки вовремя хватились ее и бросились искать. Терапевтический корпус стоял рядом с кладбищем, и моя мать, с развевающимися по ветру седыми волосами, бежала меж памятников и могильных холмов. Ее догнали.
– Куда вы, Елена Михайловна?
– Пустите меня! Я иду в НКВД – говорить правду о моих оклеветанных товарищах!..
По делу Петра Михайловича мою мать так и не вызвали. Говорить правду в НКВД об оклеветанных товарищах ей еще предстояло.
На другой день, когда я пришел навестить маму, она была уже в полном сознании.
Итак, – думалось мне, – Петр Михайлович еще счастливо отделался. Он – не вдохновитель восстания, он – не главарь вредительской шайки, будто бы окопавшейся в школе, он – вообще не вредитель, он не вел пропаганды среди учеников. Но приклеить-то ему что-нибудь надо! Выпустишь – как бы самому не сесть. В таких случаях приходит на помощь спасительная 5810 – то есть «индивидуальная агитация». Но кого же он, однако, агитировал? Самого себя? Или своих добрых знакомых, которых давным-давно без его участия разагитировала сама жизнь?
Перед тем как отправить Петра Михайловича по этапу в концлагерь, ему дали свидание в Лихвинской тюрьме с женой и матерью.
Тюрьма не ожесточила Петра Михайловича, для которого понять человека почти всегда означало простить.
Каким-то образом стало известно, что под давлением следователя один из сослуживцев оговорил Петра Михайловича, что им была устроена очная ставка и что Петр Михайлович доказал лживость показаний «свидетеля». И вот, когда жена и мать спросили его, правда ли, что сослуживец и приятель так отплатил за добро, которое Петр Михайлович делал ему на протяжении многих лет, он махнул рукой:
– Ну, что с него спрашивать! Испугался за сына, старый дурак! (Сын «свидетеля» находился в лагере.) Да и показания его гроша медного не стоят, я его живо посадил в калошу.
Траубенберг имел мужество отказаться от своего показания. Другой сослуживец что-то сболтнул из страха за сына. Но доносили на Петра Михайловича из года в год, изо дня в день осведомители: доктор Владимир Владимирович Пятницкий, учитель Иван Иванович Рыжов. С Пятницким Петр Михайлович был откровенен, при Рыжове рассказывал невинные анекдоты. И все-таки самые тяжкие и напролет лживые показания дали против него не сексоты, а бывший псаломщик, затем «совслужащий» Валерьян Иванович Соколов, с которым Петр Михайлович только здоровался при случайных встречах на улице или в магазине, и племянник Соколова Николай Георгиевич, по прозвищу «Сопля», единственный Иуда из всех лебедевских учеников.
Возмездие не замедлило: Рыжова убили на фронте; Соколова убили на фронте; комсомольца Георгиевского советский военный трибунал судил за то, что он перед приходом немцев в Перемышль драпанул из своей части в Перемышль и там при немцах отсиживался. Дальнейшая судьба Георгиевского неизвестна. Когда Петр Михайлович возвратился на родину, ни в чем перед ним не повинная учительница Раиса Ивановна Георгиевская, урожденная Соколова, сестра и мать лжесвидетелей, в то время уже погибших, пришла к Петру Михайловичу просить за них прощения.
Петр Михайлович любил рассказывать случай, происшедший с ним в молодости.
В доме у соборного дьякона Даньшина, сочувствовавшего революционным настроениям молодежи, перемышльские крамольники читали вслух запрещенную литературу, пели вполголоса: «Царь-вампир пьет народную кровь». Бывал на этих собраниях и учитель Лебедев. В один прекрасный день его вызывает к себе исправник и говорит:
– Мне, господин Лебедев, все известно о ваших сборищах у дьякона Даньшина. Вам должно быть понятно, что я держусь иных взглядов. Но раз что вы пропаганды среди населения не ведете, я вашим собеседованиям значения не придаю. Но среди вас находится охранник, Дмитрий Воронцов. И вот он доносит на вас в Калужское охранное отделение. В случае чего я вас защитить не смогу. Поэтому мой вам совет: с Воронцовым в откровенности не вступать, а ваши сборища – по крайней мере, временно – прекратить. Вы – человек молодой, единственный сын у матери, вся жизнь у вас впереди, не губите же из-за пустяков себя и не причиняйте горя вашей матери.
Во времена дореволюционные на весь Перемышль приходился один доносчик – Митька Воронцов, выгнанный из Калужской духовной семинарии за безобразия. К 30-м годам наушничье племя расплодилось и размножилось. Во времена протекшие какой-нибудь Валерьян Иванович Соколов прозябал бы мирным обывателем, не осквернив себя ни одним наветом. Новая жизнь иных запугивала, иных прельщала серебрениками, иных улещала почетом, ибо извет был возведен в доблесть, всколыхивала зловонную муть со дна человеческих душ и душонок. Прежде низменные побуждения частенько дремали в человеке и, не находя себе применения, глохли и отмирали. Теперь их-то как раз и пробуждали, за ними ухаживали, как за деревьями, и деревья эти принесли плод мног, обилен и ядовит.
Я поделился перемышльскими впечатлениями с Глебом. Он слушал, жуя своими толстыми, добродушно-плотоядными губами и, когда я замолк, воскликнул:
– Вот бы написать обо всем этом! Какой бы вышел рассказ!
Жена Петра Михайловича из-за глухоты разобщила себя с внешним миром. По всем делам ходила старуха-мать. Как-то, уже накануне войны, она выстояла на ледяном ветру долгую очередь и заболела крупозным воспалением легких. И все звала Петю в предсмертном бреду…
Осенью 43-го года я получил сведения, что Петра Михайловича, выражаясь на официально-лагерном жаргоне, «сактировали», то есть по состоянию здоровья досрочно освободили, но в Перемышль не пустили, и он поселился в рабочем поселке Костичеве Балахнинского района Нижегородской (Горьковской) области. На лесоразработках его зашибло деревом, и в Костичеве у него открылось кровохарканье.
Мне дали его точный адрес. Я тотчас послал ему письмо.
Ответ пришел быстро – в конверте со штампом: «Просмотрено Военной Цензурой Горький 168».
В своем первом письме к Петру Михайловичу я вкратце писал приблизительно то, что написано мною о моем отношении к нему и о том, чем он был для меня, на страницах этой книги.
Его первое письмо ко мне начинается так:
Дорогой Коля!
Письмо Ваше принесло мне, старому деду, много приятного. Оказывается, в старости не менее нравится, чем в молодости, когда тебя гладят по головке…
Переписка у нас завязалась частая и оживленная.
О себе он писал:
За эти годы так много утекло воды, притом мутной и грозной воды, что даже немножко страшно оглядываться.
………………………………………………………………………………………
Итак, я учитель начальной школы. У меня 31 ученик, всего три класса – 1, 2, и 3, и я как будто приспособился к новым для меня условиям. Живу в школе один-одинешенек. Перед школой мой небольшой огород, дальше озеро, за ним сосновый лес. Вид чудесный… Летом было много всяких ягод, к сожалению» мало грибов – год не грибной. Есть только одно «но»: в поселке половина людей болеет малярией. Есть опасность заразиться. В свободное время почитываю историю XIX стол(етия) Лависа и Рамбо… добрался до 6-го тома. Очень интересное издание, под редакцией Тарле. Знакомы ли Вы с ним? Сейчас попалась книжка того же Тарле о Талейране. Как видите, стараюсь приобщиться к культуре.
В другом письме Петр Михайлович пишет, что прочитал монографию Леонида Гроссмана о Пушкине, но что она не вполне его удовлетворила: «…нового почерпнул очень мало», – отмечает он.
Интерес к литературе и театру в нем не ослабевает. Я написал ему, что меня тронули своей человечностью стихи Сергея Спасского о ленинградской блокаде и о войне. Петр Михайлович откликается:
О Спасском я слышу впервые от Вас, и очень рад, что среди литераторов не оскудевают хранители великих традиций…
Современное литературоведение вызывает у Петра Михайловича скептическое отношение. В ответ на мою фразу о том, что Богословскому в книге о Чернышевском удалось размочить сухарь в молоке, он пишет:
…Вы меня простите за старческое ехидство… но когда я читал Вашу фразу о сухаре, размоченном в молоке, мне невольно захотелось спросить – а не в воде?
И дальше:
«Мой» Художественный театр, можно сказать, уже ушел. Вы пишете, что В(асилий) И(ванович) уже почти не выступает (кто заменяет его в «Воскресении»?) Но я с наслаждением посмотрел бы «Войну и мир». Удастся ли?[38]38
Это ответ на мое сообщение, что Малый театр готовит инсценировку «Войны и мира».
[Закрыть]Интересно, что нового дает в пьесе об Ив(ане) Грозном Толстой? Если знаете, пожалуйста, напишите. Вообще, если у Вас есть что-нибудь интересное из соврем(енной) литературы, очень буду благодарен, если Вы пришлете мне. Желаю Вам всего лучшего. Привет Вашей семье. Так хотелось бы сказать: до скорого свидания! Но…
П. Лебедев.
17/IX.43.
Третье письмо, от 10 октября 43-го года, начинается так:
Дорогой Коля!
Когда здесь, в Костичеве, я получаю Ваши письма, мне кажется, что я перелетаю в другой – такой дорогой и такой далекий от меня мир! Вы снова приобщаете меня к кругу моих друзей – Мопассана, Анатоля Франса и т. д., с которыми непосредственно я почти не имел общения за последние годы, но которые до сих лор сохраняют во мне то «жизнелюбие», о котором Вы пишете. Да, я все-таки остался жизнелюбцем, несмотря на все перенесенные удары и даже несмотря на то, что и по возрасту и по болезни (у меня туберкулез, и не в начальной форме) мне не придется иметь дело с жизнью длительное время. Болезнь обнаружилась для меня совершенно неожиданно и пока беспокоит не сильно. Болезнь не из приятных, но ведь когда-нибудь и от чего-нибудь умирать нужно, поэтому я отношусь к ней сравнительно спокойно.
Пишет Петр Михайлович и о моих литературных занятиях:
Я рад, что, кроме переводов, Вы все-таки «пописываете», хотя и не печатаетесь. Буду рад за Вас, если Вы приметесь за «Дон Кихота». В последние годы в Перемышле я как раз перечитал его, и перечитал с большим наслаждением.
И еще в первом письме, в ответ на мою жалобу, что мне уже больше тридцати лет, а я еще ничего путного не сделал:
Помните, что Мопассан до 30 лет учился своему ремеслу, и только в 30 лет напечатал свою «Пышку».
В марте 44-го года, ранним вечером, к нам в квартиру позвонили. Мне сказали, что меня спрашивает Лебедев. Я выскочил в переднюю и увидел не Петра Михайловича, а его тень – так исхудал этот когда-то плотный человек. Его отрепье висело на нем, как на вешалке.
Мы с ним проговорили целый вечер. Петр Михайлович рассказал мне, как велось следствие, как ему жилось в лагере. Говорил, что самое страшное, ни с чем не сравнимое, – это этап. После этапа лагерь показался ему на первых порах Эдемом. С беззлобной гадливостью вспоминал перемышльских доносчиков. Помянул добром Калдаева:
– Меня в его отсутствие хотели подвести, а он направил следствие совсем по другому руслу. И в общем он был со мной корректен. А я, по правде сказать, донимал же его своим упрямством! Ангел потерял бы со мной терпение! – И тут Петр Михайлович засмеялся знакомым мне придушенным свистяще-шипящим смехом. – Как-то он долго уговаривал меня подписать протокол – я уперся. Он хвать меня за ус, А я ему: «Хорошо! Это в преддверии-то двадцатилетия революции!» Он моментально опустил руку и, перед тем как расстаться со мной, пробормотал: «Вы знаете, у нас такая нервная работа – иной раз выйдешь из себя…»
Все это Петр Михайлович рассказывал с эпическим спокойствие ем, но время от времени повторял твердо и уверенно:
– Рано или поздно Карфаген падет!
Был у нас Петр Михайлович проездом в Перемышль. Ему наконец разрешили постоянное жительство в Перемышле, где его ждала жена и где у них был свой дом.
В Перемышле Петра Михайловича к довершению всего начала трепать малярия. Все же какое-то время он преподавал в школе, но туберкулез и малярия соединенными усилиями одолели его, и он слег. Лежал сперва дома, потом в больнице. Однажды ему стало нечем дышать в палате, и он попросил, чтобы его вынесли на воздух. На вольном воздухе, под открытым небом, он и скончался. Было это в день объявления победы над фашистской Германией. Похоронили Петра Михайловича рядом с матерью.
…Его судьба увела меня вперед.
В газетах все то же да про то же.
В газетах от 20 декабря 37-го года сообщение о том, что 16 декабря в Верховном суде рассматривалось дело по обвинению в измене родине, террористической деятельности и систематическом шпионаже в пользу одного из иностранных государств бывшего секретаря ЦИК СССР Авеля Софроновича Енукидзе, на которого Сталин озлился за то, что он в своей книге по истории революционного движения в Закавказье не водрузил ему монумента, заместителя Наркоминдела Карахана и других. Всех подсудимых расстреляли, в том числе барона Штейгера – сексота, специализировавшегося на актерах и донесшего на Виктора Яльмаровича Армфельта, того самого Штейгера, которого впоследствии под именем барона Майгеля вывел Булгаков в «Мастере и Маргарите». Вспоминая в предыдущей главе Зубакина, я уже говорил о том, что в ежовщину заметали и тех, кто осведомлял, и тех, кого осведомляли. Да что там осведомители! В начале ежовщины замели Ягода, а кончилась ежовщина тем, что замели и самого Ежова.
Глеб часто и много пил, во хмелю был задирист, буен. Что-то его точило внутри, и, когда он пьянел, тревога и тоска из-за сущей безделицы выливалась в озлобление и выплескивалась на близких. А потом и попойки прекратились – не на что стало пить. Ни в Союзе писателей, ни в издательствах он не показывался. Видимо, ему хотелось, чтобы о нем забыли. Некоторое время он жил поделками: правил рукописи для затевавшихся в Архангельске альманахов.
– Их и столярный карандаш не возьмет, – говорил он об этих произведениях, в которых оставлял только имена собственные.
Архангельск не спешил с высылкой гонорара. Перед новым, тридцать седьмым, годом Глеб послал Попову телеграмму: «Встречаю Новый год без копейки желаю тебе того же».
Архангелогородская ежовщина отняла у Глеба и этот последний, более или менее случайный заработок. До ежовщины его библиотека год от году росла. Новые пополнения вытесняли менее нужные книги на застекленный балкон. Теперь стены балкона оголились, да и в кабинете на полках образовались прогалины.
После ареста Артема Веселого, Клычкова и Пильняка Глеб никого из писателей у себя не принимал. Но как братья-писатели откликались на гибель товарищей – об этом он знал из газет, да и слухи все же на Старую Башиловку долетали.
– На днях пьяный Олеша на весь «Националь» орал: «Пильняк – шпион четырех держав…» – говорил Глеб. – Замухрышка, сволочь, так его разэтак и растак! Все крутился вокруг Святополк-Мирского, чуть не каждый день пил за его счет.
– Эх, Николай! – сказал Глеб в один из зимних вечеров, которые мы с ним проводили вдвоем. – Проснуться бы завтра в Париже! Да не в Париже, а хотя бы в Загребе, где я обувь чистил, где я был беден, как церковная крыса, но зато так спокоен и счастлив!
– За каким же чертом, за каким рожном ты ехал сюда? – спросил я. – Живут же эмигранты – живут и пишут. Ты сам говорил, что Бунин достиг за границей титанического размаха – цитирую тебя дословно.
– Сравнил… мужской член с колокольней! Да и потом, Бунин вывез за границу огромный запас впечатлений. Этого запаса ему на всю жизнь хватит. А я попал за границу мальчишкой. Я бы очень скоро выдохся, исписался.
Но мечты о Загребе оставались мечтами, а действительность полнила его слух каждодневными вестями о чьей-нибудь гибели, чьем-нибудь предательстве, о чьем-нибудь злопыхательстве, о бегстве со своих постов наших посланников, – их вызывали в Москву, а они знали, чем это пахнет, – о вынужденном отречении жен и детей от заключенных детей и отцов, что обычно не спасало их от тюрьмы, от лагеря или от ссылки, о сказочном превращении двуногих существ в ищеек, в гончих, в борзых. И Глеб Алексеев написал повесть «Глухой Бетховен»…Глухота была для Бетховена благом: она накинула пелену на лязг, визг и скрежет, которым забивала ему уши постылая разноголосица жизни…
Но и в эту постылую стынь влюбленность в слово часто вспыхивала у Глеба.
Его обрадовал цикл «Из летних записок» Пастернака, напечатанный в десятом номере «Нового мира» за 36-й год. Жмурясь, как кот, которому чешут за ухом, он все повторял наизусть строки о Тициане Табидзе:
Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.
Конец февраля 38-го года. Я приехал погостить к маме и тете Саше.
В Москве скоро начнется суд над Бухариным, Рыковым, бывшим заместителем Наркоминдела Раковским, бывшим заместителем Наркоминдела, а за год до суда (о чем сообщали газеты от 29/III 1937 г.) назначенным на должность заместителя Наркомюста, Крестинским, Наркомфином Гринько, Наркомвнешторгом Розенгольцем, Наркомземом Черновым, Наркомлеспромом Ивановым, над Ягода, над двумя азиатскими царьками, секретарем ЦК Узбекистана Икрамовым и председателем узбекистанского Совнаркома Файзулла Ходжаевым, над докторами Плетневым, Левиным и Казаковым, над секретарем Горького Крючковым… Ноев ковчег, только отправляющийся в плаванье с совершенно иной целью… Еще так недавно мы читали статьи Чернова и Гринько в «Правде»!
В разгар процесса Зиновьева и Каменева бывший столп советской дипломатии Раковский в газете оплевал с головы до ног Троцкого – того самого Троцкого, который посвятил свою книгу «Литература и революция» Раковскому, «другу, человеку, революционеру». Отречение от друга не спасло Раковского – его пристегнули к Бухаринско-Рыковскому процессу.
Я читаю вслух газетные отчеты…
Процедура та же, до ужаса знакомая. 28 февраля в газете напечатано сообщение «В прокуратуре Союза ССР»; привлекаются к судебной ответственности участники (pour changer[39]39
Для разнообразия (фр.)
[Закрыть]) «право-троцкистского блока». Передовая «Известий» от 1 марта, озаглавленная: «Наемники фашистских разведок», полна уже совсем беспардонного вранья: «Троцкий. Бухарин. Рыков. Эта черная троица всегда была единой». А кто же, как не Бухарин, вынес на себе почти всю тяжесть идейной борьбы с Троцким?
Развертывается уголовный роман. Участники блока убили Кирова, умертвили Куйбышева, Менжинского, Горького, Максима Пешкова, готовили покушение на Ежова.
Обвинение в терроре стало одним из штампов советского «правосудия». По тому, кого якобы собирались укокошить подсудимые, можно было догадаться, кто сейчас ближе всего к пирогу, В июне-июле 25-го года был на живую нитку сметан процесс трех немецких юношей, которых советская печать называла «немецкими фашистами». Одно из предъявленных им обвинений: они намеревались совершить ряд террористических актов, в первую очередь – «против тт. Сталина и Троцкого». В 27-м году в числе 20-ти был расстрелян Соломон Наумович Гуревич. Он, как сказано в приговоре, «пытался совершить террористические акты против тт. Бухарина, Рыкова и Сталина…»
И судьи все те же. Председательствует на суде над «антисоветским право-троцкистским блоком» Ульрих. Государственный обвинитель – Вышинский.
Но на сей раз не по нотам разыгрывается процесс – это чувствуется даже по выутюженному отчету, резко отличавшемуся от стенограммы.
На первом же утреннем заседании 2 марта Николай Николаевич Крестинский заявляет:
– Я троцкистом не был.
В его разговоре с Бессоновым «не было ни одного звука о троцкистских установках».
– …Я не входил в состав троцкистского центра, потому что я не был троцкистом.
– …Я был троцкистом до 1927 года.
– …я заявляю, что я не троцкист.
А на вечернем заседании 3 марта Крестинский заговорил по-другому:
– Вчера, под влиянием минутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых, и тяжким впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен.
……………………………………………………………………………………..
– Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично ко мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенные мною измену и предательство.
Чистая работа…
На том же заседании Алексей Иванович Рыков признался не только в том, что он «боролся… главным образом против политики партии в отношении к крестьянству», но и в том, что его блок «поставил своей задачей насильственное свержение советского строя путем измены и путем соглашения с фашистскими силами за границей».
Вышинский. На каких условиях?
Рыков. На условиях расчленения СССР, отторжения национальных республик.
В уголовный роман вплетаются все новые и новые сюжетные мотивы. Крестинский понесся вскачь. На вечернем заседании 4 марта он докладывает о том, что связь его и Троцкого с германским рейхсвером завязалась еще в 21-м году.
Сам собой напрашивается вопрос: что же, эти люди сидели по царским тюрьмам и томились в ссылке с мечтою о том, что едва они захватят власть, как тотчас примутся распродавать Россию иностранным державам? И куда же смотрел Ленин? Из кого же состояла верхушка его партии? Как же он, при всей своей «гениальности», дал себя окружить шпионами, террористами и диверсантами? А может, он и сам затеял Октябрьский переворот ради того, чтобы расчленить Россию?
Крестинский валит на мертвых: говорит о связи блока с «группой Тухачевского»; заодно приплетает и Рудзутака.
Теперь, когда «группа Тухачевского» реабилитирована, когда в честь «маршала Тухачевского» переименованы улицы, малый ребенок поймет, что все процессы тех лет – небылицы, представленные в лицах.
Смелее всех держится Николай Иванович Бухарин. Видимо, главным образом, из-за него, из-за его мужества так долго – около года – готовили этот спектакль.
На обработку Радека и Пятакова понадобилось вдвое меньше времени.
Даже если не знать бухаринского более или менее здравого и гуманного взгляда на крестьянский вопрос, даже если не вспомнить, что в 36-м году ни он, ни Рыков ради спасения своей шкуры не написали в газетах ни единого слова, чернящего их бывших товарищей по партии – Каменева и Зиновьева, нельзя не проникнуться к Бухарину состраданием. А ведь на него особенно лихо наскакивает Вышинский.
Вечернее заседание 5 марта.
На вопрос Вышинского о том, в чем заключалась связь Бухарина с австрийской полицией, Бухарин ответил так:
– Связь с австрийской полицией заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии.
И добавил:
– Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме.
7 марта на вопрос Вышинского:
– …не угодно ли вам признаться перед советским судом, какой разведкой вы были завербованы – английской, германской или японской?
Бухарин ответил:
– Никакой.
Так перед советским судом не держался ни один участник «блоков».
Нет, не по нотам разыгрывается процесс. Неожиданно портит музыку доктор Казаков – пытается отрицать, что он умерщвлял Менжинского.
Вышинский не находит ничего лучшего, как попросить суд прервать заседание.
В уголовный роман вводятся эпизодические лица: находящийся в заключении свидетель против Бухарина эсер Камков; оглашаются заключения медиков, утверждающих, что Казаков своими «лизатами» мог отравить Менжинского.
Вышинский ни с кем из подсудимых не разговаривал в таком хамско-издевательском тоне, как с Бухариным. Он бросает ему: «…ваш дружок Рыков», Бухарин говорит о реставрации капитализма в России; Вышинский ввертывает: да, да, мол, расскажите, расскажите, это же ваша специальность. Бухарин ссылается на «Логику» Гегеля. Вышинский просит суд разъяснить Бухарину, что он не философ, а преступник.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.