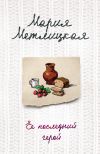Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
………………………………………………………………………………….
…«волны с Волги бились в дали»… Волны реки не могут биться в «дали», даже если «дали» рифмуются с «мечтали»… Нельзя затем «вонзить гневный мозг» – даже если «мозг» рифмуется с «розг»… Не меньшее недоумение испытывает читатель, когда читает:
Орел двуглавый крылья штопал,
Спасая шкуру от крестьян.
Во-первых, крылья нельзя штопать даже тогда, когда «штопал» рифмуется с «Севастополь». Кроме того, орел, даже двуглавый, не может спасать «шкуру», ибо у орла, даже у двуглавого, шкуры не бывает.
………………………………………………………………………………….
Почуяв правду, разночинец,
Как озверевший в клетке лев…
Это – набор пустых слов… лев – озверел. Ему и звереть не надо – на то он и лев.
………………………………………………………………………………….
А доктор Маркс, насупив брови,
Впивал в усатые уста
Цепной России говор вдовий,
Чтоб Чернышевского читать.
…Почему уста доктора Маркса усатые? Почему он этими «усатыми устами» «впивал» «говор» и именно «вдовий» – это тайна за семью печатями. Все это напоминает капитана Лебядкина, который тоже писал стихи…
Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства…
Капитан Лебядкин чувствовал здесь некоторую неслаженность. Он поэтому объяснял, что мухоедство – это «когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство». Но Сергей Городецкий никакой неслаженности в своем стихотворении не чувствует и никаких объяснений, естественно, не дает.
Я вспоминаю другое стихотворение того же Лебядкина:
Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната,
И вновь заплакал с горькой мукой
По Севастополю безрукий.
И это стихотворение вызывает меньше недоумений… чем приведенные вирши Городецкого. Но стихи Лебядкина – пародия. Достоевский издевался над стихомелей… И, однако, капитан Лебядкин, оказывается, умел писать стихи не хуже, чем наш прославленный поэт.
Но ведь Городецкий, книгу которого когда-то ценил Хлебников, Городецкий, некогда гремевший как автор «Яри» и «Перуна», Городецкий был в самом деле настоящим поэтом. Для примера напомню его знаменитое стихотворение «Сретенье царя».
Как безукоризненно, с технической точки зрения, оно было сделано! Какой в нем был пафос, какая плавность стиха, какая точность эпитета! Я не говорю об «идеологии» этого стихотворения – монархической и реакционной; с точки зрения теории «социального заказа» в этом нет ничего зазорного; таков ведь был «социальный заказ» той эпохи. Изменилась эпоха – изменился заказ. Городецкий из монархиста сделался попутчиком – очень хорошо! Пожмем руку Городецкому! Он вместе с нами идет к коммунизму – что ж! – . Тем лучше для Городецкого! И упрекать его в том, что, как поэт, он когда-то выполнял «заказ» царя, – я не буду. Но я хочу сказать, что если из поэта монархии Городецкий сделался поэтом революции, он должен каждой строкой своей показывать, что этот переворот не поверхностен, что «социальный заказ» выполняется им не за страх, а за совесть, что смена точки зрения у него произошла не механически, а органически…
Сравнивая же «Сретенье царя» со стихотворением «Памяти Чернышевского», мы видим, что «заказ» царя Городецкий выполнял хорошо, а «заказ» пролетариата выполняет из рук вон плохо… Он как будто разучился писать. Потерял поэтическую форму. Но мы форму не отделяем от содержания. Мы ставим эту форму в теснейшую связь с содержанием. И если поэт Городецкий, умевший находить и эпитет, и рифму, и образ, и соответственный размер для стихотворения, когда выражал монархические чувства, потерял это уменье, как только ему пришлось выражать чувства революционные, – мы говорим: революционное содержание чуждо его сознанию… он неискренен, и, каковы бы ни были идеологические мотивы его стихов, и сколько бы славословий они ни содержали по адресу «творцов» Октябрьской бури, «советских веков» и т. д. – перед нами не литература» а макулатура.
……………………………………………………….
Дело не в том, что Городецкий когда-то был не с нами. Суть в том, что сейчас его поэзия – не наша, не революционная, лживая, натянутая, ходульная.
Полонский совершенно прав, когда называет Городецкого – автора «Яри» и «Перуна» – настоящим поэтом. Он совершенно прав, когда обвиняет его в махровом приспособленчестве. Он не прав лишь, когда утверждает, что Городецкий утратил чувство поэтической формы после революции, Городецкий утратил ее после первых же двух книг. И современники это заметили и отметили. По прочтении его книги «Ива» Блок записал в дневнике: «…вчера я читал: “Иву” Городецкого, увы, она совсем не то, что с первого взгляда: нет работы, все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят самоценно – большая же часть оставляет равнодушие и скуку».
Городецкий-поэт неуклонно рос книзу. Безвкусица, словесное недержание, недоработанность, неточность и необязательность словоупотребления – все это трупными пятнами кое-где проступает уже в «Яри» и в «Перуне». А в последующих дореволюционных книгах Городецкий радует читателя отдельными словосочетаниями, реже – отдельными строфами и еще реже – отдельными стихотворениями. И что уж так превознес Полонский «Сретенье царя»? Разве чтоб побольнее уязвить Городецкого? Оно написано более или менее гладко, в нем почти нет бессмыслиц – вот и все его преимущества перед стихами «Совгородецкого». Но в нем полным-полно штампов:
Из церкви доносилось пенье…
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье,
К народу тихо вышел Царь,
Что думал он в тот миг великий,
Что чувствовал, Державный, Он,
Когда восторженные клики
Неслись к Нему со всех сторон?
Какая сказочная сила
Была в благих Его руках,
Которым меч судьба вручила[58]58
«Вручила рукам» (!).
[Закрыть]
На славу нам, врагам на страх!
Как море в мощный час прилива,
Народный хор не умолкал,
И Царь, внимая терпеливо,
Главу ответно наклонял.
К нему невидимые нити
Из всех сердец неслись, горя[59]59
Почему Вяч. Полонский не обратил внимание на «горящие нити»? Что проку было бы от них дарю? Горящая нить мгновенно сгорает, и, кроме дыма и неприятного запаха, от нее ничего не остается.
[Закрыть]…
Так в незабвенный час событий[60]60
Что значит «час событий»?
[Закрыть]
Свершилось сретенье Царя.
Будем же справедливы: «социальный заказ» царя Городецкий выполнил не выше, чем на тройку с минусом.
Графоманией он заболел давно. Разница между предреволюционным и послереволюционным Городецким та, что до революции Городецкий все-таки был, а после революции сплыл.
такая пошлая абракадабра стала для «перестроившегося» Городецкого не отклонением, а нормой.
Вот концовка стихотворения «Сергею Есенину»:
Сломались брови на ветру.
«Любопытен я знать», каким это образом брови могут ломаться, да еще от ветра.
А вот две строфы из стихотворения «Валерию Брюсову»:
Когда как мертвых листьев шорох
Был слог, был звук, был лепет слов,
Запушенных в шаманьих шорах[62]62
Здесь и далее курсив мой. – Я. Л.
[Закрыть],
Свое он начал ремесло.
Да. Помним. Заласкать мещане
Хотели бронзу, сталь и медь,
Чтобы от их проржавых тщаний
Гортани гневной онеметь.
……………………………….
Кликуши плакали и выли»
Освистывали пьедестал
И злобой харкали – не вы ли,
Кто нынче в гроб ему рыдал?
Я приводил примеры из лирики. Не угодно ли, на закуску, пример «космически – любовной» патетики из поэмы «Шофер Владо»:
Благословен громовый час,
Когда любовь грохочет в нас,
Достигнув огневых высот,
Где солнце сладострастья жжет…
Клавдия Николаевна Бутаева вспоминала, что когда Андрей Белый возвращался домой радостно возбужденный, то на ее вопрос: «Что произошло?» – ответ был почти всегда один и тот же:
– Городецкого отругал!
При этом Андрей Белый взмахивал тросточкой.
…Молодость не требовательна, молодость не щепетильна, молодость не брезглива. Моего современника Городецкого я старался не замечать. После того как на раннюю его поэзию обратил мое внимание Багрицкий, автора «Сретенья царя» и «Красного Питера» заслонил для меня творец «Яри» и «Перуна», проложивший в русской поэзии свою тропу. Но вот что удивительно: Городецкий почти ничего любопытного не мог мне сообщить о племени великанов, среди которых он жил перед революцией!
Что держится у меня в памяти из бесед с Городецким? Хорошая его черта – полное отсутствие кастово-акмеистского духа, коим пропитались даже Ахматова и Гумилев. В отличие от Ахматовой Городецкий высоко ценил поэзию Брюсова. Особенно высоко, если говорить о символистах, поэзию Блока и Сологуба. Он ставил в заслугу символистам то, что они довели до возможной степени совершенства певучесть стиха, то, что они прививали стиховую культуру молодежи.
– Даже маленькие поэты писали тогда с профессиональным уменьем, не то, что нынешние, и малые и даже некоторые почитающиеся большими, – говорил Сергей Митрофанович. – Вам не попадались в антологиях или в «чтецах-декламаторах» стихи Якова Година? Попадались? А что? Ведь недурно? Безыменскому и Жарову так не написать. Дудки!
Городецкий не из прихоти перешел от символистов к акмеистам. Буйная красота Земли – лейтмотив его лучших стихов. От них пахнет деревней, древней, языческой, но деревней. Вот почему его внимание привлекали деревенские поэты. Вот почему он до революции издал собрание стихотворений Никитина. И с восхищением читал мне его:
Лысый, с белой бородою,
Дедушка сидит,
Чашка с хлебом и водою
Перед ним стоит.
Бел, как лунь, на лбу морщины,
С испитым лицом.
– Как будто бы проще простого, – комментировал Городецкий. – А перед вами целая картина.
Поэзия раннего Городецкого – поэзия сказочная и певучая («Нету яре и звончей песен Городецкого»). Корнями она уходит в народный эпос. Древнерусская словесная и звуковая стихия пленяла его в Хлебникове. Народность и песенность он превыше всего ценил в таких поэтах, как Никитин, народностью и песенностью его радовало творчество молодых крестьянских поэтов – творчество Ширяевца, Клычкова, Клюева, особенно – творчество Есенина. С ними он в свое время носился, их в свое время пестовал и нянчил. И он имел право сказать о себе в стихотворении «Мой сад» как об их учителе:
В первые годы революции, когда Советская власть рада была всякому, хотя бы и с многочисленными оговорками «признавшему» ее интеллигенту, Городецкий преуспевал. Он чуть ли даже не заведовал литературным отделом в «Известиях», во всяком случае играл там какую-то роль. Но постепенно его оттерли. Его печатали из милости.
Еще до знакомства с ним я слышал, что после того как в 14-м году «Нива» напечатала стихотворения Городецкого «Подвиг войны» и «Сретенье царя», Николай Второй прислал ему в подарок золотое перо. Городецкий сам заговорил со мной об этом событии в его жизни, но, конечно, приврал, изобразив из себя фрондера:
– Ко мне приехал с царским подарком свитский генерал, во я его не пустил и подарка не взял. Весть о золотом пере быстро разнеслась по Петрограду. О награде говорили все, а что я ее не принял – об этом двор молчал. Ну, а потом мне это золотое перо боком вышло. Из-за него меня поначалу в Союз писателей не приняли. Я поехал к Горькому, ждал его несколько часов – так меня до него разные Крючковы и не допустили. Тогда я ему написал письмо. Горький прочитал и сказал: «Кто Богу не грешен, царю не виноват!» И меня все-таки приняли. А как я нуждался! Если бы вы знали, как я нуждался! В иные дни буквально на кусок хлеба денег не было. Ложишься спать и просыпаешься с мыслью, где бы достать, где бы перехватить.
В конце концов ему позволили переводить, и он скучно и нудно, «без божества, без вдохновенья» (это вам не переводы Пастернака с грузинского), переводил Купалу и Коласа. Позволили редактировать переводы. Незадолго до юбилея Руставели ему поручили срочно отредактировать трухлявый перевод «Витязя в тигровой шкуре». В сущности, Городецкий переписал этот перевод за Нуцубидзе.
Взбираться на кручу «Витязя» может только первоклассный альпинист. И как же намучился с Нуцубидзе Городецкий!
– Нуцубидзе знает русский язык, как я – язык австралийских людоедов, – жаловался он. – Вот вам пример: «Собралися на погосте…» Собрались на погосте, а пируют. Что-то, – думаю, – не то. Спрашиваю: «Как вы понимаете слово “погост”?» «А это, – говорит, – они пришли в гости». Недурно? И все в таком роде.
Позволили Городецкому и сочинять либретто опер. Он написал новое либретто для оперы Глинки «Жизнь за царя» (новое название – «Иван Сусанин»), для оперы Чайковского «Чародейка». Но к нему, пользуясь властью художественных руководителей, пристраивались Самосуды, их фамилии, как фамилии соавторов либретто, значились на афишах рядом с фамилией Городецкого, и часть поспектакльных шла Самосудам. Кстати, в Москве, в Большом театре, Самосуд так дирижировал «Сусанина», что его дирижерское искусство москвичи называли «самосудом над Глинкой».
Осенью 39-го года я перечитал в Тарусе «Ярь» и «Перуна» и пришел в дикий восторг. Ярилы, Перуны, Стрибоги, Чертяки, Колдунки, Светозоры, Купалокалы – все это для меня родным-родное!
Под непосредственным впечатлением от «перечтения» ранних стихов Городецкого я написал ему письмо.
Он мне ответил:
17. IX.39 г.
Дорогой Николай Михайлович!
Спасибо за ласку. Поменьше б меду, и было б правда. 33 года тому назад ничто не могло меня больше взбесить, чем установка в ряд с Ремизовым. Хоть он и вышколил Толстого, Пришвина и Чапыгина, но школы не создал, п(отому) ч(то) не творил язык органически, а составлял его из слов, да и слова (новотворки) составлял, а не творил, как Брюсов.
Вот вы все медовствуете, а Союз писателей все дегтем мою телегу мажет; думает, так лучше поеду. Расскажите Фаддееву[64]64
Так у Городецкого. – Н. Л.
[Закрыть], что Вы мне рассказывали о моих учениках и питомцах. А то провели совещание о работе с молодежью, а я даже не знал. Заорганизовали это дело так, что ничего живого в нем не осталось, и опять будут расти не писатели, а двадцатилетние старички-гелертеры, «одевающие» очки и «использовывающие» Даля.Мало этого. Создали юбилейную комиссию по Лермонтову. А того, через кого лермонтовская тоска по счастью и скованное бешенство бунта перешли в русскую поэзию XX в. – забыли. И опять будет безотносительное к нуждам нашей поэзии юбилействование, как с Пушкиным.
И этого мало. Вот сейчас смотрю на свою фотографию у двери Мгера и вспоминаю своя беседы с Ов. Туманяном о Давиде Сасунском, свою кровную дружбу с армянским народом. И вот в Эреван-то не я поеду! Кто да кто?!
Вам может показаться, что мне стало сто лет, и я разбрюзжался. Нет! Просто меня бесит, когда мне не дают делать настоящее мое дело, и когда вижу, что не так делается, как надо. Советовали мне «умные» люди потоптаться в передней президиума Союза писателей, за петличку знатных людей подержаться, – не умею.
Ко всем этим удовольствиям еще расхворался. 18-го на авиапразднике промок и высох на ветру, и раскупорились легкие, – только начинаю бродить, и надо еще смотреться.
Стихов не пишу, пока не пожелтеют листья. Тогда будут – ландышевые. Комедию пишу потихоньку. Занят статьей о либретто (20 штук!).
С нетерпеньем жду, что Вы отобрали, уважаемый редактор. И как разложите? «Ярь» и «Перун», по-моему, надо отдельно. Приехал бы к Вам, но ведь транспорта-то нет! Серпуховские извощики[65]65
Так у Городецкого, – Н. Л,
[Закрыть] Вам приснились, а на автобус стоят всю ночь, чтоб влезть. Я два раза был в 20 километрах от Вас, и один раз даже выехал в Таруссу[66]66
Так у Городецкого. – Н. Л.
[Закрыть], но «лошадь» стала на первом взгорье. (Это была пожарная лошадь!)Всего Вам доброго и жене вашей!
Городецкий
Городецкий прибедняется, когда пишет мне, что не умеет толкаться в прихожих. На первых советских порах что-что, а толкаться-то он толкался лихо и успешно, но вот потом его самого из всех прихожих вытурили взашей. Вытурили не за несуразности и несообразности, не за нелепые сравнения и уподобления, не за невнятицу и безвкусицу. Это могло коробить только двух – трех настоящих ценителей поэзии с «носами эстета», как сказал про Вяч. Полонского Багрицкий. Вообще же в число советских фаворитов» за редким исключением, попадали и попадают как раз из рук вон плохие стихокропатели. Вспомним хотя бы Безыменского, Жарова, Симонова, Софронова, Недогонова, Грибачева, Лебедева-Кумача. Вспомним хоти бы одну толь-ко песню Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Прндворова, или Ефима Лакеевича, как назвал его в послании к нему безвестный поэт Горбачев, за что в 20-х годах и угодил в Соловки), – песню, написанную в связи с конфликтом между СССР и Китаем (1929) и долго распевавшуюся на всех демонстрациях: «Нас побить, побить хотели…»:
У китайцев генералы
Всё вояки смелые,
На рабочие кварталы
Прут, как очумелые,
Большевицкую заразу
Уничтожить начисто,
Но их дело вышло сразу
Очень раскорячисто.
Такого рода рифмачам все прощается за «идейное содержание», за уменье мгновенно «откликаться» именно так, как в данный момент нужно партии. Простили бы и Городецкому «раскорячистость» его стихов. Уж он ли не лез из кожи, чтобы угодить начальству? Думаю, что пресловутое золотое перо было главной причиной его ссылки на скотный двор.
На меня Городецкий производил впечатление раз и навсегда напуганного человека. Он как бы вывесил над собой флаг: «Я ура-советский гражданин». Даже у себя дома он прибегал к аргументации Крыленко и Вышинского.
Я в высшей степени неделикатно напомнил однажды Городецкому о статье Полонского, Городецкий развил «теорию»: Полонский-де троцкист, а литераторы-троцкисты тем только и занимались, что изничтожали честных советских писателей. Я позволил себе возразить Сергею Митрофановичу, что Полонский ни одного дня троцкистом не был, что на Новодевичьем кладбище стоит памятник Полонскому, на котором начертано: «Член ВКП(б)», а потом задал вопрос: почему же Сергей Митрофанович все-таки счел нужным переработать стихотворение по замечаниям Полонского и убрать почти все «усатые уста»? Ответа не последовало.
Когда речь у нас с ним зашла о том, что станция метро «Площадь Революции» построена неудобно – один людской поток врезается в другой, Городецкий отделался словом «вредительство», которое все еще не выходило тогда из моды и которым выгодно было объяснять любое тяпляпство и головотяпство – у нас, мол, дураков к лодырей почти не бывает, у нас сплошь герои или вредители. Откровенно говоря, это было в Городецком противновато, но зато внушало уверенность, что перед вами не провокатор и не доносчик. А по тем временам без такой твердой уверенности нельзя было заводить новые знакомства.
Часть кабинета Городецкого представляла собой портретную галерею: на стене висели портреты писателей, художников, музыкантов, артистов с дарственными надписями. За годы ежовщняы, – в чем мне признался сам хозяин галереи, – она сильно поредела. При мне Городецкий снял со стены портрет Мейерхольда и разорвал.
Как-то я с разрешения хозяина стал рыться при нем в его библиотеке и напал на роман Сергея Клычкова «Князь мира». (Видимо, Городецкий забыл про него, иначе не миновать бы ему ауто да фе.) Я попросил Городецкого подарить мне «Князя мира» – из прозы Клычкова мне его только и недоставало, а в библиотеке Городецкого Клычков был представлен только «Князем».
– Вам он не нужен, вы же его все равно сожжете, – уговаривал я человека, воплощавшего в одном лице сервантовского священника, цирюльника, племянницу и ключницу. – Ну, вырвите надпись…
Городецкий залопотал, что ему хочется перечитать книгу, что он мне ее подарит в следующий раз, но, конечно, так и не подарил. Получил я ее в подарок спустя, примерно, год, от одного моего приятеля.
В семейной жизни Сергей Митрофанович был страстотерпцем. Его полупомешанную жену время от времени приходилось устраивать в психиатрическую лечебницу. Но и в относительно здоровом состоянии она озадачивала визитеров.
Впервые я пришел к Городецкому днем. Хозяина не оказалось дома: его задержали не то в редакции, не то в театре, и он позвонил, что скоро придет и просит меня подождать.
Хозяйка спросила:
– Хотите чаю?
Я отказался.
– Отрадно слышать, отрадно слышать, – сказала хозяйка.
Очень скоро я удостоверился в ее радушии, много раз потом слышал от нее, что доставляю ей удовольствие отказом от обеда или чая, что, впрочем, всегда являлось прелюдией к угощению, но тут я подумал, что для первого знакомства все-таки, пожалуй, следовало бы соблюдать апарансы.
Потом хозяйка вышла в другую комнату и сейчас же вернулась с пачкой писем.
– Видели? – сказала она, потрясая пачкой. – Это письма мне от Блока. Он был в меня влюблен. В меня и Лядов был влюблен. Все были в меня влюблены. Вы думаете, я вам дам почитать письма Блока? Держите карман шире. Это я только чтобы похвастаться.
Помешалась Анна Алексеевна Городецкая на том, что женщины всего мира стремятся отбить у нее Сергея Митрофановича. Однажды при мне у нее ни с того, ни с сего разыгрался нервный припадок. Меня удивило, что Сергей Митрофанович не разуверял ее, а поддакивал.
Когда ему удалось успокоить ее и увести в другую комнату, он, вернувшись, объяснил мне, что действует так по совету известного психиатра, профессора Ганнушкина: ни в коем случае не перечить ей, сознаваться во всех несуществующих изменах – тогда она скорее утихомирится. До этого печального случая я не представлял себе, что Городецкий может быть так ласков.
К слову о его семейном быте: безвкусица, нет-нет да и просачивавшаяся даже в «Ярь» и в «Перуна», пышным цветом расцвела у него в доме. Его жену за особенную, какую-то сказочную, русалочью красоту то ли он, то ли кто-то еще прозвал Нимфой. Это бы еще куда ни шло. Но она требовала, чтобы ее называли не «Анна Алексеевна», а «Нимфа Алексеевна», и муж поощрял это и называл ее «Нимфик». Дочь свою, тоже красавицу, и тоже из сказки, он вычурно назвал Рогнедой, но в обиходе она звалась «Наяда», «Наечка», «Ная».
Одно место в письме Городецкого ко мне требует пояснения: «С нетерпением жду, что вы отобрали…»
В одну из первых моих встреч с Городецким я сказал, что его «изборник» 36-го года ни к черту не годится, что он не сумел сам себя отобрать, Городецкий согласился. Оказалось, что он задумал новое собрание своих стихотворений.
– Теперь в Гослитиздат, как вы знаете, пришел Чагин. Это мой старый приятель, еще по Закавказью. С ним мне легко иметь дело. Предисловие напишете вы и составление возьмете на себя.
От предисловия я отказался – ведь я мог бы написать только обидное для автора: повесть о том, как он катился вниз, а за составление взялся с превеликой охотой. Все сборники стихов Городецкого я летом 39-го года увез с собой в Тарусу и там начал и закончил отбор.
Как составитель, я пошел по пути, прямо противоположному тому, какой избрал составитель вышедшего в 74-м году в Большой серии «Библиотеки поэта» однотомника стихов и поэм Городецкого Семен Иосифович Машинский. Машинский обкарнал «Ярь» и «Перуна» и завалил их хламом из последующих сборников. Я представил «Ярь» и «Перуна» почти целиком, сильно урезав лишь разделы «Зачало» и «Темь», как наиболее слабые, с основной темой сборников связанные не прочно, а из других сборников брал по несколько стихотворений, если и не с искрой, то хоть с искоркой. По моему замыслу, у читателя должно было сложиться представление о самобытном поэте, авторе «Яри» и «Перуна», затем почему-то сломавшемся и ничего примечательного не создавшем. По молодости лет я в иных случаях проявлял снисходительность. Теперь я был бы жестче. И все же почти ничего компрометирующего Городецкого как поэта, во всяком случае – «Шофера Владо», я в сборник не включил.
Городецкий мой выбор одобрил. Его возражения касались непринципиальных частностей – мне легко было идти ему на уступки.
Помню, я забраковал в «Теми# стихотворение «Городские дети»# Мне не нравилось двустишие с неправильным ударением в слове «роды» и с псевдонародным «во»:
Ваша мать-царица во плену нужды,
Чьи дворцы – подвалы, празднество – роды.
Городецкий выбросил это двустишие и переделал все стихотворение.
Забраковал я и «Шарманку» из того же раздела.
Городецкий удивлял меня тем, что прислушивался к моим мнениям и считался с ними. Может быть, он рассуждал так: «Глас молодости – глас Божий». А тут он по-детски жалобно стал просить:
– Оставьте «Шарманку»! Ну пожалуйста! Она Блоку нравилась.
Я, разумеется, уступил.
Приятель Есенина, большой любитель настоящей поэзии, знавший наизусть лучшую лирику Тютчева (другого такого издателя мне встречать не доводилось), Петр Иванович Чагин недаром заслужил прозвища: «Молодчагин» и «Выручагин». Первое от него впечатление было у меня скорее неприятное: пучеглазый, одутловатый, «рот до ушей – хоть завязочки пришей», нижняя губа чапельником. Вот только улыбался добро. Выручал он писателей в многоразличных бедах. Особенно кипучую благотворительную деятельность развил он во время войны 1941 – 45 гг. – по вызволению литераторов и их семей из эвакуации и по прописке их в Москве. Вызволял он их правдами и неправдами и сам же эти неправды выдумывал, дабы обвести вокруг пальца бюрократов. Теще Богословского, простой старой армянке, жене бывшего купца, он послал вызов из Пензы в Москву как специалистке по древнеармянской литературе.
Нет, не зря из писательских уст в уста ходил чей-то экспромт:
Все мы молодчаги, но
Не перемолодчагить нам Чагина.
Однако «Молодчагин» и «Выручагин» имел еще одно, опасное прозвище: «Обещагин». Он никому ни в чем не отказывал, он всем что-то обещал. Про него сложили побасенку – литератор ему звонит:
– Петр Иванович! Как с моей книгой? Аванс можно получить?
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните через три дня!
Через три дня:
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните через неделю!
Через неделю:
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните через месяц!
И наконец:
– Твердо в плане! Твердо в плане! Звоните на будущий год!
Я пересказал эту побасенку Петру Ивановичу. Он вывернулся:
– Это мне тридцать первого декабря звонили.
«Обещагин» проводил меня и Городецкого за носы до самой войны, придумывая все новые и новые предлоги. То ли ему самому не хотелось издавать Городецкого, то ли он получил «руководящее указание».
Война разлучила меня с Городецким. Он со своими Нимфой и Наядой отбыл в Среднюю Азию. А после войны по многим причинам я сузил круг знакомств. На издание сборника стихотворений Городецкого я уже не очень надеялся. Осенью 45-го года из Гослитиздата ушел Чагин: ведь он все-таки был хоть и не очень верным, но единственным благоприятелем Городецкого в издательстве. После доклада Жданова (1946) нечего было и думать о переиздании хотя бы урезанной «Яри» и урезанного «Перуна», а без них какой же это Городецкий?.. Между тем последнее время только хлопоты по изданию книги Городецкого и связывали меня с ним. Интерес к нему самому я утратил – и перестал бывать в годуновских палатах.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.