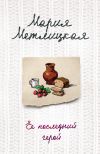Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
– Ты знаешь» как я люблю Станиславского: Станиславского-актера, Станиславского-режиссера, Станиславского-человека. Мы были с ним очень близки, и с ним, и с Марьей Петровной. Два лета провели вместе за границей, и Станиславский первые мысли о своей системе диктовал Эфросу. И все-таки я вот что тебе скажу: когда в спектакле Малого театра принимали участие Мария Николаевна, Ольга Осиповна Садовская, Лешковская, Ленский, Южин, Михаил Провыч Садовский, то ни-ка-кой Станиславский им был не нужен. Они несколько раз сойдутся, пошепчутся, и у них рождаются такие дивные спектакли, как «Таланты и поклонники», «Волки и овцы». Это уж, милый мой, не гастрольные выступления, как ты выражаешься, Ермоловой в «Орлеанской деве», это был самый настоящий ансамбль.
В те годы пластинок Шаляпина, ни до-, ни послереволюционных, мне слышать не доводилось. Ахматова, Пастернак еще не набрали ту высоту, какой они достигли после войны. Живопись Нестерова упрятали в запасники Третьяковской галереи, и я открыл ее для себя тоже в послевоенные годы. Хора Гайдая в Киевском Владимирском соборе тогда не существовало, да и собор-то был закрыт. Ради этого хора я стал ежегодно ездить в Киев уже в 50-х годах. Тогда я гордился только тем, что я – современник Бунина (Сергеев-Ценский к этому времени увял), автора «Дней Турбиных», Качалова и Леонидова. Но окно в Европу советская власть замуровала, вести о Бунине-человеке до меня почти не доходили, а Качалов и Леонидов притягивали меня к себе и как великие артисты, и как личности, меня занимало ближайшее их окружение, и я расспрашивал о них наших общих знакомых.
Дочь Леонидова Ася – моя младшая подруга по Институту – внешне представляла собой девичий смягченный вариант отцовского лица. Глаза у нее были отцовские по цвету, но без их бездонной жути. Об отце в домашней обстановке она почти ничего не сумела мне рассказать. Запомнилось лишь, что он – нелюдим, почти ни у кого не бывает и к себе почти никого не зовет; что он репетирует роль, запершись у себя в кабинете; что она с риском получить нагоняй подглядывает в щелочку, как он репетирует Егора Булычева; что он волнуется, когда ее нет дома, и частенько заходит за ней к подругам, чем приводит ее в немалое смущение; что ему хотелось бы держать ее под стеклянным колпаком и что он скрепя сердце позволил ей поступить сначала на подготовительные курсы в наш институт, а потом и в самый институт; то, что она теперь студентка, его не радует, а огорчает. Недавно он сделал ей за столом замечание: «С тех пор, как ты поступила в институт, у тебя появились дурные манеры». О том, что Леонидов собирает часы, о том, что он – пушкинист, что он – обладатель богатой пушкинианы, что он постоянный посетитель собеседований пушкинистов, – об этом я узнал позднее и не от Аси. О себе Ася говорила, что больше всего на свете любит отца, кошек и церковное пение, Я любил многое другое, но все три Асины любви принимал и разделял.
С Леонидовым-человеком Надежда Александровна была далека, О Леонидове-актере она писала в своих воспоминаниях» пожалуй, лучше, чем кто-либо: «Я не могу представить себе Митю Карамазова иначе, чем его играл Л. М. Леонидов. Он до предела совершенства воплотил образ Достоевского. Не могу себе представить, что можно еще лучше передать переживания мятежной, больной, прекрасной души Мити. Точно вчера только лились на меня из его безумных горящих глаз пронзающие сердце лучи. Необыкновенное лицо и голос Леонидова выражали взрывы страсти, мученья совести, вспышки гнева и возмущения. Он потрясал. Это была настоящая трагедия, при воспоминании о которой через тридцать лет бьется сердце и рвутся из души слова глубокой благодарности театру и актеру…»
О Качалове-человеке я слышал много и одно лишь хорошее. Больше, чем от кого-либо, – от Маргариты Николаевны. Ее рассказы о Качалове, которого она называла «слезой народной», я приводил в своем месте. Гейрот с почти собакевичевской мизантропией говорил мне, что после смерти Станиславского Художественный театр исподхалимничался вдрызг перед Немировичем, Немирович исподхалимничался вдрызг перед начальством, и театр с головокружительной быстротой летит к чертовой матери, что среди актеров осталось только два прекрасных человека: Качалов и Книппер.
– Но Василий Иванович устал от всяких мерзостей и часто закрывает глаза, – добавил Гейрот, – а Книппер все еще с молодой горячностью бросается в бой.
Впечатления Гейрота подтверждаются словами самого Василия Ивановича из его письма к С. Н. Зарудному, написанного в 40-м году (журнал «Театр» № 2 за 1975 год): «…вообще я к театру совсем охладел».
Замечу в скобках, что у нехудожественников взгляд оказался еще шире.
22 июня 74-го года я был у Ильинского. Признался, что разлюбил театр.
– Я тоже, – подхватил Ильинский. – В начале века Станиславский создал великий театр. А когда он умер, не стало Художественного театра, не стало театра во всей России. Я время от времени спрашиваю по телефону Кторова: «Ну как у вас в театре?» Обычно он отвечал: «Бардак». А в этом году: «Бардачище».
– Ну, а Театр на Таганке, «Современник»? – спросил я.
– Кое-что интересно, но вот что стало для меня теперь критерием: даже и это интересное не тянет пересмотреть, А сколько раз я мог бы смотреть Грибунина, Варламова или Чехова!..
Расспрашивал я о Качалове, о Литовцевой и Надежду Александровну.
– С Васей я дружнее, чем с Ниной, – сказала она. – Но заботится-обо мне больше Нина. Когда бы я ни приехала в Москву, она всякий раз меня спрашивает, не нужно ли мне денег. Нина умна, талантлива, отзывчива. У нее один-единственный недостаток: несчастный характер, и характер портит жизнь прежде всего ей самой, а потом – Васе, которого она обожает.
Мысль написать книгу родилась у Надежды Александровны в начале нашей дружбы. Когда я приезжал в Тарусу, она обычно читала мне новую главу. Главу о Качалове она дала ему прочесть в Москве. Качалов, как рассказывала мне Надежда Александровна, поморщившись, попросил ее выбросить все, что она пишет об его общественной деятельности. «Пусть об этом пишут другие, если хотят, а тебя я прошу не писать», – с мягкой настойчивостью заключил Василий Иванович. В машинописном тексте он сам вычеркнул все это карандашом.
Я выразил изумление. Некоторые выступления Качалова в печати я принимал за чистую монету. Я объяснил их чисто актерской близорукостью. Мне припоминался рассказ Теппера. В годы гражданской войны на Украине он играл в бродячей труппе. Однажды труппа пошла играть пешком в соседний городишко. Город, который являлся их базой, был в руках красных. Пока они лицедействовали, город этот перешел в руки белых. Возвращаются они восвояси. Их останавливает патруль:
– Вы за красных или за белых?
– Мы? Мы – актеры.
– Ну, актеры, – тогда проходите.
Я задал Надежде Александровне вопрос:
– А как же мне Коля Зеленин в двадцать шестом году говорил, что Качалов еще до революции тяготел к социал-демократии и что в общем он сейчас настроен советски?
– Милый мой! Да ведь когда это было! Двадцать шестой год – пожалуй, самый тихий год НЭП’а. Тогда шла внутрипартийная склока – нас она не касалась. Тогда еще можно было надеяться на лучшее, что возврата к террору не будет. Не один Вася – большинство из нас в дураках осталось… Вася – контрик… вот такой же, как ты, – добавила Надежда Александровна, очевидно, для того, чтобы я яснее представил себе размах качаловской «контровости». Вася – гуманист. Ежовщина его доконала.
Многое из того, что Надежда Александровна рассказывала мне о театральной провинции, о Театре Корша, о Малом, о Художественном, о студии Малого театра, об Эфросе, вошло в ее книгу. К сожалению, книга получилась неровная. Порой автор сбивается на трафарет, картинные описания игры актеров перемежаются общими местами. Иным Смирнова подбавляет краснины – это беда почти всех наших мемуаристов, рассчитывающих на скорый выход книги. Надежда Александровна революционизирует Эфроса. Она умалчивает о том, что Эфрос был видный кадет, и по одному этому, не говоря уже о мягкости его душевного склада, о его человеколюбии, которое отмечают все, о нем писавшие, он не мог принять военный коммунизм как предверие Золотого века. Работал он гораздо больше, чем до революции, чтобы не умереть с голоду: тогда в чем большем количестве новоиспеченных учреждений человек числился, тем больше получал пайков; работал увлеченно, но не потому, чтобы вдруг заобожал большевиков, а потому, что театром жил и дышал всю свою жизнь, а также в силу своей интеллигентской добросовестности: взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Совсем слаба в книге глава о Качалове. Глава о студии Малого театра попросту скучна. Студия Малого театра (или Новый театр) – это один из сверкнувших после революции мыльных пузырей, отличавшийся от других тем, что он долго держался в воздухе.
Кое-что вычеркнули у Надежды Александровны редактора. Я помню ясно, что Надежда Александровна писала о том, как хорошо играли артисты Художественного театра (Качалов, Лилина, Массалитинов) в пьесе Мережковского «Будет радость». Но книга Надежды Александровны вышла вскоре после речи Жданова, где Мережковский был упомянут в далеко не лестном для него контексте, и все о «Будет радость» из книги вылетело.
Обеднила книгу Надежда Александровны и другая беда, подстерегающая мемуаристов, пишущих не в стол, а для печати: боязнь обидеть живых.
Надежда Александровна так и не выполнила наказа Массалитиновой «всыпать Саньке Яблочкиной». А впрочем, попробовала бы она всыпать! Это только при царе Боборыкин мог, сколько его душе угодно, ругать Ермолову, а Кугель – Художественный театр. Какая советская газета или журнал пропустят выдержанную в самом учтивом тоне, но не хвалебную статью о ком-либо из бывших или настоящих фаворитов? Вот и пришлось Надежде Александровне, – чтобы не обидеть, с оглядкой на цензоров и редакторов, – гримировать своих современников, и некоторых из них я в ее книге не узнал: до того они вышли не похожими на тех, какими она их изображала в устных рассказах.
Словом, книга воспоминаний Надежды Александровны меня разочаровала. Когда она читала мне ее вслух, ее интонации, мимика, жесты дорисовывали то, чего я потом не обнаружил в книге. Надежда Александровна не была наделена писательским даром в той мере, в какой, неожиданно для них самих, он проявился у Станиславского, у Юрьева, у Шверубовича. Надежда Александровна была наделена великолепным даром рассказчика. По сравнению с ее рассказами, поражавшими безысходной драматичностью или комической остротой положений, рассказами, в которых портретная живопись не уступала в яркости речевым характеристикам персонажей, ее книга – выцветшая фотография, притом сделанная фотографом-любителем.
И все-таки мое первое впечатление от книги воспоминаний Смирновой нуждается в поправке. Тогда еще слишком свежи были мои впечатления от ее рассказов. При первом чтении штампы и полуправда заслонили от меня иные ее мысли, которые и не снились нашим мудрецам-театроведам. Вот с какой исчерпывающей краткостью пишет Смирнова о том, что давала зрителям игра Ермоловой: в тот вечер, когда играла Ермолова, «зритель становился выше, добрее и умнее».
Не одна Смирнова писала о том, что Ермолова перед выходом на сцену крестилась. Но никто так верно не истолковал этого ермоловского обычая: «В ту минуту, когда она (Ермолова. – Н. Л.) слышит произнесенные на сцене слова, после которых ей надо выходить, она быстро крестится и отворяет дверь. Мария Николаевна была человеком глубоко верующим, и, крестясь, она как бы призывала благословение Бога на то великое дело, которое Он поручил ей на земле».
Всплывают в моей памяти не вошедшие в книгу Надежды Александровны существенные «мелочи театральной жизни», о которых я узнал от нее. Во время одного из наших разговоров о театре я спросил Надежду Александровну, согласна ли она с формулой Эфроса из его монографии о Художественном театре: Станиславский – фантазия Художественного театра, Немирович-Данченко – его мысль.
– В общем это верно, – ответила Надежда Александровна. – А ты знаешь, Немирович-Данченко обиделся за это на Николая Ефимовича!.. Немирович-Данченко – блестящий организатор, большой режиссер (ведь это он поставил «Братьев Карамазовых», один, без помощи Станиславского, Станиславский был тогда серьезно болен), в прошлом – с тонким литературным вкусом, но это маленький человек, физически и нравственно! Ты читал его книгу «Из прошлого»? Как плохо! Вот-те и писатель! И все он, все он. Станиславский – так, между прочим. А какого он себе поклонения требует теперь, после смерти Станиславского! Марья Петровна Лилина беспристрастна. Она мне как-то сказала (Надежда Александровна произнесла слова Лилиной медленно и чуть-чуть в нос): «Если бы не Владимир Иванович, мы с Костей так бы до сих пор и репетировали “Царя Федора”», И сколько раз бывало так, – продолжала Надежда Александровна, – это уж я от Эфроса и от Качалова знаю: актеры вложили в свои роли на репетициях все, что могли, – дать перестоять траве так же плохо, как скосить ее раньше времени, – а у Станиславского фантазия только-только разыгрывается. Приходит на репетицию Немирович. Смотрит. Спрашивает: «Ну как, Константин Сергеевич?» – «Налазывается». (В жизни Станиславский слегка пришепетывал, на сцене это у него исчезало.) Через несколько дней Немирович – бац афишу! Премьера тогда-то. У Константина Сергеевича температура под сорок, но ничего не поделаешь, выпускать спектакль надо. Марья Петровна не отрицает заслуг и достоинств Немировича. Но каково ей слушать его речи!.. Осенний сбор всей труппы. Год тому назад умер Константин Сергеевич. Немирович не находит ничего тактичнее, деликатнее и умнее, как сказать: «В прошлом году Художественный театр понес две тяжелые утраты: во-первых, умерла моя жена, которую недаром называли Маскоттой Художественного театра, а во-вторых, умер Константин Сергеевич». Он просто одурел от старости и от зависти к уже усопшему Станиславскому. Знаешь, какую фамилию ему дали? Неумерович. Москвин, старик, гениальный артист, трясся на сборе труппы, как собачонка под дождем: не произнести несколько слов о Станиславском старейшему артисту труппы стыдно, произнести – как бы не впасть в немилость у Немировича. Я сказала Лилиной: «Марья Петровна, дорогая, не расстраивайтесь! Константин Сергеевич смотрит оттуда, улыбается и говорит: “Дураки вы, идиоты! Вы думаете, мне обидно? Да нисколько! Если б вы знали, как это все неважно по сравнению с тем, как я здесь счастлив!”»
Наезжая время от времени в Москву, Надежда Александровна смотрела интересовавшие ее премьеры. Очень хвалила Бендину за Дорину из «Тартюфа»:
– Наконец-то дали актрисе настоящую роль – вот она себя и показала! А сколько сезонов такая чудная актриса не получала новой роли!
Ругательски ругала Надежда Александровна «Последнюю жертву» в Художественном театре:
– Москвин – злая горилла, а не Флор Федулыч. Тарасова – истеричная кухарка, которой изменил кум пожарный. Хорош один только Топорков в роли Дергачева. А вообще бознатыпто!
Надежда Александровна опекала тарусских любителей. Почти все постановки тарусского драмкружка были осуществлены ею или с ее помощью. Она предъявляла любителям требования, как профессионалам, боролась с безответственностью, с халтурой.
На другой день после какого-то спектакля Надежда Александровна со свойственным ей беззлобным гневом отчитывала пришедших к ней молодоженов, игравших главные роли и вообще занимавших в труппе первое положение.
– Если так будет у вас идти дальше, если кто-нибудь хоть раз посмеет не явиться или хотя бы опоздать на репетицию, дуть под суфлера, то я вам больше не режиссер. В уборных у вас бознатьшто: окурки, бумажки, кровавая вата, как у женщин во время месячных. Фу, гадость какая! Это называется театр! Нужник это, а не театр! Общественный нужник! Вот вроде того, который на станции Тарусская.
Жившая летом в Тарусе на своей даче писательница Софья Захаровна Федорченко давным-давно видела Надежду Александровну в нескольких ролях, когда Надежда Александровна играла еще в Киеве, в бывшем театре Соловцова. Софья Захаровна утверждала, что весь театральный Киев, в том числе и она, был влюблен в Смирнову.
Летом 39-го года я попросил Надежду Александровну устроить домашний концерт. Он состоялся на даче у Маргариты Николаевны и Татьяны Львовны. Надежда Александровна готовилась к нему как к публичному выступлению, хотя публики было – «ты да я да мы с тобой». Играла она без грима. Костюмы только отдаленно намекали на эпоху и на положение действующих лиц. В первом отделении мы увидели Надежду Александровну в сцене Марии Стюарт с Елизаветой – обе роли она играла в театре. Эта сцена мне почему-то видится тускло. Во втором отделении она сыграла сцену царицы Марфы из хроники Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», – эту роль она тоже играла в театре.
И тут я в первый и в последний раз увидел актрису-героиню, актрису с трагическим темпераментом.
Через порог шагнула старуха в полумонашеском одеянии. В выражении ее лица, во взгляде, ушедшем внутрь, в полупотухших глазах, в полуопущенной голове, в скрещенных на груди руках угадывалась монашеская отрешенность от мира, монашеское смирение. Но сквозь отрешенность и смирение проступала все еще не выплаканная скорбь. И вдруг при воспоминании об Угличе голос у этой монахини, как будто бы все уже простившей, со всеми мысленно примирившейся, зазвенел местью, а стоило Басманову ей пригрозить – и в ней проснулась царица, да какая, подстать Ивану Грозному:
Пугать меня! – жену царя Ивана,
Того Ивана, перед кем вы прежде,
Как листья на осине, трепетали!
Я не боялась и царя Бориса,
Не побоюсь тебя, холоп!
Но вот Марфа наедине с Самозванцем – и вихрь страстей, поднявшийся в ее душе, утихает. Не почести ей нужны – ей нужен кто-то, кого она могла бы по-матерински прижать к груди. И ради этого счастья она обманывает себя и других. На все жертвы готовую материнскую любовь выражали не только и даже не столько глаза артистки, сколько ее руки, с неутолявшейся много-много лет нежностью обнимавшие воображаемого сына.
…В 47-м году я навестил Надежду Александровну в Измайлове, в доме для престарелых актеров. Тарусский свой дом Надежда Александровна и Софья Владимировна после войны продали. Но почему Надежда Александровна не переехала к Софье Владимировне? Ведь у Софьи Владимировны был собственный домик в Гагаринском переулке, который ей и Елене Владимировне «подарили» за заслуги отца. Это так и осталось для меня загадкой.
Больше я Надежду Александровну не видел.
В первые годы после войны я с семьей бедствовал. Мы покупали самый дешевый хлеб, ходил я зимой и летом в таких нарядах, что, стань я где-нибудь на углу или на паперти, мне могли бы протянуть мелочишку. Я стеснялся ехать к Надежде Александровне с пустыми руками. Причина, конечно, глупая. Если б я рассказал Надежде Александровне о своем положении, она накричала бы на меня: как я смею думать о каких-то подарках? И тем не менее это удерживало меня от поездок к ней. Главным образом, однако, не безденежье. Уж очень больно было мне видеть Надежду Александровну в комфортабельной богадельне. Но это объяснение, а не оправдание.
Стихотворение Случевского «Воспоминанья вы убить хотите?», строки из которого я уже приводил, кончается так:
Целые банкеты
Воспоминанья могут задавать.
Беда, беда, когда средь них найдется
Стыд иль пятно в свершившемся былом!
Оно к банкету скрытно проберется
И тенью Банко сядет за столом!
Мысль, что я не навещал Надежду Александровну в ее неуютном приюте и не проводил ее в последний путь (телефона у меня не было, и никто из ее родных не дал мне знать о ее кончине), – это одна из теней, не выходящих из-за моего стола.
Летом в Тарусе собирались милые и занятные люди. На все лето приезжала к сестре Елена Владимировна Герье. Общение с ней давалось нелегко из-за ее старости и глухоты. В 40-м году я получил письмо от Маргариты Николаевны, Татьяны Львовны и Николая Васильевича Зеленина, проводивших то лето на Николиной горе. Николай Васильевич шутил:
«Привет Надежде Александровне, Софье Владимировне и даже Елене Владимировне (если она в Тарусе и если у нее не отшибло память, а то еще решит, что это ей привет шлет с того света Николай Васильевич Давыдов, бывший председатель Московского окружного суда, или Николай Васильевич Гоголь)».
У Елены Владимировны по-старушечьи, предсмертно выдавался подбородок, рот ввалился из-за почти полного отсутствия зубов, нос заострился. И лицо у нее было не пергаментно-желтое, как у сестры, а белое с отливом в желтизну восковую. Она страдала «Миньеровой болезнью» и, идя по саду или по комнате, вдруг как будто начинала вальсировать.
И все же нелегкий труд общения с ней окупался. Она не утратила интереса к тому, что творилось на свете. Единственно, что еще жило у нее в лице, это большие ее глаза. Она смотрела на человека взглядом любопытным и доброжелательным. Чего не улавливал ее слух, то впитывали глаза. Глазами она и смотрела и слушала. Она была гораздо мягче Софьи Владимировны. Мягче и душевнее. Софья Владимировна была безусловно участлива, но в этой ее участливости было много и от ума: помогать людям ей повелевала доктрина. Елена Владимировна не слушалась поучений Блаватской, она прислушивалась к велениям своего сердца.
Одна из ее приятельниц угодила в далекую ссылку, писала ей оттуда, присылала свои переводы французских стихов, Елена Владимировна посылала ей деньги и посылки и все зондировала почву для приискания ей в Москве более или менее постоянного литературного заработка. Читала она мне ее переводы. Это были не то идиллии, не то эклоги. Мне запомнилась одна строка в чтении Елены Владимировны:
А вон в лещу’ шачи’р жа нимфой погнальша’…
Содействовать продвижению в печать этих переводов я не взялся. Перед войной иностранную классику почти не издавали, а главное, нравы становились все жестче и в издательствах. Когда я пребывал в ссылке, мои комментарии и переводы печатались в Москве под моей фамилией, а потом и тут закрутили гайки. Переводы тех, кого закатали в ссылку или в концлагерь, предпочитали совсем не печатать, в редких случаях (ранее издававшиеся) печатали под псевдонимом или вовсе без подписи.
В 42-м году Елена Владимировна навестила нас в Москве. Вскоре получилась от нее открытка, начинавшаяся так: «Милые мои Любимчики!» Елена Владимировна писала о том, что теперь, увидев воочию, как трудно нам живется» она очень страдает от того, что не в силах быть нам хоть чем-нибудь полезной.
Только я собрался к ней, как пришла весть о ее гибели: она лопала под грузовик, В больнице, умирая, она все просила не судить шофера; уверяла, что во всем виновата она, ее глухота и головокружения, а шофер не повинен, и у него жена и дети. Собрав последние силы, она подписала бумагу, обелявшую шофера.
Два лета подряд (38-го и 39-го года) я часто встречался в Тарусе и ходил на далекие прогулки с шекспироведом Михаилом Михайловичем Морозовым.
Лето 38-го года он провел в Тарусе со своей второй женой и с матерью, знаменитой Маргаритой Кирилловной Морозовой, славившейся своей красотой (в Москве перед революцией соперничали две красавицы-богачки Морозова и Фирсанова) и меценатством. В особняке Морозовой сходились представители едва ли не всех партий, течений и направлений, заседали члены московского Религиозно-философского общества. Это была первая любовь Андрея Белого. Он воспел Морозову в поэме «Первое свидание» под именем Надежды Львовны Зариной.
Когда я смотрел на Маргариту Кирилловну, старуху, много вынесшую и претерпевшую за годы революции, потерявшую все свое состояние, ютившуюся вместе с сестрой в полуподвальном этаже своего бывшего дома, привыкшую всегда кого-нибудь принимать у себя, а теперь обреченную на почти полное одиночество, так как к ней всем, кроме сына, путь был заказан – в ее доме помещалось какое-то посольство, я понимал Андрея Белого: она и в старости сохранила одухотворенную свою красоту.
Андрей Белый пишет в «Начале века», что она была «огромного роста». Старость согнула и пригнула ее. Но «ослепительные глаза», о которых в той же книге пишет Андрей Белый, почти не потускнели. И были в ее взгляде и чувство собственного достоинства, без малейшего оттенка чванливости, сохранившейся, несмотря ни на что, у многих «бывших», и та благорасположенность к людям, над которой почему-то насмехается Андрей Белый, как – тоже непонятно, почему – издевается он над ее похвальным человеколюбивым и дальнозорким намерением примирить и объединить враждовавших интеллигентов, враждовавших, по сравнению с тем, что могло бы их сблизить, из-за сущей чепухи. Ох уж эти декаденты, аргонавты, мистические анархисты, теософы, антропософы, октябристы, кадеты! Какая это все суета сует! И нашли время, когда поднимать мышиную возню! А между тем Васьки не только слушали, но и точили когти. «Ах, Мережковские, мать вашу!» – вспоминаются слова Бунина из его дневника за 17-й год.
Михаил Михайлович не прощал Белому его отношения к Маргарите Кирилловне. Помилуйте! Что же это такое? В поэме фимиам» а спустя несколько лет» в течение которых Маргарита Кирилловна ничего дурного никому не сделала, в книге воспоминаний «Начало века» – издевочки? Во что превратилась «Мадонна Рафаэля»? В «намордник» на «тигре» – религиозном философе Льве Михайловиче Лопатине, в попугая» за всеми повторяющего модные словечки и со всеми соглашающегося?., И зачем было ворошить ее связи с кадетами, с меньшевиками, зачем упоминать, что ее посещали первый председатель совета министров во Временном правительстве, князь Георгий Евгеньевич Львов» и Милюков? Как хотите, а это пахнет доносом. И за что про что? Только чтобы показать» каким он, Андрей Белый, стал теперь советски настроенным, каким он стал марксистом» подпускающим для шику марксистские термины, – впрочем, в большинстве случаев невпопад? Ведь все равно не помогло. За первую книгу воспоминаний – «На рубеже двух столетий» – его разделал в специальной статье Корнелий Зелинский, за «Начало века» в предисловии отщелкал Каменев, за «Маски» – Горький, за «Мастерство Гоголя» – опять-таки в предисловии – опять-таки Каменев. Оправдания Белого, что у него-де вычеркнули о Маргарите Кирилловне все хорошее, – это одни разговорчики. Тогда возьми и вычеркни Маргариту Кирилловну вовсе. Так же оправдывался Белый, когда знакомые выражали ему свое возмущение за то, что он обгадил Бальмонта. И вообще, что это за свинство: писать черт знает что о Бальмонте, о Мережковских, своих бывших друзьях, которые не имеют возможности ответить тебе в советской печати? Он и Блока не пощадил. А что писал о нем совсем недавно, уже после революции? Не воспоминание – житие! А какую речь произнес о нем в Вольфиле? Не речь – акафист! Прав Достоевский: широк человек!
Мне было «нечем крыть»…
Злость на Андрея Белого не мешала Морозову с воодушевлением читать те его стихи, которые он особенно любил:
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Морозов обладал особого рода памятью – памятью на стихи разного сорта. В ней откладывались не только перлы, но и курьезы. В глазах его не сверкнуло ни искорки смеха, – на меня смотрел с младенческим недоумением серовский «Мика Морозов», пока он читал мне отрывки из либретто оперы «Гамлет», сочиненного Сусанной Мар. Мне запомнилось две строки из «хора солдат Фортинбраса»:
Горят, горят, синея,
Зеленые дрова.
И еще запомнилась ария Полония, поющего письмо, которое он получил из Парижа:
Донесенье вам
Пишем налету:
Ваш сынок весь день
Дуется в лапту.
Как наступит мрак,
Он идет в кабак,
А потом с мамзель
Прямиком в постель.
Выражение младенческого изумления появлялось у Морозова всякий раз, когда он сталкивался с чем-нибудь бездарным, безобразным» нелепым. Он не возмущался – он весело удивлялся. Это самое «Микино» выражение не сходило у него с лица, пока Софья Захаровна Федорченко угощала нас чтением отрывков из последней, так и оставшейся ненапечатанной части своей эпопеи «Народ на войне». Когда мы от нее вышли, я ругался, как извозчик, а он, по своей привычке прихахатывая, точно всхлипывая или обжигаясь горячим чаем» сказал:
– У меня такое чувство, как будто нас пригласили слушать сонату Бетховена, а вместо этого долго играли собачий вальс.
Морозов тогда еще представлялся, что восхищен переводами трагедий Шекспира, выполненными Анной Радловой, но не сердился на меня, когда я поносил их. Я чувствовал, что в глубине души он со мной согласен. Человек с поэтическим вкусом не мог искренне поклоняться Радловой. Мне казалось, что Морозов разводит дипломатию из страха перед этой «леди Макбет», как ее называли. А в иных случаях, припертый к стене цитатами из ее чудовищных переводов, он сдавался.
В 40-м году Корней Чуковский сделал в ВТО доклад о переводах Радловой – и не оставил от них камня на камне. Когда перед Радловой расшаркивался Карл Радек, Чуковский как воды в рот набрал. Теперь Карл Радек был не опасен, и Корней Чуковский смело ринулся в бой. На обсуждении его доклада от Радловой отрекся Морозов. Затем он поднял на щит, как переводчика Шекспира, Пастернака (в 41-м году Пастернак дебютировал переводом «Гамлета») и, хотя и спорил с ним по поводу отдельных мест, уже до конца дней оставался его помощником, почитателем и пропагандистом. Не убоявшись звания лауреата Сталинской премии, полученной Лозинским за перевод «Божественной комедии», Морозов, в качестве заведующего шекспировским кабинетом ВТО, раздраконил осуществленный Лозинским перевод «Отелло».
Михаил Михайлович читал у меня на даче свои работы о Шекспире. После чтения и обмена мнениями мы пили чай с вкусными ржаными лепешками, которые пекла бабушка Наталья. Как вспомню, так слюнки текут.
Знакомство мое с Морозовым было типично курортно-дачное знакомство. Зимой нас друг к другу не потянуло. После войны мы встречались на улицах или в издательствах.
В Тарусе я познакомился с Вильгельмом Вениаминовичем Левиком. Он читал у меня первые свои переводы из Гейне (особенно твердо закрепился в памяти «Невольничий корабль») и переводы озорных стихотворных новелл Лафонтена. Впечатление было такое, как будто Гейне, которому сжимали горло переводчики Тынянов и Пеньковский, вновь заговорил своим, не сдавленным и не придушенным, голосом. Вообще от переводов Левика потянуло свежестью, И стало ясно, что контора Шервинского лопнула.
В Тарусе я познакомился с Ниной Леонидовной Дарузёс, которую я считаю одним из лучших русских переводчиков прозы. Несколько лет спустя я заказал ей новый перевод «Плутней Скалена» Мольера. Потом этот перевод много раз переиздавался, и я по обязанности редактора держал корректуру ее перевода. И всякий раз хохотал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.