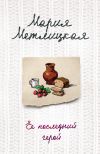Текст книги "Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2"

Автор книги: Николай Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
Вышинский пышет злобой на Бухарина. Это отзвук Сталина, особенно люто ненавидевшего Бухарина, и это злоба самого Вышинского, который, как и Сталин, кусал себе локти оттого, что в 36-м году Бухарин сорвался с крючка, и которому теперь Бухарин нет-нет да и путает карты.
Им обоим нужно втоптать Бухарина в грязь как можно глубже. Многие еще помнят, что Ленин в «Письме к съезду» (1922 год) назвал Бухарина «ценнейшим и крупнейшим теоретиком партии», «любимцем всей партии». Многим еще памятно, что на XIV партсъезде (1925 год) Орджоникидзе, вызвав продолжительные аплодисменты сказал: «Бухарин один из лучших теоретиков, наш дорогой Бухарчик, мы все его любим и будем поддерживать». Многим еще памятно, что не кто иной, как Сталин, на том же съезде в заключительном слове сказал: «Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови тов. Бухарина. Именно этого требует тов. Зиновьев, заостряя вопрос… на Бухарине. Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте». (Аплодисменты, крики: «Правильно!») Многим еще памятно, что не кто иной, как Сталин, на XV партконференции (1926 год) крикнул с места во время речи Бухарина, атаковавшего оппозиционеров: «Здорово, Бухарин, здорово. Не говорит» а режет». Вот почему надо во что бы то ни стало изобразить теперь Бухарина и шпионом, и убийцей Горького, и соучастником покушения на убийство Ленина, связанным в свое время с Каплан.
В обвинительной речи Вышинский называет Бухарина «проклятой помесью лисы и свиньи…» Он так зол, что ему бы только обругать. Об остроумии и меткости он не заботится. И он не может отказать себе в удовольствии лишний раз напомнить подсудимым, что их ожидает казнь:
– Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом…
А Бухарин в последнем слове снова отрицает свое участие в шпионаже.
– Какие доказательства? – спрашивает он. – Показания Ша-ранговича, о существовании которого я не слыхал до обвинительного заключения.
И далее:
– Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова.
И даже гораздо более слабый Рыков находит в себе силы, воспользовавшись предоставленным ему последним словом, не только не отречься от Бухарина, – напротив, подтвердить, что это близкий ему человек.
И еще Рыков сказал не обинуясь:
– …государственным обвинителем выдвинуто против меня обвинение… которое признать не могу. Это обвинение в вынесении решения или в даче директивы убийства Кирова, Менжинского, Горького, Пешкова.
…………………………………………………………………………………..
Я, во всяком случае, отрицаю свою виновность в участии в этих пяти убийствах.
Подсудимые осмелились публично хоть в чем-то не признаться! Мы таких последних слов давненько не слыхивали – с 28-го года, со времен «шахтинского» процесса.
И за всю историю советского суда ни один защитник с такой скорбью не говорил о своих подзащитных, с таким уважением – к их прежней деятельности, так не молил сохранить им жизнь, как Николай Васильевич Коммодов, защищавший Плетнева и Казакова. Сквозь ненависть к Ягода для внимательного взора проступала затаенная ненависть Коммодова к НКВД и к тому строю, который это учреждение породил.
Приговор был вынесен 13 марта в 4 часа утра. 15 марта газеты нас известили, что Президиум Верховного Совета отклонил ходатайство приговоренных к расстрелу о помиловании. В списке почему-то отсутствует фамилия Розенгольца. Почему он не подал прошения? Сознавал его бесполезность? Решил избавить себя от последнего унижения? Или удалось покончить с собой?..
И все-таки Сталин, Ежов и Вышинский на сей раз провалились с уже явственно различимым треском.
Все предыдущие процессы были шиты белыми нитками. Ах, какой ужас! На станции Шумиха троцкистские мерзавцы устроили крушение – погибло двадцать девять красноармейцев, а двадцать девять красноармейцев ранено!.. Да зачем же Пятакову и его однодельцам было устраивать крушения поездов с эшелонами красноармейцев, зачем они прибегали к булавочным уколам, когда первый заместитель Наркомтяжпрома Пятаков, фактический руководитель тяжелой промышленности, и первый заместитель Наркомпути, фактический хозяин на транспорте, имели полную возможность пустить под откос не эшелоны, а всю тяжелую промышленность и весь железнодорожный транспорт? Но люди легковерные, – а таких у нас большинство, – все глотали не разжевывая. Процесс Бухарина и Рыкова заставлял задуматься и легковерных, – тех, у кого головы были еще не окончательно заморочены.
Я привез с собой в Перемышль драгоценность: мне дали почитать парижское издание «Жизни Арсеньева». И мы перемежали чтение газет с чтением бунинского романа. Это было для нас открытие дотоле неведомого Бунина. Это было для нас до боли отрадное отдохновение. И мы задавали друг другу щемивший нам сердце вопрос, оставленный Буниным без ответа: отчего же все-таки погибла Россия в такой волшебно короткий срок?..
…Из Перемышля – в Москву. В Москве – кратковременная остановка.
Зимним солнечным днем я выехал из Москвы к теткам в Новинку. В Малоярославце на перроне меня поджидал дворник Новинской больницы здоровенный малый лет двадцати пяти Вася Якушин.
Тетки прислали мне бурку и полость, да и день стоял теплый, так что ехать на санях, на горке из сена, которого не пожалел для меня Вася, было одно удовольствие. Вася занимал меня рассказами о своих ратных подвигах:
– …и добро бы что важное, а то ведь началось с пустяков. Тут – его дом, насупротив – моего дяди. Встретились в промежности. «Закурить, – вспрашиваю, – есть?» – «Есть, да не про вашу честь». С этого все и пошло. Дальше – больше. Послал он меня к ядрене Матрене – и локтем в грудь. Ну уж тут я размахнулся, – я-то ведь не карандух, а он низменного росточку, от горшка два вершка, – и кэ-эк дам ему по сопатке, да по мусалам! Он – бряк! Пока он за землю держался, я от него за версту убег. Так это у меня удачно получилось, Николай Михайлович!
– …он было на мене, я скорей в сторону, и доску ему прямо под ноги кинул. Он – кувырк! – А я его успитками, успитками! Так это у меня удачно получилось, Николай Михайлович!
Стало по-зимнему быстро темнеть. В открытом поле лицо мне опахнул ветер. Повалил снег – все плотнее, гуще, непрогляднее. По дороге извивались змеи поземки. Зимние сумерки слились с метельною мглой.
Вася уже не повествовал о своих удачах на ратном поприще. Мы оба примолкли.
Ветер то налетит и со свистом хлестнет по лицу белою пылью, колючей и жгучей, то отпрянет и вновь завьет снеговороты, завоет, загикает, заголосит. Еще немного – и бешеный этот крутень заволок даль, заволок близь, заволок высь.
В лесу натиск вихрей ослаб, но справа и слева голые громады деревьев обозначаются смутно и грозно, и реву метели вторит стенящий их гуд.
А как выехали из лесу в поле – опять закурила и понеслась метельная круговерть, и не стало видно зги Божией. Буря ярилась, лютовала, заливалась на сто ладов. И чего-чего только ни различая напряженный слух в пурговом завыванье: и стоны, и вопли, и порсканье, и хохот злорадный, и хохот безумный, и рыданья, и погребальный напев. И казалось мне, что мы все взбираемся на высокую белую стену…
Добрый конь не сбился с дороги. Вот слева блеснули огни – значит, это больничные корпуса. И вот мы на больничном дворе. В окне у теток заметался свет керосиновой лампы и проплыл из столовой в коридор, осветив входную стеклянную дверь: это Аничка бросилась мне отворять. Кое-как отряхнулся на крыльце, в коридоре скинул шапку-ушанку, бурку, пальто. Аничка мне светит, раздеваться помогает Гынга. Повизгивает сдержанный в проявлениях радостных чувств приятель мой Нурка.
Вхожу в столовую.
– Непременно выпей рюмашечку! – настаивает Гынга. – Небось, замерз! Вот и твои любимые маринованные грибочки, вот рыжики солененькие… Что ж ты сала не берешь? А уж мы-то заждались! Думали – заблудились вы с Васей. Ну, слава Тебе, Господи!
И вот уже по щучьему веленью фырчит самовар в три обхвата. Опрокидон, преизобильный закусон, чай с пирогами – и блаженное, непродуваемое тепло постели.
В глазах все еще вихревые извивы, в ушах все еще вьюжные взвывы, но это отраженье минувшего… К завтраму распогодится… А когда же, – думается мне сквозь сон, – когда же стихнет буран, беснующийся над сирой Россией?..
…………………………………………………………………………………..
Утром я узнал об аресте крестьянина из недальней деревни. В 20-х годах он был председателем сельсовета, а в его чистой и просторной избе останавливался любивший поохотиться в здешних лесах Наркомвоенмор Троцкий…
Весной я позвонил Глебу и приехал к нему. Было тепло, он отворил балкон и предложил попить там чайку. Сказал, что недавно был на похоронах Пантелеймона Романова:
– Зря он потом на модные «вопросы пола» перешел. А вообще талантливый был писатель. И даже очень. В его рассказах бьется чеховская жилка. И уже забыт. Обидно забыт… Похороны были грустные. Пришли Владимир Лидин, я, еще два-три человека…
Последнее время не слышно было, чтобы в Москве хватали писателей, критиков, публицистов. И так уже лес засквозил. Сели рабочие поэты Михаил Герасимов и Владимир Кириллов. Сел крестьянский поэт Петр Орешин. Расстреляли Павла Васильева (в «Известиях» от 15 июля 37-го года он был назван террористом). В Ленинграде расстреляли Бориса Корнилова. Сел токарь по профессии Георгий Никифоров, автор нашумевшего романа «У фонаря». Расстрелян, как шпион, бывший генеральный секретарь РАПП Авербах. Арестованы рапповцы Алексей Селивановский, Екатерина Трощенко, Иван Макарьев. Арестованы ленинградские критики Павел Медведев, Иннокентий Оксенов, Добин, Горелов, Бескина, Штейнман. Арестована Елена Михайловна Тагер. Арестован старик Переверзев. Арестован недавно вернувшийся из эмиграции и уже напечатавшийся в «Правде» сменовеховец Устрялов – попал в западню. Арестован редактор «Нового мира» Гронский (этого-то болвана за что?). Арестован поэт-акмеист Владимир Нарбут. Арестован один из фаворитов Горького сибирский писатель Зазубрин. Арестован писатель Тарасов-Родионов, жандармский офицер, член большевистской партии с 1905 года, один из главных участников самосуда над генералом Духониным. (Уже после ежовщины мы с Богословским дали общее название библиографическим справочникам о советских писателях: «Умер – сидит»).
– Что же, Глеб, – сказал я, – надо надеяться, миновала тебя чаша сия?
– Как будто бы да, – ответил он. – Я уже начал спать по ночам. Но аресты идут. Эйхе сел.
– То есть как сел?
– Как сел? Очень просто. Как все садятся, так и он.
– Но ведь Эйхе – это же «сибирский Сталин», как его называли! Муралов признался на суде, что он одобрил план покушения на Эйхе, выработанный томской террористической группировкой на случай приезда Эйхе в Томск. И совсем недавно его назначили Наркомземом[40]40
Газеты от 30 ноября 37-го года сообщили» что вместо Чернова Наркомземом назначен Эйхе.
[Закрыть].
– Ну, а теперь выяснилось, что Эйхе – латвийский шпион.
– Вот тебе и «сибирский Сталин»!.. Что же это?.. «Своя своих не познаша»?.. Или – или «куча мала»?..
И невольно кривила губы усмешка, но то была усмешка безумия…
На Страстной неделе я приехал в Перемышль, чтобы провести с родными Пасху.
Мамы не было дома. В передней меня встретила тетя Саша. Мне она словно бы не обрадовалась. Как-то рассеянно поздоровалась и, не дав мне раздеться или хотя бы скинуть с плеч тяжеленный рюкзак, засыпала меня градом перемышльских событий:
– Ты знаешь, что у нас тут творится? Сначала арестовали Владимира Петровича Попова, потом в одну ночь схватили Соню, Анну Николаевну, отца Ивана Никольского, Владимира Федоровича Большакова, Алексея Ивановича Георгиевского, начальника почты Вишневецкого, Дору Михайловну Паульсон с мужем, Николаева, братьев Прокуратовых, Тарасова, Петра Евдокимовича Меньшова, Аудора, на другой день привезли из деревни Гришу Будилина…
Тогдашний глава правительства Молотов в одной из своих речей. (кажется – предвыборной) велел нам в преддверии возможной войны потуже подтянуть пояса. «Молотов намолотил», – говорили мужички, выходя с пустыми руками из пустых перемышльских лавок. Собираясь в Перемышль, я доверху набивал рюкзак чаем, сахаром и всякой снедью. Сейчас я не чувствовал тяжести моего рюкзака. Я продолжал стоять в передней и пытался найти объяснение происшедшему.
…Ну да, это вторая «предвыборная кампания» – ведь в июне выборы в Верховный Совет РСФСР. Будилина взяли, наверно, за то, что в гражданскую войну служил с Уборевичем, о чем он так некстати год назад развоспоминался. О. Иоанна – просто как священника. Заведующую детским садом Паульсон – вероятно, только за то, что она неосмотрительно сохранила фамилию первого мужа. Ее второй муж, Сергей Иванович Соколов, – ветеринарный врач, сын священника. Ну, значит, «по заданию какой-нибудь иностранной разведки отравлял колхозный скот». Аудора, или, как его называли перемышляне, «Автодора», – за нерусскую фамилию. Анну Николаевну Брейтфус – тоже, вероятно, за фамилию, хотя какая же она немка? Она родилась и выросла в Перемышле. Ее отец, Николай Карлович, письмоводитель при перемышльском уездном предводителе дворянства, был уже не лютеранином, а православным. Вишневецкий – хоть и коммунист, а поляк, даже говорит с акцентом. Ну, а других-то за что? За что арестовали полуслепого учителя-пенсионера Алексея Ивановича Георгиевского?
В 36 – 39-м годах в Испании шла война.
Встретились два советских гражданина.
– Слыхали? Теруэль взят.
– А кто такой Теруэль?
– Город.
– Что? Уже стали целыми городами брать?..
Как выяснилось потом, мои предположительные «обоснования арестов» были правильны.
Перемышльского доктора Николая Николаевича Добромыслова иногда вызывали к заключенным, которых теперь возили с комфортом на грузовиках не в Лихвинскую, а в Калужскую тюрьму, и он делал все от него зависящее, чтобы участь их облегчить. Он горевал, что его не сажают.
– Сколько порядочных лю-удей-то посадили, а я что же, выходит, па-а-длец? – сокрушенно заикался он, поглаживая свои точно йодом намазанные усы.
В шестом, июньском номере «Нового мира» за 37-й год я прочел в стихотворении Павла Антокольского «Родина» такие строчки:
Это ты,
Страна моя, краса моя,
Яростная праведница века,
Самая отважная и самая
Крепкая охрана человека!
А земные боги и верховные их жрецы все падали и падали, падали простые и непростые смертные, и очередность их низвержения в тюремные бездны уже не откладывалась в памяти.
Я не помню, когда именно я узнал об аресте Чубаря, об аресте Постышева, об аресте первого Секретаря ЦК Украины Станислава Викентьевича Коссиора, об аресте заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК Стецкого, об аресте верхушки ЦК комсомола, в частности Косарева, успевшего произнести речь на первой сессии Верховного Совета РСФСР, куда он был избран, о самоубийстве Предсовнаркома Украины Любченко, об аресте Крыленко, бывшего верховного главнокомандующего, бывшего «прокурора пролетарской революции», как назвала его «Правда», когда шел процесс меньшевиков, обвинявшего в 28-м году, на первом процессе «вредителей», инженеров-«шахтинцев», в 30-м году – на процессе Рамзина, в 31-м году – на процессе меньшевиков, впоследствии Народного Комиссара Юстиции, об аресте директора Художественного театра Аркадьина, об аресте Заболоцкого, которого, как ни странно, посадили вскоре после того, как он напечатал верноподданническую «Горийскую симфонию», об аресте бывшего первого заместителя председателя ОГПУ, бывшего верховного прокурора, бывшего секретаря ЦИК СССР Ивана Алексеевича Акулова (сначала его убрали из ЦИК’а «по болезни» 9 июля 37-го года), об аресте московского адвоката, министра юстиции при Временном правительстве Павла Николаевича Малянтовича, об аресте фельетонистов Зорича и Сосновского, об аресте артиста Художественного театра Юрия Кольцова, об аресте писателя-коммуниста, редактора издательства «Советский писатель», Александра Никаноровича Зуева, в гражданскую войну распропагандировавшего целую белогвардейскую часть и приведшего ее в расположение Красной Армии, отсидевшего после ареста в лагере и в сибирской ссылке двадцать лет, об аресте бывшего московского губернатора Джунковского, которого до той поры не трогали – за него заступался добрая душа-Москвин, об аресте вдовы поэта Лидии Густавовны Багрицкой, об аресте авиаконструктора Туполева, об аресте поэта-футуриста, мемуариста и переводчика Бенедикта Лившица, об аресте директора Ленинской публичной библиотеки Невского, об аресте оруженосца Бориса Савинкова – Дикгофа-Деренталя» в 24-м году вместе с ним нелегально перешедшего границу, вместе с ним судившегося, отсидевшего десять лет, выпущенного, а в ежовщину засаженного вновь, об аресте поэта Наседкина, зятя Есенина, мужа его сестры Кати, о высылке из Москвы сестры Есенина – Екатерины Александровны, об аресте ученика Есенина – поэта Ивана Приблудного, об аресте ответственного редактора «Интернациональной литературы» Сергея Сергеевича Динамова, об аресте председателя ВОКС (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей) писателя-коммуниста Аросева, об аресте бывшего и лучшего редактора «Литературной газеты» Болотникова, об аресте начальника политуправления Главсевморпути Бергавинова, об аресте и убийстве в кабинете следователя Тициана Табидзе, о самоубийстве Паоло Яшвили, об аресте Егише Чаренца, об аресте академика Вавилова, об аресте главного режиссера Центрального детского театра Наталии Сац, об аресте крупнейших московских докторов-гомеопатов Постникова и Грузинова, о вторичном аресте сосланных в Томск философа Густава Густавовича Шпета и филолога Михаила Александровича Петровского, о вторичном аресте Иванова-Разумника, после саратовской ссылки проживавшего в Кашире, об аресте «вовремя», к самой ежовщине, как и Устрялов, вернувшегося из эмиграции писателя Анатолия Каменского, об аресте ленинградского пушкиниста Оксмана, об аресте ленинградского испаниста Выгодского.
А трубы и фанфары гремят…
Прочтешь какую-нибудь этакую оду и задумаешься: я ли сошел с ума, одописец ли тронулся и все, что творится вокруг него, рисуется ему в Клод-Лорреновском свете Золотого века? Кто он: льстец, каких испокон веку не было ни у одного султана, ни у одного богдыхана, или же хитрая бестия, издевающаяся над тем, кому она кадит?..
И набегали одна за другой крамольные мысли о «самом родном».
Он дорезал «недорезанных буржуев», вновь закрепостил крестьян, выкосил бывших кадетов, меньшевиков и эсеров, уничтожил «ленинскую гвардию». Но ведь теперь он уж добрался до тех, кто выдвигал его и кого выдвигал он. Это же все «его люди»: Ягода и иже с ним, Коссиор, Постышев, Стецкий, братья Межлауки, Яковлев, Косарев, Эйхе, Владимир Иванов, Птуха, Гринько… Значит, он тоже, как в свое время «Ильич», недобдил? Хорош, нечего оказать, бдила! Так как же он смеет других обвинять в притуплении бдительности? Или это и впрямь любимая его игра – «куча мала», которую он продолжает сейчас на предмет истребления всего, что способно хоть в чем-нибудь ему поперечить, всего мало-мальски заметного, всего, что хоть чуть-чуть возвышается над уровнем посредственности, всего сколько-нибудь своеобразного, своеобразного хотя бы и в подлости, чтобы его лучше было видно среди Молотовых, Андреевых, Ждановых, Ворошиловых и Хрущевых, как виден среди сыпи чирей? И к тому же еще мания преследования, неврасцеп с манией величия час от часу растущая в нем?.. И к тому же страх перед теми, кто слишком много о нем знает и, неровен час, может распустить язык?..
Я позвонил Глебу. Никто не подошел к телефону. Я стал названивать ежедневно. Телефон работал, но никто не брал трубку. Тогда это было недобрым знаком. Если до человека несколько дней не могли дозвониться, то делали соответствующий вывод. Чаще всего предположения оправдывались, но иногда это давало пищу и ложным слухам. Москва уже заговорила об аресте Валентина Катаева только потому, что Катаеву без конца звонили из «Интернациональной литературы», а он в это время находился под сенью переделкинских струй.
У меня не сжималось сердце от предчувствия. Я решил, что все-таки, наверно, у Глеба испорчен телефон, или же Глеб с Надеждой Ивановной куда-нибудь укатили. Поехал на Башиловку. Во дворе меня встретила Надежда Ивановна.
…Глеб арестован. Его кабинет опечатан. Оттого-то и молчал телефон.
Ночью к ним позвонили. Глеб спросил: «Кто там?» Послышался голос управдомши, той самой, что часто бывала у Алексеевых, играла у них в карты, ужинала, пила чай:
– Отворите, пожалуйста, Глеб Васильевич.
Глеб отпер дверь. Управдомша ввела наркомвнудельцев, и те предъявили ордер на обыск и на арест Глеба. На лице у управдомши было написано: «Вы уж меня простите. Я человек подневольный».
Пока производили обыск, Глеб сидел молча и дрожал всем телом. Это был уже не человек» а воплощение отчаянья и страха. Когда ему велели идти во двор, где его ждала машина, он сказал жене:
– Надежда! Похлопочи за меня!
И поцеловал спящего Никиту:
– Ну, прощай, Никита, безотцовщина!
То были последние слова, сказанные им на свободе.
Глеб Васильевич, как и его друг Борис Пильняк, никого за собой не потянул. Это явный признак благородства» с каким оба держали себя на допросах. «Дело» Глеба Алексеева длилось все лето. В конце лета, незадолго до отстранения Ежова, Надежде Ивановне сказали на Лубянке, что ее муж приговорен к заключению на 10 лет без права переписки и с конфискацией ему лично принадлежавшего имущества. На Башиловку явились двое, мужчина и женщина, с «подсобной рабочей силой». Распечатали кабинет, вытащили оттуда все до последней нитки и увезли. Женщина позарилась на лучшие игрушки и» несмотря на плач Никиты» отобрала их. Кабинет заняла по ордеру сотрудница НКВД.
Потом мне говорили, что на Лубянке Глеб Алексеев сошел с ума. Обращаясь к товарищам по камере, он без конца повторял одно и то же:
– Я писатель Глеб Алексеев. Следователь напускает на меня флюиды, чтобы я все забыл. Но я не забыл, Я писатель, Глеб Алексеев. Я могу это доказать, у меня много книг…
И хватался за голову.
…Мы с женой подумывали, где бы провести ее отпуск. Кто-то порекомендовал Тарусу. Щепкина-Куперник дала мне туда письмо к Надежде Александровне Смирновой. Я поехал снимать дачу.
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Лучшего тарусского врача Людмилу Ивановну Добротворскую подкараулили на пристани и, как только она, куда-то на время уезжавшая, сошла с катера, повели в НКВД, откуда она уже домой не вернулась.
Когда я делился с Глебом нашими летними планами, он вызвался дать мне письмо к тарусскому дачевладельцу, московскому писателю, крестьянину по происхождению, рабочему по дореволюционному роду занятий, коммунисту по партийной принадлежности Ивану Михайловичу Касаткину.
– Мы с ним в добрых отношениях, – сказал Глеб. – Он всех там знает, подыщет тебе хорошую дачу, а то и у себя поместит.
Стоявшая над оврагом касаткинская дача пустовала. Хозяин был арестован.
Приятельница Надежды Александровны Софья Владимировна Герье пошла со мной искать дачу. Прежде всего привела меня к некой Кате Дикс. Катя Дикс дачу уже сдала, но из разговора с ней я выяснил, что ее муж сидит. Это был пленный австриец, подобно многим пленным, осевший в России и женившийся на русской. Со времен мировой войны он постоянно жил в Тарусе. По образованию он был агроном. В Тарусе его ценили как «спеца». Арестовали его по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Оставалось все же непонятным: что делать шпиону в таком крупном индустриальном центре, как Таруса, которую, по преданию, искал-искал, да так и не нашел Наполеон, где не было ни одного военного объекта, где не было ни одного промышленного предприятия, если не считать вышивальной мастерской, откуда до ближайшей железнодорожной станции – «Тарусская» – насчитывается восемнадцать верст?..
На первомайском торжественном заседании начальник Тарусского отделения НКВД похвалился, что его отделение перевыполнило план.
Перед отпуском жены я съездил в Перемышль. Мои частые поездки к матери и тетке вызывались не только тоскою по ним, но и необходимостью снабжать их продуктами.
…Душная летняя ночь, «и бысть тоя нощи велия теплота и тихость». Все окна в нашей единственной комнате, – и на улицу, и во двор, – распахнуты. Калитка у нас на ночь не запиралась. Мама спит. Под подушкой у нее узелок с вещами на случай, если придут. Мы с тетей Сашей лежа почитываем. Брякает щеколда. Мы с тетей Сашей как по команде поворачиваем головы, смотрим друг на друга и превращаемся в слух. Я вижу помертвевшее ее лицо и чувствую, как мертвеет лицо у меня. В тишине мне слышен частый стук моего сердца… Кажется, еще немного – и оно не вынесет пытки тишиной… И вдруг за окном игривый смешок, шаги, калитка затворяется. Это парочка нашла себе у нас за воротами подходящее место для укромных ласк. Ах, чтоб ее намочило да не высушило!.. И что поймет во всей этой сцене какой-нибудь иностранец?..
Незадолго до моего приезда в Перемышль маму приглашали в НКВД. Допрашивали по делу бывшей ее сослуживицы, учительницы перемышльской средней школы Анны Николаевны Брейтфус, и требовали, чтобы она подписала, что Анна Николаевна вела в ее присутствии антисоветские разговоры, возмущалась казнями врагов народа.

Николай Аркадьевич Болдарев (1826 г. р.) – прадед H. М. Любимова. Сын генерала Аркадия Африкановича Болдарева. Полковник кавалергард, рязанский губернатор, действительный статский советник. Орден св. Владимира II степени и св. Александра Невского, женат (с 1849 г.) на графине Александре Александровне Гендриковой.

Анна Александровна Болдарева (1830 – 29 августа 1886 г.) – прабабушка H. М. Любимова, дочь графа Александра Ивановича Гендрикова, действительного статского советника, шталмейстера и княжны Прасковьи Александровны Хилковой. Свитная фрейлина, пользовавшаяся особой любовью Императрицы Александры Федоровны, заменившей сироте родную мать

Александра Николаевна Болдарева (9 января 1850 г. – 28 августа 1904 г.) – бабушка H. М. Любимова. Крестница императора Александра II

Анна Яковлевна Любимова – бабушка H. М. Любимова – дочь псаломщика и племянница священника. Фото М. М. Любимова, отца H. М. Любимова

A. M. Кормилицына и E. M. Любимова – тетка и мать H. М. Любимова

Александра Михайловна Кормилицына – «тетя Саша»


E. M. и M. M. Любимовы – родители H. M. Любимова

Михаил Михайлович Любимов – отец H. М. Любимова

М. М. Любимов – отец H. М. Любимова

М. М. Любимов – отец H. М. Любимова

Перемышль. Городское кладбище. Могила М. М. Любимова (1880–1914)

Перемышль. Двор квартиры Любимовых на Фроловской улице. Взрослые – мать, бабушка и тетя Дуня. В салазках Коля Любимов

E. M. Любимова с сыном

Е. М. Любимова и няня Коли (т. 1) в столовой. Фото М. М. Любимова

Коля Любимов

Коля Любимов

Коля Любимов

Перемышль. Под окном спальни. Слева первые четверо – «Гынга», Коля, E. М. Любимова и тетя Аня (т. 1)

Митрофорный протоиерей отец Владимир Будилин. Настоятель Перемышльского Успенского собора. Много лет был благочинным, председателем училищного совета, членом совета Калужской Духовной Семинарии. Погребен у Никольской церкви города Перемышль. Могила при взрыве здания Церкви в 1942 г. засыпана щебнем (т. 1)

Члены театрального общества (т. 1). Среди стоящих слева: первый – М. М. Любимов (секретарь); третья – А. М. Любимова; четвертая – E. М. Любимова; двенадцатая и тринадцатая – С. М. Любимова и Евдокия М. Любимова (т. 1). Замыкающий ряд – Сорокин, один из учредителей общества, погиб во время японской войны, на которую пошел добровольцем

Учителя, получившие ордена в Кремле, в Москве. В верхнем ряду четвертая слева – Анна Михайловна Любимова

Елизавета Александровна Орлова (1889–1987) – тетя Лиля, мать «подельника» H. М. Любимова Володи (т. 2). Фото 12 января 1915 г., Москва

Сидят первый слева – П. М. Лебедев, вторая – Евдокия Михайловна Любимова, стоит вторая слева Софья Михайловна Любимова

Слева направо – тетя Аня, тетя Дуня, бабушка, неизвестная женщина, тетя Юня, тетя Соня и собачка Любимка (т. 1)

Тетки H. М. Любимова в августе 1939 г.

Тетки Н. М. Любимова. 1951 г.

Друг детства, отрочества и юности H. М. Любимова Ю. Н. Богданов, «Юра» (т. 1 и 2). На обороте фотографии надпись: «Моим лучшим, искренним друзьям Коле, Маргарите, Лёле и Боре на память. Ю. Богданов. 4 ноября 1955 года»


Н. Любимов и Е. М. Любимова

Н. и E. M. Любимовы. На обороте надпись: «На память о той материнской любви, которую проносила со дня рождения, проношу теперь и пронесу вечно. Какова эта любовь, я думаю, тебе известно… Твоя мама. 19 декабря 1938 года» – день Ангела H. М. Любимова

Н. и E. M. Любимовы. Июль 1930 г.

E. M. Любимова. Калуга, октябрь 1955 г.

Перемышль. Никитская (Сошественская Церковь) и пожарная каланча. В 1961 г. колокольни не было, а на месте часовни – памятник Ленину

Перемышль. Бульвар (т. 1)

Перемышль. Разлив Оки. Апрель 1908 г. Фото М. М. Любимова

Перемышль. 1908 год – год самого большого разлива Оки. Улица, на которой прошло раннее детство H. М. Любимова

Перемышль. Школа, в которой учился H. М. Любимов. Стоят – тетя Аня и тетя Соня. Фото М. М. Любимова

Перемышль. 1906 г. На заднем плане С. М. Любимова. Фото М. М. Любимова

Перемышль. 1908 г. Старый городской бульвар, вырубленный в 1960 г. Фото М. М. Любимова

Будущий «подельник» H. М. Любимова Володя Орлов. 9 мая 1917 г. (1 год и 3 месяца)

Володя Орлов через пять лет после ареста. Лето 1938 г.

На переднем плане тетя Лиля. 1909 г.

Тетя Лиля. 1959 г.

Врач-психиатр Николай Васильевич Зеленин, внук М. Н. Ермоловой, крестный отец H. М. Любимова

Актриса Малого театра Н. А. Смирнова (т. 2)

Старшая дочь H. М. Любимова E. Н. Любимова (12 октября 1941 г. – 29 ноября 2001 г.). Май 1950 г.
– Какие бы меры вы ко мне не применили, вам не удастся заставить меня лгать и оговаривать мою давнюю сослуживицу и хорошую знакомую, – отрезала мама.
– Вы что же, намекаете на то, что мы применяем пытки? – спросил следователь Сак лаков.
– Повторяю: никакими средствами вы не заставите меня лгать, – отчеканила мама.
На этом собеседование закончилось.
В Тарусе лето 38-го года проводили Маргарита Николаевна и Татьяна Львовна. Приехавший к ним из-под Пскова Николай Васильевич привез московскую весть об аресте Михаила Соломоновича Фельдштейна.
Осенью приехала в Москву моя мать.
Калужский поезд прибывал невесть как рано. Я встретил ее под стеклянной крышей перрона Брянского вокзала. Мы пошли с ней пить чай в ресторан. Она всегда просила официантов приносить ей кипятку и в стакан с кипятком сыпала щепотку своего чаю. Ресторанной и буфетной бурды она не выносила.
Я смотрел на нее и думал: «Сейчас она примется расспрашивать меня о московских друзьях и, конечно, спросит о Михаиле Соломоновиче». Я решился, не дожидаясь ее вопроса, нанести ей еще один из тех ударов, какие сыпались на нее в этом году.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.