Текст книги "Восстание на Боспоре"
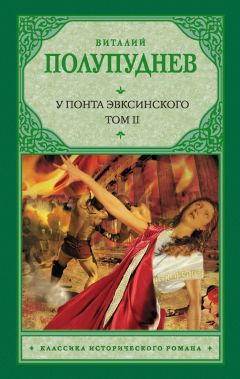
Автор книги: Виталий Полупуднев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 58 страниц)
Саклею не хотелось раньше времени показывать царю свою гостью. Его тайные посыльные уже уехали за пролив, где собирали сведения об обстоятельствах смерти Пасиона, о величине наследства, оставленного им дочери, о темной роли Карзоаза во всей этой истории.
Он ждал возвращения своих лазутчиков со дня на день, рассчитывая нанести удар Карзоазу и Алкмене наверняка.
И вдруг эта встреча на охоте так неожиданно спутала его планы. Старик гневался и уже решил, что накажет Алцима за недосмотр, а своевольную девчонку ушлет в самое дальнее селение, где она будет ждать решения своего дела вдали от города.
– Позор! Какой позор! – шептал он раздраженно Алциму, пока слуги накрывали столы, а лекарь с важным видом рассматривал царапину на бедре царя.
– А что я мог сделать? – оправдывался Алцим. – Она каждый день требовала верховых прогулок в степь. Любит охотиться и не слушает никаких уговоров. Поеду, и все! А не поеду в степь, так пойду пешком в Пантикапей. Мне, говорит, надоело ждать. Я не пленница твоего отца… Вот и выехали. Все шло хорошо. Но она заметила волка и погналась за ним. Хотела заполевать волка, а наскочила на царя.
– То-то и оно! Нагнала на царя зверя! Хорошо, если волк не бешеный.
– Но она и спасла царя! Убила волка, сам царь признал это перед всеми.
– Верно. Зато теперь Алкмена быстро пронюхает все и примет свои меры.
– Надо было предупредить меня об охоте царской.
Саклей скрепя сердце согласился с сыном. Решил, что нужно спешить. Следуя ходу своих мыслей, приказал Алциму нарядить девушку в одежды своей жены, сшитые более двадцати лет назад, когда Афродисия была еще молода и хороша собою.
– И пусть ожидает своей очереди в соседней комнате.
Царь уже успокоился по поводу своего ранения. Эвмен перевязал ему ногу красной тканью с наговорами и сказал, что все будет хорошо. Царь заявил, что теперь он не прочь отведать хозяйских хлеба-соли. Давно уже он не ощущал такого волчьего аппетита.
– Больше года я не гостил у тебя, – с необычайной приветливостью обратился Перисад к Саклею. – А у тебя здесь так хорошо! Вдали от всех надоевших дел, послов разных стран, разговоров о деньгах, о войне. Право, я устал от суеты, от городской жизни, от всего. Как я хотел бы пробыть у тебя целый месяц, спать на открытом воздухе по-сарматски и всегда, вот как сейчас, испытывать острое желание поесть. Что там у тебя изготовлено?
– Государь! – развел руками Саклей, как бы в избытке чувств. – Да если такое случится, то это мне, старику, послужит для душевной радости и счастья! Я помолодел бы около тебя! А что приготовлено – сам посмотри. Прошу к столу!
Вся охотничья ватага с большим удовольствием расселась вокруг огромных столов в той же зале, где Алцим принимал Гликерию в памятную ночь. Царю принесли отдельный стол, уставленный золоченой редкостной посудой. Служить царю стал сам хозяин. Саклей брал у слуг блюда и вина и переставлял на стол царя, предварительно пробуя их – как вкусны, нет ли отравы?
Обед начался довольно шумно, вино из подвалов запасливого хозяина полилось обильной рекой. Языки развязались. Царь вел себя непринужденно, громко смеялся и шутил, вспоминая подробности охоты.
Подали козла, что заполевал сам царь, о чем торжественно заявил Саклей. Перисад еще больше оживился. Тушка козла, разделенная на много частей, быстро исчезла в желудках гостей, все находили, что это самое вкусное блюдо из всех поданных к столу.
– Жаль, что волчье мясо не употребляется в пищу, – заявил Перисад, смеясь, – а то мы отведали бы, как вкусен тот волк, что сам хватил царской крови, а погиб от руки золотоволосой Артемиды. Той, что прячется от нас.
Все зашумели одобрительно. Царь продолжал, лукаво поглядывая на Саклея:
– Может, твоя Артемида сама хотела затравить меня волками, как небесная богиня затравила Актеона? Только та напустила на бедного царя собак. А потом – я же не видел твою племянницу купающейся, за что же такая кара?
– Дело случая, государь, – развел руками старик, – на охоте с твоими предками и не такие дела бывали. Туры нападали. Даже многие на землю падали, когда, бывало, конь ногой угодит в лисью нору. И все-таки страшно, что твоя жизнь в опасности пребывала!
– Что ж! Благодаря смелой наезднице жизнь наша вне опасности! И я хотел бы с чашей в руках поблагодарить ее. Как?… Или ты отправил племянницу в ту башню, что стоит выше всех?! И запер семью замками? И ключи спрятал? Открой, прошу тебя!
Пирующие криками поддержали царя. Олтак хмурился, обдумывая странное происшествие.
– Воля твоя – закон! Хотя девчонка заслуживает наказания за то, что вольно говорила с тобою и смотрела на лицо твое в упор. Прости ее, не узнала она тебя, ибо никогда ранее не видела.
– Уже простил, – продолжал шутить и смеяться царь, – покажи свою племянницу, дай мне возможность поблагодарить ее. Адонис был смертельно ранен кабаном и воскрешен Афродитой. Если я умру от волчьего зуба – меня воскресит твоя племянница!
Девушка, наряженная в залежалые одежды и драгоценности больной хозяйки дома, стояла наготове за дверьми. Рядом с нею Алцим, раздраженный, недовольный всем происшедшим. Он знал, насколько падок царь на женскую красоту, и ревновал свою гостью, к которой успел привыкнуть.
– Для чего меня нарядили в эти ризы? Я же не жрица! – с неудовольствием шептала девушка. – Неужели обязательно нацепить на лоб эти камни, подвески золотые, чтобы моя просьба дошла до царева сердца?
– Слушай, Гликерия, ты сейчас при всех не говори царю о своем деле. Сейчас царь устал и ранен…
– Ранен? – перебила девушка. – Разве это рана?… Мой отец дрался со стрелой в боку! Вот это рана!
– Но Перисад – не твой отец, а царь Боспора!
Вошел поспешно Саклей и сделал знак рукой. Девушка, а за нею Алцим тронулись в зал, навстречу пиршественным крикам и звону посуды.
– Запомни, – прошептал Саклей, – ты племянница моя. И не говори ничего о том деле, ради которого приехала. Царь не сейчас должен узнать о том, что случилось с Пасионом. Не время.
Девушка вошла в зал с подносом, на котором стояла золотая чаша лучшего вина. Она смело подошла к цареву столу и, склонив голову, протянула поднос.
Всех поразили стройность и красота девушки, скромность и достоинство, с которыми она держалась. Они не знали, что неудобные наряды сковали движения Гликерии и она охотно заменила бы тяжеловесные украшения и ткани на удобный замшевый кафтан всадника.
Перисад с откровенным любопытством вгляделся в чистые черты ее лица и, протянув руку к чаше, произнес:
– Саклей не сказал мне имени твоего. Как зовут тебя?
Девушка подняла на царя глаза и громко, без страха ответила на вопрос его. Слова, произнесенные ею, поразили всех:
– Я Гликерия, дочь лохага Пасиона из Фанагории, твоего бывшего верного слуги и полководца. Он всю жизнь боролся с врагами твоими. А теперь – убит по тайному приказу Карзоаза, все его достояние захвачено этим злодеем. А я бежала тайком, чтобы не стать добычей того же Карзоаза. И молю тебя о справедливости! Помоги отомстить за смерть отца моего и возвратить то, что отнято у меня противно законам!
Она опустилась на колени и склонила голову на грудь.
Перисад растерялся. Не стал пить вино, поставил чашу на стол, лицо его задергалось, он оскалился, не будучи в силах подавить этой некрасивой гримасы.
– Что?… Что такое?… – с какой-то беспомощностью обвел он всех глазами и остановился на Саклее.
– Великий царь! – поспешил вмешаться хозяин. – Пасион и я родственники. Моя жена – двоюродная сестра тетки Пасиона. И я призрел девушку в беде. Не хотел открывать тебе тайны этой, дабы не ронять в глазах твоих и всего народа имя тестя твоего. А поступил он жестоко и несправедливо. То, что сказала Гликерия, правда. И не в моих силах теперь скрывать ее.
Саклей поднял полу своего кафтана и прикрыл лицо в знак того, что он полностью отгораживается от всего этого дела. И потом с видом скорби вытер сухие глаза. Он сообразил, что дело принимает не столь уж плохой оборот и неожиданное признание Гликерии может оказаться кстати. Во всяком случае, задуманный удар был нанесен в присутствии целой толпы придворных и знатных людей. Хочет царь или нет, завтра скандал будет известен всему городу. Карзоаз получит в глазах общественности Боспора далеко не лестную оценку… Но узнает и царица…
Стало очевидно, что близятся решающие события. Старик заметил, как выскользнул из зала Олтак и почти тут же вернулся и сел за стол. За окном зацокали копыта лошади. Ясно, что в город уже помчался посланец с новостями для Алкмены.
7Воины и рабы тоже гуляли во дворе, около кухни и у коновязей. Сюда несли недоеденные куски мяса, лепешки, даже кислое косское вино, обычно разбавляемое водою. Воины после охоты проголодались и поедали все, что подвертывалось под руку. Их смех, веселые разговоры и похвальба слышались во всех углах обширного двора. Для царских собак изготовили овсянку с обрывками требухи и кишок забитых животных. Проворные рабы, прежде чем накормить собак, успевали выделить и себе изрядную долю собачьего угощения.
Новый раб, купленный взамен бежавшего Бунака, уже успел угодить дюжим воинам, расседлывая их лошадей, за что получил ковш вина. Овсянка с кишками, предназначенная охотничьим псам, показалась ему царским угощением. Охмелев, Астрагал отошел с деревянной чашкой к конюшне и присел на корточки, желая насладиться лакомым блюдом без помехи.
Неслышно ступая мягкими постолами, вошел во двор волопас, одетый в сырую овчину, с посохом в руке. Он хромал на правую ногу, поврежденную когда-то страшными зубами барса. Если бы сейчас на него поглядел жрец храма Гермеса Рыночного, то узнал бы в Саклеевом волопасе того подстрекателя, что произносил на днях бунтарские речи на рыночной площади. Видели его и на молениях фиаса единого бога, всегда внимательного и сурового. Этот человек не знал, что такое постель и теплый очаг. Он спал на голой земле у костра, зимой спасался от стужи под боком лежащего вола, а летней жары не замечал совсем. Его черное длинное лицо было изборождено морщинами, рот плотно сомкнут, только глаза, умные и внимательные, оживляли его своим холодным огнем. В этом человеке чувствовалось нечто необыкновенное. Он походил одновременно на мудреца и на дикого жителя Таврических гор.
Подойдя, он всмотрелся в незнакомую фигуру Астрагала, что с аппетитом выгребал грязными пальцами овсянку из деревянной плошки, чавкая и сопя носом.
– Что-то я не знаю тебя, человек, – гудящим голосом молвил волопас. – Видно, не столь давно ты в этом дворе? Откуда ты?
– Откуда я?… Я сам продал себя в рабство доброму господину Саклею. И вот теперь сыт, даже пьян. И семья моя сыта, ей выдали за меня крупу, масло… Да любят вечно боги нашего хозяина Саклея!
– Ах, так это ты, Астрагал! А я не узнал тебя. Ты стал совсем другим.
– А откуда ты знаешь меня? – удивился раб и перестал жевать.
– Я… да так, знаю. Только, когда я раньше встречал тебя, ты был человеком, а теперь в тебе что-то собачье, ты и гнешься, как будто хочешь на четвереньки стать. Впрочем, ты и продавал себя – так уже гавкал, как пес. И еда у тебя собачья.
– Ты что, – с неприязнью скривился Астрагал, отставляя чашку, – издеваешься надо мною? Если я раб, то ты-то кто? Не такой ли пес, как я?
– Я? Да, я пес, – отвечал волопас без тени улыбки, – только я дикий пес, а ты – дворовый. Ты лижешь руку, что наказует тебя и кормит, а я не умею. Потому мне и не досталось собачьей еды.
Дворовые дружно рассмеялись. Пастух считался чудаком и в то же время опасным человеком. Его любили слушать, но никто не дружил с ним, боясь его колючих речей, за которые не диво было угодить под плети.
– Эй, повариха! – окликнул волопас кухонную бабу. – А ну, возьми вот это да изжарь на палке!
Он достал из-под овчины убитого зайца и бросил на землю.
– Пусть я буду пес, – обиженно продолжал охмелевший Астрагал, – пусть! Но вот я сыт. А что мне еще надо? Ничего!
Он говорил это так, словно старался убедить себя и окружающих в том, во что и сам не совсем верил. Некоторые кивнули головами не то одобрительно, не то с насмешкой. Никто не возразил ему.
– Значит, на роду написано тебе быть рабом, – изрек все с той же холодностью волопас. – Ибо не корми козла мясом, он не поймет его вкуса. Самая плохая трава для него слаще и вкуснее. Так и для врожденного раба – свобода в тягость.
– Опять ты умствуешь? – послышался со стороны густой бас Анхиала, недовольного тем, что рабы собрались в кучу. – Людям голову туманишь?
– Я не умствую, – отозвался Пастух, и в его голосе прозвучали нотки упорства и неуступчивости, но я хорошо знаю, что даже отпущенный на свободу осел сам возвращается во двор хозяина, желая испить помоев, к которым привык. Разве это не так?
– Вот тресну тебя по черепу ножнами меча, так сразу эта дурость вылетит из твоей головы! Дикий степной пастух, а берешься судить! Ты вот тоже пришел на хозяйский двор и смотришь, чего бы съесть и выпить. Значит, и ты осел?
– Осел. Ты прав – мы все ослы. А я даже вьючный осел. Ну, а ты выездной. Но уши у нас одинаковые.
Анхиал, изрядно подвыпивший, побагровел от дерзких речей раба. Если бы на месте Пастуха был кто-то другой, он спустил бы с его спины шкуру. Но этому удивительному человеку многое прощалось. Встретившись глазами с огненно-холодным взглядом странного волопаса, Анхиал невольно отвернулся. Чтобы замаскировать смущение, он крякнул и провел рукой по усам.
– У кого боги отняли разум, тот сам лезет головой в омут. Хозяин разрешил тебе в город ходить на моления, думал – ума наберешься. Видно, нечего дырявым кувшином воду носить!
– Не ссорьтесь! – раздался веселый голос одного из царских псарей. – Лучше расскажите, откуда эта девка взялась. На коне скачет, как табунщик. Самого царя от волка спасла. Вот это девка!
Разговор принял новое направление. О Пастухе и его речах сразу забыли. Никто так не любопытен, как дворовые рабы. Каждому хотелось узнать, откуда и зачем приехала в имение эта ночная гостья. Уж не думает ли Саклей женить на ней Алцима?
Лайонак, утолив голод и жажду, приблизился к говорившим. Он успел разглядеть девушку, и она мучительно напоминала ему кого-то, – но кого? Как будто он уже видел ее и даже слышал ее голос, запомнил ее светлую улыбку.
На крыльце показался Олтак, и по его приказу один из дандариев поскакал в сторону Пантикапея. Потом вынырнул Саклей, от одного взгляда которого всех рабов как рукой смело, двор словно вымер. Даже Анхиал, ругаясь и махая плетью, исчез за сараями, как бы выполняя важное дело.
Лайонак и Пастух остались у дверей конюшни, в которую только что юркнул Астрагал.
– Смелые, но неосторожные слова говоришь ты, брат Пастух! – заметил царский конюх. – Говорю тебе, как брату, именем единого бога! Дойдут твои речи до Саклея, – вздернет он тебя на железное колесо! Или не страшишься?
Пастух подмигнул насмешливо, но не улыбнулся.
– Страшусь, но не могу не говорить. Я и на площади всему народу, что там был, о тайне царской рассказал. Теперь все узнали, что Перисад продал царство Митридату и ждет понтийских солдат, чтобы со своим народом расправиться.
– Говори еще, чтобы деревня знала. Но будь осторожен.
Они расстались. Лайонак пошел к лошадям, Пастух – на кухню, узнать, готово ли жаркое из зайца, пойманного им в силок.
Астрагал вышел из дверей конюшни и, оглянувшись, отправился разыскивать Анхиала. Найдя его около кухни, сообщил ему, что злоязычный Пастух и царский конюх говорили что-то о продаже Перисадом царства Митридату, но что точно – не разобрал через деревянную стену конюшни.
– Пастух говорил об этом? – задумался Анхиал. Он уже слышал тайную новость, о которой говорили всюду.
– Говорил.
– И царский конюх Лайонак?
– И он тоже говорил.
– И это все?
– Все.
– Иди, дурак! Если будешь подслушивать, то старайся все услышать. Но и за это ты молодец! Хозяин не забудет твоего усердия, я доложу ему. Старайся!
– Стараюсь, господин! – угодливо улыбаясь, поклонился Астрагал.
– Иди и больше не болтай об этом.
Через час царь со своей свитой в сопровождении Саклея выехал из имения в Пантикапей.
Глава пятая
Две Афродиты
1События последнего времени всколыхнули пантикапейский народ, основное ядро которого состояло из потомков эллинских переселенцев, упорно сохранявших черты и обычаи своих предков.
В эллинских городах любой слух заставлял собираться толпу, известие захватывало весь рынок, а события первостепенной важности, как правило, вели к всенародному собранию – экклезии.
Так получилось и на этот раз. Разгром войск скифского царя Палака, приезд Диофанта и обещание помощи от Митридата уменьшили гнет мрачных предчувствий и явились как бы сигналом для пантикапейской общины напомнить о себе.
Впрочем, непосредственным поводом к собранию послужила смерть Аргота, выборного стратега города. Аргот давно уже не участвовал в делах, лежал в постели, принимая горькие лекарства, меняя повязки на вскрывшихся ранах. Но лишь с его смертью встал вопрос об избрании достойного преемника, имеющего власть и влияние при дворе, способного защитить перед царем интересы горожан.
Городская экклезия не имела тех широких прав, которыми пользовалось народное собрание в Херсонесе или в Ольвии – этих маленьких республиках древности. Ее решения чаще всего заранее подготовлялись советниками царя, утверждались последним, а потом вносились подставным лицом на общее обсуждение и голосование. То и другое также проводилось формально, выступали ораторы с готовыми речами, и после молчаливого поднятия рук решение принимало внешность проявления «народной воли».
Так делали предки Перисада, так делалось и при нем. И все же полностью обуздать народ не удавалось ни одному Спартокиду. Нечасто, но бывало, когда с голосом народа приходилось считаться даже таким сильным тиранам, как Евмел, который принужден был держать ответ перед возмущенным народом, после того как убил своих братьев и всех их родственников и друзей, дабы обеспечить себе прочное царствование.
В этот раз экклезия собралась без ведома царя и так быстро, что даже городские магистраты не знали о ней и принуждены были, подхватив полы своих плащей обеими руками, бежать на площадь, где уже бушевала толпа.
– Видно, ослабла рука государя, если люди самостоятельно собираются на площади, – говорили близкие к трону люди.
Царская власть требовала от народа усердия и готовности выполнять те решения, которые были подсказаны свыше, но всякое проявление самодеятельности народной, если оно возникало само собою, пугало царя и его приближенных.
Во дворце царила суета. Здесь получали наказ десятки лиц, которые должны были вмешаться в толпу и дружно отстаивать те предложения, что будут выдвинуты магистратами в противовес требованиям общины. Царица также посылала своих соглядатаев и крикунов, предчувствуя недоброе. Весть о прибытии дочери погибшего Пасиона и хитроумно подстроенная (царица была убеждена в этом) встреча ее с царем на охоте взволновали и насторожили Алкмену. Зашевелилась стража, по улицам замелькали острые шапки дандарийских всадников.
Оставался спокойным Саклей. Он сидел в своем городском доме против окна и прихлебывал из золоченого рога вино. Отсюда он хорошо видел многолюдную толпу на площади и не спешил.
Посланному от царя доверенный раб Аорс сказал, что господина дома нет.
Старый лохаг выжидал. Сейчас многое, если не все, решалось не во дворце Перисада, а на рыночной площади, против городской трибуны.
В дом забегали юркие люди, запыхавшись, приносили новости, докладывали о настроениях народа и исчезали с монетой в руке, спеша обратно на площадь. Странные, волнующие слухи распространялись с быстротою ветра. Говорили, что царица хочет добиться избрания своего человека и лишить Пантикапей последних остатков его вольностей и старинных прав. Все чаще произносилось имя Саклея, единственного сильного мужа, способного отстоять древние привилегии пантикапейской общины перед засильем Фанагории, Танаиса и других городов царства.
Магистраты взошли на трибуну и пытались разыграть недоумение: зачем, мол, народ собрался и шумит, придет срок, магистраты сами объявят собрание и разрешат все вопросы. Но их заглушили крики толпы, гневные возгласы и даже угрозы. Экклезия была объявлена и началась с возбужденных выступлений пантикапейцев среднего и малого достатка.
Первым выступил хозяин небольшой мастерской и лавки Фений. Он протянул вперед руки, торчащие из засаленных и обтрепанных рукавов сарматского халата, и поднял небритое лицо к небу.
– Богов призываю во свидетели, – крикнул он хрипло, – ибо все, что я скажу, правда! Всем известно, небогатый я человек, хотя мои предки прибыли сюда из Милета с первыми кораблями. Трудно с тремя рабами в тесной мастерской создать себе богатство. Но мой отец, да и я когда-то жили безбедно, пока дела наши шли хорошо. Но что сейчас? Я ковал топоры и клинки, продавал их крестьянам и степным скифам. Теперь крестьяне ничего не покупают. А почему? Не на что. А со скифами мы не торгуем, ибо перестали дружить с ними. Можно было бы отправить изделия на ту сторону пролива, к сарматам, но туда не пускают нас фанагорийцы. Они наши корабли задерживают. Сами торгуют с сарматами, а мы сидим. Разве Фанагория отошла от нашего царства? Почему ее архонты своевольничают? Почему купцы из Танаиса не берут наших изделий для продажи аланам? Почему синопские навклеры и эмпоры везут свои товары в Сарматию мимо нас? В то время как мы не знаем, куда сбыть свои. Почему мы с каждым днем нищаем и скоро пойдем в наймиты в другие города? Куда девались права наши?
Толпа ответила оратору одобрительным гулом и выкриками:
– Надо восстановить право торговли с Сарматией!
– Наказать виновных!
– Пантикапей – первый город царства, он никогда не платил пошлины, и его купцы торговали всюду первыми!
Саклею из окна не слышно было, что говорят, но он хорошо различил фигуру Фения, с которым имел деловой разговор накануне.
Выступил владелец корабля Асандр, сын Селевка, человек медлительный и тучный, уважаемый всеми мастеровыми скупщик изделий городских мастерских. Он огладил бороду и развел мясистыми ладонями с глубокомысленным видом.
– Я возвратился из Танаиса, где потерпел великий убыток, – начал он. – Танаиты заставили меня заплатить пошлину, хотя я исконный пантикапеец, мои прадеды прибыли сюда из Теоса. Вот я и думаю: значит, Пантикапей уже не признают стольным городом, а на его привилегии плюют. Когда это было, чтобы пантикапейская община торговала, платя пошлину второстепенным городам царства?
– Никогда! – взревели в один голос хозяева эргастериев и торговцы.
– Верно, никогда! А кроме того – налоги царские мы платим немалые, и они все растут!
– Растут! – как эхо отозвались в толпе.
– А из каких средств нам платить их? Получается: купцы прочих городов снимают с нас одну кожу, а царские магистраты – другую.
Рев и шум на площади стали напоминать звуки морской бури. К ним прислушивались всюду – в рабских мастерских и рыбных сараях, в казармах фракийцев, готовых к выступлению, и в царском дворце. Это звучал голос пантикапейского демоса, той основы, на которой держалась мощь Боспорского царства.
Саклей решил, что его час настал. Он хлопнул в ладоши и велел подготовить все для его появления на площади. Когда он подошел к трибуне в сопровождении группы преданных людей, выступал откупщик Каландион, тоже преданный ему человек.
– Я думаю, что нам надо просить великого царя Перисада, – начал Каландион высоким певучим голосом, – прекратить самостоятельную торговлю городов с заморскими купцами. Пусть встречаются в Пантикапее и платят пошлину.
– Правильно!.. Истинно!..
– Карзоаза же, что ставит себя, как тесть царя, выше других, сместить и заставить заплатить за убытки! Он хочет расколоть царство, а за это раньше полагалось одно наказание – смерть!
– Смерть Карзоазу!.. Слава тебе, Каландион!..
– Но Карзоаз благочестивый человек! – раздался чей-то голос. – Он внес три тысячи золотых в храмовую казну!
– Внес три тысячи, а нажил сотни тысяч! А наш царь беднеет и увеличивает налоги на нас. Это несправедливо.
– Кто может доказать, что Карзоаз допустил беззаконие? – не отступал чей-то голос. Его начали поддерживать другие, сначала робко, потом смелее.
Саклей насторожился. Начинали действовать ставленники царицы. Пора было вмешаться.
Толпа сразу утихла и с любопытством наблюдала, как на трибуну взошел маленький человечек с острой бородкой в простом, но чистом гиматии. Он поднял руку и голосом звонким, как у юноши, заявил:
– Граждане пантикапейцы! Да благоволят вам великие боги и царь наш справедливый Перисад. Истинны слова тех, кто сказал, что слабы мы стали, если города царства не выполняют законов. Фанагория скоро лопнет от золота, а нам нечем расплатиться с долгами. Карзоаз превысил права свои и хочет стать тираном. Более того, он оказался человеком нечестным и даже пошел на преступление в своей жадности к обогащению и власти. Нарушил законы человеческие и божеские…
Взрыв одобрения был ответом на эти слова лохага. Но ставленники царицы зашумели, послышались задорные выкрики, посыпались вопросы:
– Откуда ты знаешь это, Саклей? Докажи!
– Ведь Карзоаз тесть царя, и никому не дано оскорблять его!
– Поплатишься ты за это, Саклей!
Саклей встретил эти выкрики спокойно, стараясь запомнить лица крикунов. Переждав, когда шум утихнет, продолжал:
– А вот откуда я знаю это. Всем известен Пасион, второй лохаг и стратег фанагорийский? Тот Пасион, что был предан царю нашему душой и телом?
– Известен!
– Что говорить о нем, если он погиб в сражении с аланами!
– Погиб, говорите! – прервал Саклей угрожающим тоном. – Погиб, это верно, но не совсем так, как вы думаете. Оказывается, не от аланского меча, но от стрелы наемных убийц погиб он. А убийц подослал Карзоаз. Ему мешал Пасион. Мешал властвовать. Да и богатство имел завидное. Так не поступает тот, кто предан царю и богам.
Такое сообщение, сделанное влиятельнейшим человеком города, поразило всех. Даже те, кто с полным недоверием относился к таинственным слухам о причинах смерти царского военачальника, стояли с разинутыми ртами. Послышались крики гнева и возмущения:
– Позор и проклятие убийце! Изгнать его из царства! Предать смерти!
– Надо идти к царю и требовать наказания Карзоаза!
Опять попытались возражать сторонники царицы, на них посыпались ругательства и угрозы. Саклей вновь поднял руку и спокойно заявил:
– Здесь идет народное собрание, и каждый имеет право усомниться в моих словах и потребовать доказательства. Так же каждый может говорить все, что он хочет, не боясь ответственности за свои слова. Таков закон отцов наших, и не нам нарушать его. Доказательства пусть представит нам дева непорочная – дочь Пасиона Гликерия, обиженная Карзоазом, ограбленная им, даже бежавшая от убийцы отца своего, дабы избегнуть позора, что ждал ее в объятиях старого развратника.
По его знаку на трибуне показалась Гликерия, одетая в белоснежные одежды, без всяких украшений, с непокрытой золотистой головой, увенчанной лишь венком из роз. Саклей хорошо знал вкусы своих сограждан, преклоняющихся перед внешней красотой, считая последнюю лучшим доказательством правды ее обладателя. Скромные белые одежды Гликерии ниспадали складками, как на изваянии Афины Паллады, белые цветы, символ непорочности, изумительно оттеняли ее розовые щеки и волны золотистых волос. Рядом с толстыми магистратами, облаченными в темные помятые одежды, среди толпы мужчин с взъерошенными волосами и бородами она выглядела богиней любви и красоты, чуждой грубым страстям и делам всех этих людей. Глядя на нее, сразу верилось в существование иного, более прекрасного мира, населенного вот такими же воздушными созданиями.
– О боги! – ахнул кто-то в упоении. – Да ведь это сама Афродита Небесная!
Толпа, притихнув на миг, вздохнула восхищенно как один человек. И никто уже не сомневался, что все сказанное этими прекрасными устами может быть только истиной. Люди пожилые стали приглаживать волосы, оглядывать свои одеяния, молодые выпячивали вперед грудь и разгоревшимися глазами, казалось, хотели притянуть к себе волшебную деву, едва веря, что она сотворена не из пены морской, а из плоти и крови, как и они сами.
Но вот она раскрыла алые губы, сверкнула ровными зубами, и ее голос, сильный и уверенный, прозвучал на площади подобно удару гонга. Она в коротких словах подтвердила все сказанное Саклеем и, подняв свои лилейные руки, обратилась к народу с трогательной просьбой защитить ее, поддержать, не оставить одну в несчастье.
Кто не хотел бы стать защитником и покровителем этой белой лебеди, принявшей человеческий облик? Сам Саклей любовался ею и торжествовал в душе, довольный своей выдумкой. Выведя Гликерию на трибуну, он сумел пленить душу пантикапейского демоса, оживил в его воображении прекрасные мифы древней Эллады, столь дорогие сердцу каждого грека-колониста. И тут же его кольнуло в грудь, когда он обратил быстрый взгляд на Алцима, сопровождавшего Гликерию. Острое лицо сына с пятнами румянца на щеках как бы окаменело, отразив одно чувство немого восторга, обожания, с которым он смотрел на живую богиню. Когда девушка протянула к народу руки, умоляя о поддержке, глаза Алцима наполнились влагой и невольные слезы скатились на бронзовый панцирь, оставляя на щеках две темные дорожки.
«Эка! – в неудовольствии заметил про себя лохаг. – Эка развезло его! Не иначе как он запутался в золотой сети этой девки, как глупый сазан в рыбачьей гангаме».
Крики толпы доносились до самого акрополя и терзали слух Алкмены. Перисад угрюмо прислушивался к гневному голосу народа. Он стоял на одной из башен акрополя и наблюдал, как растет толпа полноправных граждан Пантикапея, ссориться с которыми сейчас, в годину неудач, было бы невыгодно.
Но когда появился Олтак и доложил, что экклезия избрала новым стратегом города Саклея, сына Сопея, и что толпа представителей идет в царскую ставку для утверждения народного решения, Перисад заволновался и приказал одеть себя в торжественные одежды. Он не ожидал такого решительного хода от старого Саклея. Теперь последний еще более усиливал свое влияние на дела государственные и получал право говорить с царем не только как его военачальник, но и как представитель народа.
Однако такой выбор собрания не мог вызвать со стороны царя особых возражений. В конце концов, лохаг являлся самым деятельным помощником в государственных делах, по-настоящему радел об интересах державы. Он не в дружбе с Алкменой, так это и понятно – ведь Карзоаз на самом деле ведет себя оскорбительно и вызывающе. Фанагорийскому вельможе надо противопоставить сильного человека, каким мог быть только Саклей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































