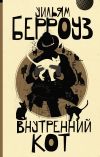Текст книги "Одна ночь (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 47 страниц)
Рот в тине. Язык распух и не ворочается – орган, которым говорят о луне и солнце, о мёде мечты и жале желаний, о ранах и отравленных чашах, об изменениях моря, о происшествиях на воде, о третьем штурмане по прозвищу Шаткое положение, о пробоинах и помпах, о сломанном винте и остановленной машине, о противотуманных похоронных ударах старинного корабельного колокола, слышимых моряками перед гибелью. Тело рвут свирепые раки. Оттуда нет известий. Фамилия простая, а вот не застряла. Запутался в Саргасах. Не туда смотрю, там… Ступни всей команды повернулись в ту сторону. У кончиков ресниц, у выпученных яблок – чёртов выродок. Крутился, дразнил. Совсем близко. Компасной стрелкой. Устал, разъело веки. Плыть уже не мог, из сил выбился. Покачивался на спине. Баста! Пояс из летучих рыб. Ожог от пожара. Багровые рубцы. Рога огня росли из палубы. Перстнями ловил блики, брошенные ходовыми огнями сумеречного скитальца. Хруст креветок. Засыпанное пеплом колено. Приютил у себя на галстуке небоскрёбы и россыпь звёзд из другого полушария. Мёртвые клювы. Обзавелись поголовно, без исключения, интересно, всё-таки, знать: вернулся ли на борт Артур Арнольдович, капитан, под дудку которого все пляшут…
Я не у себя в каюте, я – у Рахили. Вот что. Штурвал боролся всю ночь с лютым штормом и вышел победителем из неравного поединка. А что не понял – пеняй на свой, повторяющийся из сна в сон, кошмар. Оглядеться никому не мешает. Берлога, куда заползают зализывать царапинки. Ещё рано, ещё хлеб не крошился и масло не горчило на конце тупого ножа. В доме нет мужских рук. Кашель грызёт её легкие. Шафранная кожа, как у мумии. Не надо песен. Столетние кости за стеной бубнили. Мрачное еврейское око выглядывало из комнаты. Спрашивало: не время ли выпроваживать за дверь её хахаля?
Ровно в три, у причала…
Старушку нашу я нашёл на том же месте, где оставил её вчера: не смыло её волной угара. Чуть ли не три месяца без берега как вам покажется? На борту шевелились матросские робы. Утренняя приборка, мелкий ремонт. Что же это я, бесстыжий и нахальный, явился мозолить глаза начальству своим, катавшимся всю ночь в масле, сияющим блином? Надобности моего присутствия на судне пока не видят. Так что – могу продолжать Рижские каникулы. Только вот Кольванен мрачен. Ему не так повезло, как некоторым, для которых дружба – это пузырь на воде. Тоже вечерок провёл. Вытряхнули карманы и втолкали на панель. Цел и невредим – и то надо благодарить ангела-хранителя в кепи с полицейской кокардой.
Помиримся, уверяю вас, минуты не пройдет. Кольванен не злопамятен, с ним поласковей – и опять он замурлычет арии из опер. Розовая мечта Кольванена: тарелки в оркестрике. Запоёт бронза – чистое сердце, барабанчик-поросёнок завизжит от радости, будет просить: поупражняйся, пожалуйста, на моих боках, друг-Кольванен, кожа моя истомилась от безделья, гудеть бы ей под топотом палочек.
Вымой, Кольванен, руки мылом, щёки выбрей до лоска, оденься во всё элегантное, и пойдем, денди, прошвырнёмся по набережной. Познакомлю с Рахилью.
Тучи не устали. Капли – тук-тук. Издалека я узнал это её сокровище, её зонтик, кособокого её краба, которого она хмуро и брезгливо, с видом: «плевать», держала за ножку. Честно признаться – ёкнуло. Глупо, а вот…
Сброд болтался вокруг да около. Разглядывали носки штиблет-баркасов, собственных и чужих. Такие же, как мы, гаврики. Ей подфартило: думала – не придёт, а нате – двое. Топчется тут четверть часа. А так – делать нечего. Времени прорва. Взгляды-щупальцы не успели раздеть её догола.
Что в трюмах? Груз тоски? Жить можно. Не жалуемся. Шёлк и жемчуг носим не мы. С какой стати отягощать побрякушками уши и шею, не такие уж, надо сказать, и изящные, не собирается, хоть зарежь.
Эти тона к лицу Риге осенью; город с рыцарским прошлым, ржавые флюгера каркают со шпилей над рёбрами крыш.
Район с испорченной репутацией. Бывают и облавы. Чердаки кричат: «смерть оккупантам!»
Что ни дом – дот, что ни окно – амбразура с наведённым на «свиней» пулемётом. Гарантирует неприкосновенность. Волос не упадёт с головы у Кольванена. А упадёт – ужас! Рига сгорит в одно мгновение. Выгорит дотла. Вороши потом головешки, ищи череп бедной Рахили.
Кольванен мой неотразим, картинка, плащ-макинтош мёл тротуар, под плащом новенький, с иголочки, первый раз надетый вельветовый костюм цвета жёлудя. Герой.
Не зимовать же. Подлатаем, покрасим, а там – счастливо оставаться. Сто футов под килем. Гребешки. Привет, Нептун! Что хорошенького? Баллов пять. Пустяковина.
Войдем в это осиное гнездо и посетим квартиру восемнадцать на последнем, подоблачном то бишь, этаже, просторный вестибюль парадной, кафельные плитки идеальной чистоты – хоть спи на них. Не бойся: не потревожат; перешагнут и пойдут дальше.
Наш «снег на голову». Инга, у которой мудрая переносица. Шаром покати по её полкам – продуктовым и любым, какие найдем у неё в лачуге.
Сидели по-японски на циновке и обсуждали: достаточно ли голы стены у Инги или всё-таки на них ещё висит что-то лишнее, что можно было бы загнать и заморить червячка. Инга – зубы, ослепительная эмаль; кто увидет её раз, не забудет вовеки. Аминь.
Рахиль, сомнения мои уходят на цыпочках. Я уже не тот доисторический ящер, что был вчера. Камень милостыни у меня за пазухой, оброс подводным мохом, морской травой. Кому я подам его? Во всяком случае, не тебе. Обещал и вернулся. Я держу своё слово. Встречай! Где твои возгласы радости? Не слышу ликованья. Ты бледна, как меловая скала, глаза-иллюминаторы, смотришь с отвращением, выставила ладонь, барьер – чтобы не приближался. Вид у меня отталкивающий, должно быть, да и каким ему быть после многих месяцев в солёной водичке, в сердце моря, его глубинах и безднах? Ничего не поделаешь. Согласитесь. Надо принимать меня таким, какой есть. Сяду за стол, а ты подай мне ужин, налей кубок. Но ты молчишь, ты воды в рот набрала – три океана. Влипла спиной в стену, не шевельнёшься. Только глаза – вопль. Раковина протрубит перламутровую весть рано утром, перед рассветом: пора! пора! Море зовёт своих утопленников. И я уйду, оставив лужи с обрывками водорослей у тебя на твоём негостеприимном, немилосердном полу. Прощай, Рахиль, прощай, дочь старой Риги! Замрёт мой голос в порту, сливаясь с гудком отчалившего от пирса, судна…
В тот вечер мы долго бродили от огня к огню, меняли кабачки. Низкие лбы неумолимых убийц преследовали нас по пятам. Поднимались на «поплавок». Укачает без хмеля. Мастер чучел? Моторист? Что ты бормочешь, беспрерывно, ветер крепкий поднялся, зыбь погнал в бухте. Сбрендил. В глазах рябит. Кольванен-угорь, огненный линь, змеился и ускользал. В одну посуду, пожалста. Флакон «Кристалла» и что-нибудь закусить. Грозный перст стёр половину столиков. Жирное горло надрывалось, чего-то требуя. Мелюзина, Лорелея. Сломанная лебёдка. Из её утробы мог бы выйти целый полк с барабанным боем и под развёрнутыми знамёнами. А вот – судьба распорядилась иначе. Ещё не ночь. Не новая, по крайней мере. Под ложечкой сосет хорошо знакомое всем отчаяние. Качает, качает. Электрические скаты лезли Кольванену на колени, он устал их сбрасывать. До чего капризный: то ему не так и это. Шлёпогуб, африканский слон. Кто с тобой будет знаться? Не я – э нет, голубчик, не рассчитывай. Откуда это ощущение неминуемой потасовки? Этот шум прибоя? Сосредоточься на собственном шёпоте. Что она хочет? Случайной ласки? Подозрительного фосфорного отсвета на волосах? Что-то об имени. Имя, которое носят как непосильное бремя греха целого народа, гиря-имя – тянет и тянет на дно. Тянет и тянет. Не успокоится, пока не угробит. Миклуха Маклай. Амундсен. Кольванен встал во весть рост, под потолок, и швырял монеты всех стран направо и налево. Колёсики раскатывались, сталкиваясь с ножками табуретов и башмаками, падая и звеня. Рюмки, кадыки, ночные бабочки. Глаз-головорез горел из-за соседнего столика.
– Погасло?
Двигались ямки, светлые и тёмные, сетью, булькало. Позор трезвым, вода полна плавников. Сцилла, Харибда. Обычная для такого бардака шум и пена. Инга погибла. В лапах Кольванена. Туда и дорога. Набежит свора шакалов – пора утикать. С адским воем. Завтра «башка лопнет». Это её хрипотца, ни с кем не спутаешь. Швейцар подберёт. Пролив Скагеррак выползет из-под шкафа – душить клешнями. Невозможно у неё лежать ночь напролёт на её тесной постели. Метроном стучит у неё за стеной. Стучит, стучит, не переставая. Что он стучит, проклятый? Не всё кончено. Он ещё выплывет, освещенный факелами горящей нефти. Щеки-шхеры. От него, от этого Кольванена, не так-то легко отделаться.
Мириады мёртвых однодневок устлали белесой пыльцой залив. Или свет звёзд? Прощай, Рахиль, прощай, рижаночка, нежный жар в ноздре. Меня зовут подводные гроты. Я вернусь…
Долго я гулял, далеко забрёл. Причал, судно чужое. А наше – на рейде, огни ночные. Разделся, снял всю одежду и поплыл. Холод подобрался к сердцу, судорогой свело руки и ноги. Что-то плавало передо мной, совсем близко, у самых глаз.
Протянул руку – не достать. Яркий, как огонь, спасательный круг.
3Неузнаваемо, нелюдимо. Соль на леерах. Подставило ржавую скулу берегу, ожидая худшего. Умерли они там все, что ли, холерная палочка скосила? Судно стонало, просило не обессудить. Я тоже могу рассчитывать на тёплую койку в лазарете, доктор даст лошадиную дозу опиума, и я, тихо заржав, счастливый, пенногривый, нахлыну и затоплю побережье. У нашего доктора никаких других лекарств не имеется, вот в чём дело, и фамилия его – Рундуков. Маяк-изувер вколол иглу шприца мне в глаз. Мне больно. Вы бы знали: какая это боль! Пронизывающая, лучевая. Но я же молчу, я терплю, из моих уст самой страшной пытке на свете не выдавить жалобы. А ты, такое большое, железное, тоннаж солидный, а позволяешь себе скулить, как брошенный щенок, и тебе не стыдно, судно? Утюг ты мой. Мы с тобой ещё погладим мятые штаны какому-нибудь там Тихому океану. Не плачь, пожалуйста. Очень прошу. Я тебя утешу и успокою. Хочешь, буду ползать на четвереньках по палубе и облизывать любящим материнским языком твою старую шёрстку. Жарко. Подушка-плот. Стоптанный сапог полуострова, который я видел на чьей-то стене. Неснимаемая обувь. Босяк-скиталец. Кто бы мне объяснил: зачем меня положили головой в костёр, разведённый на пирсе бродягами-буянами? Для них сам чёрт не брат. Это горят мазутные бочки…
В головах грохот и лязг выбираемой брашпилем якорной цепи. Вот кто меня разбудил – эта гремучая змея, терзающая мой слух, продетая сквозь мой мозг. Судно сотрясалось. В море? Новая стоянка, всего лишь. Гоняют по пристани, как вшивых. Рупор Артура Арнольдовича на мостике. Увидев меня, обязательно спросит с присущей ему ехидцей: хорошо ли я освежился ночным купаньем и крепко ли я после этого спал?
Кстати: получил ли наш милейший громовержец любезное позволение с берега – торчать в этой дыре рядом с соблазнами до скончания наших дней? Или завтра – в шею? Не желательно бы. А почему же? Просим объяснить тупоголовым. Не просите. Просьбы ваши также бестолковы, как и бесполезны. Вопрос этот пока неразрешим, друзья мои. И отцепитесь, я ещё не завтракал. Вот пристала смола. Что бы надеть такое, чтобы хоть чуть-чуть выделиться? Задачка, знаете. Гардероб трещит, а ничего путного. Взятый у волны поносить кружевной воротничок-жабо. Я вам очень признателен. Вы меня так выручили, так выручили! Я у вас в долгу. Теперь я буду думать: чем бы вас достойно отблагодарить.
Попался в руки потрёпанный Шекспир. Он всегда попадается первым, когда я ищу сам не знаю что. Датский принц Гамлет отправлен в Англию с депешей. Вот как! Приятная новость. Паутина снастей. Ночь. Скорлупку валяет. Два болвана дрыхнут на рундуках. А принцу любопытно: что в запечатанном королевским перстнем послании, он зажёг свечу, поставил её на бочку и, развернув свиток, заглядывает в него. И что же он там видит? Обезглавленное окровавленное тело кланяется ему. И его собственная отрубленная голова глядит на него, не мигая, выпученными мёртвыми глазами. Здравствуй, казнь. Бдение плывущего на утлой щепке по бурному морю ночью. Не спи, моряк, останешься кое с чем на плечах. Пальцы в машинном масле хватались за эту страницу, как тонущий за борт шлюпки. Гаечный ключ. Когда я вернусь к тому потрясателю пучин? Когда, когда. Шкуркой той, что вчера снял и оставил на причале, прежде, чем пуститься вплавь, я ничуть не дорожил. Говорю вам. Её, думаю, примерил портовый голяк и пришёл к выводу, что как раз по нему шито. И слава богу. Таскай мою покрышку, не промокай, собрат по плоти. Проглотил: сыр, сухари; чай остыл, с чаинками, слегка окрашенный. Кают-компания у нас – красное дерево, да будет вам известно. Скатерть-снег, Фарфор, мельхиор. Стюард атлетического телосложения, прозвище – Гибралтар, прислуживал, морщась, ревматик, плохо сгибая в коленях Геркулесовы столбы. Рот отвык. Триста лет питался планктоном, и вот: вернулся к нормальному человеческому столу, а ни кусочка не лезет, застревает в горле. На борту тихо, пусто. Ишаки моря не железные, отпущены на сушу немного порезвиться. Тут есть Шелипов, начальник над водолазами, старший у них. Водолазов тут целый отряд, если и не тридцать три богатыря, то пять наберётся, лясы точат в кубрике весь рейс. Судно у нас не простое, а особенное: бежит на сигналы СОС, с какой бы стороны их не услышало.
Зашел к Кольванену в каютку. Вот кому и горя мало. Тулумбасит на своих ударных инструментах, усердный кончик языка высунут – розовая свистулька, туфли отбивают такт. Размахался – переборку проломит. Музыкальный пот валится водопадом с лица моего трудяги – Кольванена. Лампочки крутить легче. А? Он своего добьётся, будьте уверены. Скоро, скоро мы увидим нашего Кольванена в более приятном для него месте: в оркестре трансатлантического лайнера, развлекающим денежные мешки. Кольванен, кончай концерт! С тебя реки льются и потоки бурлят. Утопишь, чертяка!
Тра-та-та по трапу. На причале работы: ток с берега тащат в панцирном кабеле к нашему плавучему дому, опустелому нашему ковчегу; брызжет электросварка. Намертво приваривали нас к шпоре Риги, не ускачем, улепетнуть не удастся без вмешательства высших сил. Не рыпайся, цыган, сиди на цепи, привыкай к чугунному кольцу в ноздре причальной стенки, к почётной позолоченной уздечке узника. Этого ли не доставало твоей кочевой душеньке? Мы оба, Кольванен и я, оглянулись: не сходит ли с борта ещё кто-нибудь из команды. Ждали минуту-другую в надежде занять деньжат. Вчера славно гульнули. Растранжирили все накопления. Мошна пуста, там теперь хор нищих поёт на самый заунывный мотив из репертуара Кольванена: подайте на пропитание сиротке безрогому, Христа ради. Напрасно мы ждали. Потерянные минуты. Так никто и не появился на палубе. Только скучала, облокотясь на релинг, затасканная, почти совсем утратившая свой первоначальный синий цвет, повязка на рукаве вахтенного матроса. Шиш. Сам на мели. Предупреждала она нашу денежную просьбу. Могу карманы вывернуть, если не верите. Так-то. Погодка у моря. Два мрачных месяца. Чёрствые, как булыжник за пазухой у голодного года. Зубы обломаем. Вот когда варёный рак свистнет в обе клешни, тогда и отчалим. Никак не раньше. Помяните мое пророческое слово. Не горюй, друг-Кольванен, рыжий пёс, искра божья, что-нибудь на ходу придумается, решится само собой, к нашему удовольствию, специально для нас, лично, подчёркиваю, для таких вот в пух и прах разоренных, какое-нибудь озарение, идея, эврика. Были бы у нас с тобой такие бычьи шеи, как у кнехтов, и мы бы повязали себе такие же стальные галстуки из неразрывных тросов и пошли бы, щеголи, распугивая местный народ. Дунуло с залива, пасмурь прогнало. И мы полетели на парусах наших плащей. Пешочком к центру. Автобусы нам с Кольваненом не надобны. На автобусах мы не любим кататься и ни на каком земном транспорте. Такая гадость: садиться на колеса. Нет уж, спасибо, проезжайте мимо. Мы – сыны другой стихии и будем ей верны по гроб, то бишь по брезентовый крепкоспальный мешок с привязанной к ногам металлической болванкой. Хмурые брызги стряхнём с мудрого лба. Жизнь, закипай! Пузырьки в крови пионера глубин. Днопроходец, у него кессонная болезнь, оставь его умирать в покое под толщью километрового водяного столба. Не я бормочу – ты, всю дорогу. Дурная привычка, себе под нос. Не тебе же. И будь счастлив. Мокрые курицы, а не орлы. Смотрят, а рублем не одаривают. Расценим как издевательство? А? Кольванен? Что ж ты все отмалчиваешься, пара к моему сапогу? Не шебурши. Увидишь ты свою махровую розу Шарона. Рахиль, её «взять тачку» у шашек такси и её махнём туда, где кончается полоса неудач, дюны, зыбучий песок и чёрная змейка её вездесущего невезенья. Впрочем, она вот что хотела нам сказать: хорошо, что мы не пришли на пять минут позже, а то разыскивали бы её под мостом в студёных объятиях. Объяснение простое, как репа: приливы и отливы. Перст луны, невидимый днём, водит её тёмным, безропотным, послушным сердцем. Оно и так щемит, болит, зажатое тяжёлой тюремной дверью. Бедное, обнажённое, кровоточащее. Потерпи ещё немного – бросят сукам.
4Баржа пыхтела. Шум и ярость. Не нашими руками её беду развезти. Последний грош – последний её помощник. Назвала шофёру адрес: Вецмилгравис или что-то в этом роде. У чёрта на куличках. Ничего волнительного: старый должок выколотить из одного парня, который пускает ей пыль в глаза вот уже почти год; не сомневается, что результат её воинственного наезда и на этот раз насытит её одной только пылью из-под копыт. Должок оброс уже бородой Авраама, дряхлый, сидит у шатра и ждёт, когда явятся перед его патриаршими очами три усталых посоха трёх странников. Мы с Кольваненом не ударим лицом в грязь. Разумеется. О чём речь. Пособим чем можем. Вот домчимся и возьмём этот пылевой смерч в оборот: выжмем из него томатный сок. Шито-крыто, замётано, Рахиль, дщерь портовых халуп, рассеются твои страхи и тревоги. А потом? Какие у нас планы? Завернём к Болящей. Заглянем на часок. Пустят в палату – сможем лицезреть некую высохшую мумию, исколотую, истерзанную медицинскими стараниями, как сито. Не горюем. Держимся на поверхности. Буй боевой, потрёпанный бурями, несломленный, несогнутый. Нервишки шалят. Не с той ноги встала. Чёрная кошка метнулась у колёс. Стоп! Передумала! Тормози! Мы не едем! Лопнули все её затеи. Цыплята не проклевывались. Так весь день у нас и рвалось и путалось, таким манером. Таскались по захолустным лабиринтам окраин, по дворам-колодцам, где бельё сушилось на балконах, цветные тряпки, кальсоны, пелёны и где носатые Лазари резались в карты на убогих скамейках. Листали угрюмые пороги её родственничков и всякой шушеры. Радушие тут кривило душой, стаканчики перепадали, а ничем существенным не разжились. На вечерний огонёк в баре так и не наскребли. А вот уже и сумерки. Куда податься? Какие ещё предпринять шаги? Поздновато мы вспомнили про Ингу и её Финансовые возможности. Вот-вот уже брякнет дверью конец каторжного дня в её конторе, как-то связанной с таможней, а мы тут, лопухи, прохлаждаемся, ветер решетом ловим. Не получка ли у Инги сегодня? Какое число? Так и есть! Инге из кассы кругленькая сумма выкатится. Нельзя медлить. Затылок чесать Пороховой башней. И мы поспешили встретить Ингу у входа её тюрьмы, на пороге её свободного вечера.
Огни и знаки. Судно дало течь. О чём я? Помпам не справиться с такой пробоиной в черепе. Это ясно, как знамение. К утру – тю-тю. В отсеке уже по колено, и прибывает, бешенноротая, с напором, как будто у неё времени нет, как будто на танцы торопится, на моих костях. Все воды и все волны. Пора доставать чистое бельё, братцы, надевать хранимые, как наряд жениха для свадьбы, смертные рубахи. Пора, пора. Не успеешь. Разговорчивые чудовища обступили меня со всех сторон, ублюдочные подбородки, ими кишит вся набережная, они замучили меня своей кораблекрушительной болтовней, байками кверху килем. Мне от них вовек не избавиться. Кольванен-Левиафан, достаточно мимолетно брошенного взгляда на его незаурядное ротовое отверстие, чтобы в этом убедиться. А где же Иона? Где он, этот дезертир, этот ослушник, я вас спрашиваю? Иона, оказывается – я. Заключённый в чреве Кольванена, молящийся о спасении в плену исполинских рёбер. Будь по-вашему. Не стану спорить, вступать в пререкания. Тыква произросла, созрела и увяла на шее Рахили, и город-Ниневию стёр с лица земли перст из туч, пока мы меряли шагами из конца в конец её добрую старую Ригу. Чем полна моя вечерняя бродяжая голова? Хотите знать? Вот чем: сведениями о маяках, огнях, якорных и ходовых, о навигационных ориентирах, которые все врут, и верить им нельзя ни на грош, о знаках предостережения и опасности уже совсем близкой, неминучего когтя. Вспомнил, всплыло, «Дербент». Вытащили – уже не дышал.
– Пропащая?
Инга-иголка нашлась в стоге сена, Сгинула вчера, ни слуху ни духу, и вот – зубы блестят в темноте, скромно улыбается, пытаясь не показывать при виде нас истинных своих чувств и скрыть за губами великолепные врата из кости. Акула тоже улыбалась. Мы ей мнились на рассвете, всё трио, но как-то расплывчато, и сюжет сна облечь в слова невозможно, потому что призрачная материя, бессвязен, брыкается, предпочитает гулять нагишом и вообще – у неё срочные дела и всё такое прочее. Мы должны понять её правильно. Хотим ей добра или не хотим. Зарок. Рюмки в рот не берёт. Мы идём своим путём, она – своим. Горькое открытие, достойное быть записанным на Стене Плача. Не думайте, что мы Ингу не перебороли, набросясь на неё с трёх сторон; уговорили, уломали голубушку, повернули вспять, вернули в лоно бутылочки. Будущее алкоголички ей обеспечено, Кольванен в роли Вакха выстелет ей дорогу к бару виноградом и плющом. Дурили, балагурили. Взбаламучено. Что надо набережной, что она суется в каждую прореху между домами, лезет в наш разговор, слепит нас своими непрошенными сияниями, шествием факелов, эта фурия? Шляпы, козырьки, неизменно, бесследно. Хронос глотал своих котят. Спящий бушлатишко скорчился на скамейке с подстеленными газетами, ноги поджал к груди, обхватив колени руками; катились по морщинам и стекали с поседелой бороды годы и воды.
Столик у окна свободен. Обслужат миганьем бесцветных, как ячмень, ресниц. Блудливые завитки на обшлагах мундиров блеяли в погребке, наливаясь пивной похотью. Погрузились по грудь в ил увеселительного заведения и не могли выбраться своими силами. Засосало. Суоми. Обломок военного флота. Кольванен мой капризен, медуза в брючках: то ему не так и это не в той тарелке. Траурный марш. Гвоздики захлёбываются в слезах. Шопен. Не заводись. Тут дают сдачу валютой вышибал. Музыка скорбела на маленькой эстраде по заказу чьей-то печали: плешивая виолончель и барабан-латыш, который вывихнул себе плечо, лупя булавой по гулким щекам. Кольванен наш не усидел. Глядим: он уже заменил выбывшего из строя. Кольванен был в ударе в тот вечер, как он размахался, разбушевался, сыпал дробью, вертелся, горел. Пожар на корабле во время шторма, а не наш Кольванен. Полный триумф, доложу я вам. Директор вышел, предложил Кольванену подзаработать, пока лечится плечо незадачливого музыканта. Отчего же не согласиться, когда финансы поют романсы. Месячной нашей зарплаты – ого-го ещё ждать. Денежки ещё не зародились в судовой кассе. И мысли о них ещё не зачалось в голове казначея в пароходстве. Старпом Скрыба, ухмыляющееся его полнолуние в день выдачи нам монет.
Спотыкались на горбах брусчатки. Уши-трубы насторожились: кралось, шуршало. Всё такое знакомое, облупленное. Колумбово яйцо всмятку. Ни дождинки не влетело в специально открытое для этого лицо. И то хорошо, как в песне про рыбака и рыбачку, которая ждёт на берегу у разбитого корыта. Лён, васильки – дар Инге от родных полей. Сопи, спесь, в дырочки. Мы отворачивались от ветра, вышибавшего из нас слезу вместе с глазом. На занавеске Рахили тень. Чья бы это? Во всяком случае, не старушечья. Чужим духом пахнет. Явственно. Вот что. Знак зла. Вострубят семь кораблей на рейде – и Рига рухнет. Лучше нашим женщинам сегодня переночевать у нас на судне. И мы, вся компания, повернули от дома Рахили в сторону пристани.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.