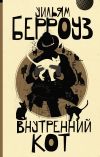Текст книги "Одна ночь (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 47 страниц)
Стылый денёк. Как рождаются мысли, как рождаются желания, как рождаются дети?.. Надев плащ, пошёл в парк.
Повстречал высокого старика с тросточкой, который любит пугать детей. Морщины, хохол седой. Торопливо простучал, быстро-быстро переставляя ноги. И пальто у него оттопырено. Схваченный ребёнок? Тащит в лес?..
Дома кончились. Я углубился в чащу. Виднелись за стволами кресты могил. Замшелая надгробная плита: Коля Голубков, шесть лет. Ещё одна плита; возраст смерти – девять. На следующей – пять. Кладбище детей!..
Я задрожал. Кровь кружила. Листья – в вечернем воздухе. Дорожка – в чащах. Мысли кружились, возвращая мне на каждом повороте всё ту же картину лесного детского кладбища.
Ветер налетел, раскачивал лишённые листьев стволы. Они застучали друг о друга, как гигантские скелеты.
Быстро темнело. Я повернул обратно, пока ещё была видна тропинка.
Дверь раскрыта. Я увидел в комнате ту, кого не хотел видеть. В домашнем халате, она пила за столом чай. Её толстый затылок, шея в складках, её тонкогубый рот, оттопыренный, дующий. Повернулась, брови сдвинутые, надменные:
– Сама приехала.
– Приехала так приехала. В таком случае я уеду.
Она встала:
– Я с ребёнком. Ты не можешь, – губы её задрожали, глаза покраснели, слёзы, размазывая краску, побежали по щекам.
– Перестань! – оборвал я. – Знаю я твои слёзы.
– Ах, так! Ах, так! Тебя ничто не остановит. Даже собственный сын. Ты и через его труп переступишь. Подлец! – рука её упала на стол. Чашка опрокинулась, чай полился на пол. Слёзы текли и текли по толстым щекам.
– Переступлю, – мрачно подтвердил я и ринулся в дверь. Я устремился по тёмной улице. Ветер. Я бежал, высоко поднимая ноги и делая большие прыжки. Я боялся, что на дороге дети, а я и не вижу, совсем-совсем маленькие дорожные дети. Как бы мне не раздавить своими каблучищами хрупкие их тельца…
Весь путь смотрел в окно. Огоньки мелькали, езда успокаивала. Я пожалел, что час времени не вечен, и уже вокзал.
Надо было где-то переночевать, другая жила недалеко, на Дровяной. Я перешёл мост. Вода в канале взглянула на меня мутно.
Дом-урод. Третий этаж. Дверь в квартиру не заперта. Я переступил порог. Обрадовалась:
– Ты?
– Нет, не я, – ответил ей.
– Т-с-с! – приложив палец к губам, – только что покормила.
В комнате пахло пелёнками. В кроватке с высокими бортами, завёрнутый, спал младенец.
– Вот проснётся, увидишь. Девочка – чудо. Я ей твоё отчество дала. Как? Звучит?
– Да. Величаво…
– Ах, как жаль, что не ты её отец! – продолжала она. – Но ты ко мне совсем? А? Ты её удочеришь? Ах, как славно мы заживём втроём!
От порывистого движения у неё распахнулся халат, открыв дряблый в синих прожилках живот, тощие ноги. Она приблизилась ко мне, бурно обвила шею руками.
– Как я по тебе соскучилась! Обними меня покрепче!
Я понял, что мне надо показать голод и пылкое желание, мы не виделись почти месяц. Я прижал её к себе, губы впились в её губы с выпирающим из них безобразным костяком зубов. Мне всегда казалось, что я целую живой череп. Рука моя, изображая порыв, скользнула под её халат. Она отпрянула:
– Нет, нет! Ты меня, миленький, извини. У меня были кошмарные роды. Швы наложили. Ты же меня не бросишь из-за этого, мой голубчик?
– Ну о чём ты? Не животное.
Так я ей отвечал, а сам думал: после родов совсем уродина, и чужого ребёнка на шею повесит. Надо поскорее уносить ноги.
Не говоря ни слова, я выскочил из квартиры, будто выстрел.
9. ТА ТЕТРАДЬЗавиваю буковку за буковкой. Те места, где когда-то мы жили. Сидела весь день на подоконнике и крутила в задумчивости на скрюченном пальце ножницы. Лиса лезла на лоб. Покрытые старой коричневой краской половицы блестели, намытые. Седые волосики по бокам крепкой, как репа, лысины. Жилистые, железные руки. Солдатское галифе. Дарил рубль. Грозная Зинаида Ивановна с саблей. Оглядела, сейчас будет рубить. Поймал в кулак большую муху, оборвал крылышки, обмакнул в чернила и пустил в мой огород. Карова даёт малако – старательно выписывал, помогая себе языком. Ощущение мела в пальцах. Колумб открыл Арифметику. В глазах мутно. Посмотрел на потолок: в клетку. – Полюбуйся – ни одной пятёрки! – Листик горчичного пластыря. Комнату заносило песком аравийских пустынь, тошнило. Познакомился с желтухой. Талая вода, грач ходит. Хлебай, хлопец, борщ! Опоясываюсь кортиком и хожу перед зеркалом, бьётся на бедре летучая рыбка. Розово-кирпичная архитектура. С косой ухмылочкой тычет в живот. Лошадь Пржевальского. – Хочешь в космос? – Давит на грудную клетку. Глаза катятся в траву – карие вишенки. Где рожать? В белорусской избе. ТТ под подушкой, крались из леса бандиты. Окунали орущего младенца в сизый таз с самогоном. Вынимали – обмытого, крещёного. Лежал на полу, обхватив деревянные ножки. Истинный талант, и талант этот он пожелал зарыть в землю. И зарыл в 31 год. Шапка со звёздочкой упала к заснеженным сапогам. – Я, Машенька, спать пойду. – Уехал ли газик? Опустилась на стул, руки со сцепленными пальцами. Лампочка мигнула. Кровать стоит посреди снежного сада, и слышно, как скрипят, приближаясь, шаги, наклоняется над изголовьем – громадный чёрный медведь. Сидит на корточках, разинув огненный рот. – Есть хочу! – Полон телом и бел, как сметана. – Тебе бы, братец, на телеге с лошадью кататься! – Бегу босиком по ледяному полу. Широкая железная кровать с блестящими шарами. Подхватил, щёлкнул по носу. В белой нательной рубахе, толстая, розовая шея, грудь излучает жар. Пахнет горько. – Тащи хлеб с салом! – Сало в квадратном, исчерченном фиолетовыми чернилами, фанерном ящике, из Карелии. Вкусно. В распахнутых настежь дверях – два бледных лица, одно над другим. – Саша! Саша! – Тополь отпускает листья на волю. Я – мысли. Тяжеловесные, как у статуи, шаги за стеной. Синее окно. Свёрток из газеты под мышкой. Только бы ещё минутки три. Два карбованца с грошиком. – Добре! – Хохол лихой. Папироса за ухом. – Перчик! – Там на столе. – От кого? – От… – Большие круглые буквы, ослепшие, взявшись за руки, бредут в чистом поле. Багровый – стеклянные груди с горилкой. Что у нас на Красной площади? Ур-ря!.. Повис на когтях, пьяный в пробку. Солдат шлангом крутит: ух, газок! Пузырьки-слова. Рыбы подо льдом. Рыбьи сны. Глаза без ресниц, в радужных ободках. Топлю палец в семизначной проруби. Кончено, кончено! Буквы, истеричные бабы, орут в стенках страниц: умру! – Так и будешь? – Так и буду. – Что тебе, ночь? Комната моя – коробка, залитая неярким светом, окно, полное тьмы и смутного сада. А тут – что? Стол. Обнимаю пустоту и лёд. Шкаф у стены. Читать? Тушу свет, сворачиваюсь клубком, как в утробе. Закрываю глаза. Спать, спать, спать, спать, не знаю… ничего я не знаю. Мучает белое платье в сборку. Терзает зонтик. Безнадёжно взмахивает рукой. Мазки снега тают на стекле. А теперь кто-то виноват. Толстая шерстяная безрукавка. Не забуду мать родную. Лист, ручка в пальцах. Опускаю свинцовую тонну, пишу: ночь. – Куда летаешь? – А, на все четыре стороны. – Зажжём – и Новый год. – Ой, подожди, сапог как в ведре! Варежка с вишенками. Куда ты меня тащишь? Кто-то нас опередил… – На дверце шкафа серебристый отсвет из сада. Главное для меня – уединение, я за него готов платить собственной кровью. Да вот ещё – книги. Единственное развлечение, которое оставила мне судьба, и всё-таки, и всё-таки… Как тяжело и черно в голове, как мучительно смотреть на узор обоев.
Я откидываю голову на спинку кресла и погружаюсь в размышления… Лицо обрастает щетиной за ночь. Выхожу на свет божий и сам я себе кажусь заросшим соснами холмом, который возносится передо мной зимним заснеженным утром. – Пивка хочешь? – За окном поднимается метель. Холма не видно. Лакированная фигурка чёрного коня. Лыжи на плече, шапочка с помпоном, тревожные глаза. Узкоплечий, широкобёдрый, с выдающейся грудью пол. Таял на рукавах снег. Раздевалась. У неё были серьёзные брови. Как странно, как странно, что я живу, как все живут. Голова, уши, нос, два глаза. Хожу, дышу, ем, говорю слова. У меня отец и мать и предки в глубине веков. Я двумя руками (не четырьмя, не десятью) обнимаю при любовном свидании женщину. Всё как у всех! Но я же знаю, я убеждён – что я совершенно одинок, я – сирота в мире. Я ниоткуда, ни от кого и в никуда, мне всё кажется, что я возникаю из ничего и существую только вот в этот настоящий миг, да, только в этот, расширенный, как бездонный зрачок, миг-вечность я и существую. А всё это текущее и круто повторяющееся, этот шум времени, кошмар истории, это происходящее, вовлекающее и влекущее и меня в мире – я не понимаю, не понимаю… Я – странник. Пробуждаюсь рано. Отдёргиваю занавеску. Мартовская метель лижет асфальт. Утро. Одеваться. Рубашка выспалась на стуле. Её материя прочнее, чем мартовский снег, из этих хлопьев не сошьёшь себе будущность. Думаю о снеге косо летящем, о мокром асфальте, о городе, куда пойду и затеряюсь. Что снег, что человек – мне всё равно. Трамвай звенит под окном нашего четвёртого этажа. Фургон приходит в час дня. Тяжёлый подбородок, бритая синева, торопит. У нас всё готово. Грузчики таскают тюки. А снег? Такого ещё не бывало! Сплошной падающей стеной. Лавина мокрой метели. Залепит широкий двор с сараями, и проспект залепит, и Неву, такую здесь вольную, безгранитную, и весь город… Места, где жил длительное время. Места, где жил недолго. Места, где был краткое время. Места мимолётные. Когда я говорю: дом, когда я говорю: дорога, когда я говорю: тут, когда я говорю: там. Также, когда я читаю… Может быть, человек, встреча, или неутолённое желание… Постоянное соприсутствие в сознании собственного рождения и смерти. Роковой круг. Когда долго живёшь, или жил в одном месте, то место это в тебя врастает, и пусть ты сейчас за тысячу километров от него, на другом краю мира – везде ты, как улитка, таскаешь свой дом с собой, эту приросшую скорлупу. Это рок, это судьба. И часто мне кажется, прожив десять лет с Л., что, открыв дверь в кухню, я попадаю в дом моего детства и вижу мою мать, хлопочущую у плиты с кастрюлями, и себя самого, коротышку на табурете, и ноги мои в порванных сандалиях болтаются, не доставая пола. Снег был сырой, мягкий, лепился. Улица была безлюдна. Тёмные деревья. – Ах, люблю я такую погоду – когда сыро и туман… – И как же это я умру? Ведь это же я!.. Коридор был такой длинный. В конце его, из раскрытой яркой двери клубился в пыли луч. Там начиналось лето. Отцовская пилотка со звёздочкой. Ходили, вытягивая шею, куры. Грозди сирени над забором. Сестру зачем-то обрили наголо. Она подслеповато щурилась. Читал Гулливера – большую книгу с великанами и лилипутами. Самолёты, овсяная каша. Учитель рисования в шляпе, с длинными волосами. Скоро он соберёт свои карандаши, и я никогда его не увижу. Что же это, что же? Так я и не дорисовал тот рисунок, не дописал ту тетрадь.
10. ПЛОДЫ– Рябина созрела, – говорю вечером. – Надо бы собрать, пока дрозды не склевали. Как-никак, конец августа. Налетят стаями, небо закроют, как ночью, – и пусто. Ни одной ягодки.
– В чём же дело, – отвечает Л., зевая. – У тебя же завтра выходной. Если бы ты знал, как я устала! – вздыхает она.
Веки опущены, как лодки на воду. Тени ресниц на тёмной-тёмной воде. Через минуту уплывает, покачиваясь, в сон, даже зависть берёт, как это быстро у неё получается. Мне бы так… Что же делать?..
Лидия Андреевна выключила телевизор, сняла очки с переносицы, спрятала в чехол. Тяжело поднялась со стула.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи…
Вот один. Не знаю. Нет, нет, не читать. Что книги?.. Слоняться по квартире, слушать: капельки из протекающего крана стукают об эмаль, шуршит подъезжающая машина, хлопает дверца, раздаются приглушённые голоса.
Лежу. Закрываю глаза. Рябина созрела, говорят, рябина созрела. Может быть, усну.
Убыстряется бег дней! Сквозь сон стук каблучков. Спешила, дверью хлопнула. Половина восьмого. Что-то снилось. Стёрлось. Обидно.
Чай, окно открыто. Рябинка сгибается, грозди. Долго ей держать это бремя?
Зима придёт, снегирьки будут тюкать по ягодке.
Ну, послушаем, что ты сегодня скажешь?.. Ощущение осени – вот и всё. Слова приходят, и слова уходят. Минутки только, и жизнь.
Вот и он восходит – в намечающемся новом вечере, в туманной высоте неба. Бледный он неизъяснимо. Серп – осеннему горлу. Просвистит – и закапают, алея в сумраке, листья. Я и говорю: осень…
Спал бы ещё, спал, но в квартире над нами со стуком распахнули окно, стали громко ходить, передвигать вещи. Женский голос: да будешь ли ты вставать, в школу опоздаешь!
Ну и слышимость в этих хрущёвках! Из решета перегородки сделаны.
За окном всё, слава богу, как прежде, рябинки, клёны, полузелёные. Ночью шёл дождь. Асфальт мокрый. Шум голосов из детского сада. Лист полетел.
Ветер. Листья проносятся с искажёнными ужасом, жёлтыми мулатскими лицами. Могучее движение облаков по голубому холоду. Шатаются залитые кровью рябины.
Моё окно отрывается и летит вслед за листьями, вихрь крутит его и увлекает выше и выше в бурно-безумное небо. Окно с моим унылым октябрьским лицом, сорванное ветром, исчезает в жуткой высоте голого неба.
Ночь настает. Что ей надо? Форточка открыта, ветер её трясёт, запах сырости, шум дождя. Капелька срывается, катастрофически скользит, рисуя свой путь.
Автопортрет из капель в раме на чёрном фоне в ореоле движущихся к гибели черт.
– Что ты ищешь – спрашивает Л. – Вчерашний день?.. – Я оборачиваюсь, смотрю на неё в недоумении, голова кружится.
– Может быть, – говорю, – может быть… – и продолжаю выдвигать ящик за ящиком.
В комнате мглисто и безотрадно, как вечером, как осенью, как в октябре, как в самые разнесчастные дни. Почему мы не зажигаем свет?..
Л. плещет водой в ванной. Мало ей влажности. Передавали же по радио: в городе сто процентов…
И в этом ящике ничего такого. Господи, я уже и сам забыл, что я ищу!
Перестук по карнизу. Капля с чёрной кошачьей головой заглядывает в окно.
Спать бы, да спать. Утро мглистое. Сон тянет к себе, в свои туманные омуты.
Отдёргиваю штору, плотную, тёмно-малиновую. Открываю настежь, со стуком, форточку. Приятно обдаёт лицо свежим, сырым воздухом с улицы, холодком дождя. Вяло начинаю делать упражнения, сгибать-разгибать руки. Пронзительно звенит телефон. Беру трубку.
– Здравствуй. Как у вас там дела?
– Да ничего. Так…
– Надо бы подвал приготовить, железом обить. Крыса, паразитка, этой зимой больше мешка картошки стаскала…
Какая ближайшая электричка?.. Начинаю искать расписание, нет его нигде – ни в ящиках комода, ни в пиджаке.
– Как твоя книга?
– Так…
Окно: сосны. Холм в осенних красках.
Лист-сорванец. Радостно ему до красных чёртиков! Ворона на спинке скамьи. Чёрное и серое. Чугун, деревянные планки. Вот скамья каркнет и полетит по аллее.
Клён-канделябр.
– Что это? – говорит Л., схватив меня за руку.
Смотрю вверх, куда она показывает. Бледнеют, увенчанные совами, часы на башне. Без пяти двенадцать.
Толпы с мешками, с вёдрами, рюкзаками, лыжами. Пятница. Впереди – выходные дни.
– Бежим и мы! – испуганно зовёт Л., – электричка покажет хвост, что мы тогда делать будем?..
И мы бежим, бежим. Карабкаемся по ступеням. Да кончатся ли они когда-нибудь?! Кажется, нет. Лестница выше и выше…
– Всё равно теперь опоздали, – говорю, задыхаясь. Л., обессиленная, опускается на ступени. Часы на башне показывают двенадцать. Ровно.
Вода торфяная, пузырьки. Песчаная полоска. Ракушки – приоткрытые рты перламутра. Что-то они говорят. Река рябит. Нет – пора. Сворачиваю – к дачам.
Переступаю порог. Спиной женщина. Чёрный берет, тонкая шея. Оборачивается, грустная:
– Ну сколько времени тебя ждать?
Бежим по дорожке, у шпал. Темно, лес. Стальное чудовище уже выползло на свой путь и громыхает у нас за спиной, кинув вдогонку длинное световое щупальце. За поворотом по-рыбьи блеснул рельс. Платформа должна быть, а её – нет.
– Но это же не поезд! – говорю в испуге. – Ты посмотри: это же не поезд! Боже, куда мы бежим?..
Вот и суббота. Л. отдёргивает занавеску:
– Туман-то какой!
Позавтракали, собрали сумки, поедем. Я выбрал две книги – жёлтую и чёрную.
Электричка мчалась и мчалась с гулом, свистела. Я протирал запотелое стекло. Осенние краски. Держал книги в руке, так и не прочитал ни строчки.
Поднимаюсь на наш третий. Тяжёлая сумка, на ремне через плечо, в руке ведро, полное слив. Звоню.
За дверью шаги, шорох. Негромкий голос:
– Кто там?
– Это я. Открывай скорей.
Вхожу. Она в синем и белом, улыбается. Волосы окрашены охрой. Ей идёт.
– Вот, – говорю, – сливы.
– А я смотрю японский фильм. Интересно – кимоно, поклоны.
Иду за ней в комнату, на экране телевизора (цветной, недавно купили) мужчина и женщина, красивые, грустные японцы, на фоне зимнего пейзажа, синих снегов. Печальный у них разговор.
– Да это же снежная страна! – восклицаю я. – По повести Кавабаты. Ну, да… Ах, как жаль, что я так поздно…
Вышел из метро: дождь, зонты. Листья мокнут в лужах, утопленники. Да что ж это такое: не рассветает, ауже восьмой… Промелькнуло белое и красное, тускложёлтые, запотелые стекла – вагон.
Весь проспект впереди – в мутном, косом дожде, асфальтовая, сырая тоска, убегающий вдаль трамвай…
Ах, боже мой, какая слякоть! Увижу ли я ещё что-нибудь сегодня?..
Утренний полусвет. Стол, какие-то тексты. Лампа под бледно-розовым колпаком. Ключ, бронзовый, зубчатый, как пила. Что им открывать? Не знаю…
Занавеска, отдёрнутая, поникла, вздрагивает. А, может, это и не занавеска вовсе? А что?..
Ну, хорошо, хорошо. Октябрь, первое число, утро. Придёт ли, в конце концов, кто-нибудь? Или я один?..
Мало осталось. Бурые и оливковые. От первых дней мая до конца ноября.
Ноябрь и есть. Снегирьки пепельно-розовые. Ягоды мороженые. Ворона ворошит снег. Нашла что-то, накрыла лапой, тычет костяным носом у себя между растопыренными пальцами.
Одна половина окна чистая, другая в испарине, с бахромой капелек. Несколько капель – большие, налились.
Срываются, начинают движение, пересекая пустыню окна и перечёркивая пути друг другу, точно маленькие кометы, тянущие за собой влажный след.
– Какая у тебя тяжёлая голова. Наверное, полная чёрных мыслей.
– Куда же мне её деть, в таком случае? Может, чем тебе на колени, лучше – на рельсы?..
– Что у тебя, действительно, в голове? – говорит она.
Стекло. Обнимаю – прозрачное, ужасное, в кровь изрежусь! Изменится ли что-нибудь у неё в лице?..
Нет. Лицо Л. холодно, равнодушно. В окно дует.
Снежок у Астории. Дубовый лист оливковый, с загнутыми лапками, как мёртвый. Швейцар в позументах. Отъезжает плоская машина. Мне, собственно, к Л. Предприятие, полное женщин, шьющих.
Кирасир-Николай обнажил палаш. До декабря рукой подать. Мойка, грустно. Набираю цифры.
Ждал одну, а по лестнице две улыбающиеся женщины, сумку несут за две ручки.
– Я тебе ещё одну привела, – говорит Л.
Целую бледную щёку. – Как дома? – спрашиваю, – как мама?.. – Заглядываю в сумку. С сахаром, оказывается.
– Дорогонек он теперь. Что завтра будет? – говорит Л.
– Пора бы уже и отвыкать от сладкой жизни, – весело замечает другая.
– Ну, мы пойдём, – говорит Л., поправляя мне шарф. – Работать надо.
Взваливаю «сладкую жизнь» на спину. Ничего, не так уж и тяжело, как казалось.
– Говорил же я, что всё опять растает. Ну какая может быть зима у нас в ноябре!.. – громко произносит кто-то на задней площадке троллейбуса.
Выхожу на Гоголя. Дальше пешком. Вдоль мрачного, оттаявшего, просвеченного огоньками с набережной, сада. Слева – тёмная, гигантская, ощетиненная ремонтными лесами, масса Исаакия. Толсто блестят колонны снизу, отблеском фонарей.
Нева. Ветер сильнее. Скала, конь. Ворона на лбу императора.
Три мутных лампочки. Поезда нет. Где же поезд?..
Спички на ветру, в билетной кассе – темно. Стучи, стучи…
С утра метель. У крыши соседнего дома завивается седая борода. Вчера ставил вторую раму, возился до двух ночи, подгонял, замазывал, затыкал. Чай у окна, на метель смотрю.
Калитка стукнула, каракулевая шапка, улыбается, взмах руки.
– Замёрзла! Чай…
Каждая пурпурная гроздь припорошена снежком. Листья рыжевато-золотые. Покачиваются. С чашкой чая у окна. Тихо.
Хлопья лижут асфальт. Утро. Проезжаю в автобусе Старокалинкин мост – столбы гранита, якорные цепи, чернила воды.
Щетина отягощает лицо, как набережную – чугунная решётка канала. Кто я?
Женщины в плащах холодны и, когда проходят мимо, от них веет сырым снегом, влагой. Мятая малина губ. Вот одна такая вошла на остановке, шуршит зонтом, складывает, текут капли. Лоскуток талона в зябких пальцах: пожалуйста. Где-то эти пальцы я уже видел. Во сне?.. Возвращаю прокушенный компостером талон.
Ветер сдувает с тополей в канал мокрые шапки.
Толпа, газета шуршит, набережная прогибается, фонари в глубине чернил, взвывшая морда грузовика.
Шестиэтажное, в окнах темно. Опоздал?..
Стою, стою, никто не выходит.
Переулок засыпан снегом, зимует машина. Кошка пробежала. Старик вышел из противоположного дома, с палкой, в толстом пальто. Постоял, сомневаясь, трехногий. Снег летит.
Первое, что я слышу – голос, что он так громко, так сердито требует? Так темно, так рано!..
Голова, круглая, бритая – как большая капля. И то жующий пищу, то произносящий жестокие слова рот.
Метёт и метёт, колкий. Фонари – сосуды сияния. Слева, за садом, улица в жёлтых огнях. Трамвай бежит, два пустых вагона. А там что? Тёмная громада, округлость купола, мрамор колонн в бликах… У кого бы спросить: который час…
Женщина в белом? складки оконного платья… Ночней, чем вчера. Нева, двух игл не видно. Скала-наковальня и всадник.
Чудище с широким кузовом остановилось на дороге, гребёт, урча, под себя лапами.
Цепочка следов в шахматном порядке – на талом снегу. Шёл и исчез. Нет, стоит у дверей, затаился. Приказано сменить? Или убить?..
Это не погода. Это – горе. Холодно лежать в сырых пеленах подкидышу, на площадке перед дверьми, на гранитных параллепипедах. Разрыдается – и опять будет слякоть.
Чашка. На белом фарфоровом дне – щепотка хлопьев, янтарная каёмка – след выпитого чая.
Пепельно. Крыши курят. Талые следы у калитки. Забор – ружья в чехлах. Старуха и собака удаляются в разные стороны…
Следы. Тут все прошли. Ставлю и я – свои, и они убегают, стираясь, бесследно. Никуда я так не дойду.
Книга. На середине закладка – чёрная и красная тушь: в мучительной гримасе лицо. Тело – отросток стального пера, истекает писательской кровью.
Они сидели на задних лапах. Трибунал – пять белых волков. Ждали моего ответа. Я понимал: поздно. Тянуть немыслимо…
Задрав голову, раздираемый тоской и отчаяньем, я протяжно завыл. Это напоминало жуткий вопль проносящейся по площади пожарной машины.
Нож стоял над домами. Двери отсутствовали. В каждое окно заглядывал – неумолимый. Я был один. Я не мог закричать.
И просыпаться-то не хотелось. Знаю: поздно уже, рассвело давно. Что снилось – никак не вспомнить. Сны растаяли, утекли на глазах, оставив влажную дорожку…
Это то, что за окном – когда отдёрнешь тюль. Унылые крики ворон, мартовская сырость, мутно. Сучья в капельках. Лужи с зелёным ледяным дном. Клочки бумаг. Дождик, круги побежали. Мокрая ворона ходит по лужам, что-то ищет, внимательно склонив клюв.
Ну и день! Сапоги достать, зонт…
Деревья залеплены мартовским снегом. Может быть, последним. Мутная метель, влага хлопьев летит в лицо, в глаза, тая, струйки текут, щекам щекотно. Шёл бы вот так, и шёл, оставляя цепочку следов в этом безнадёжно белом, осуждённом завтра растаять, исчезнуть, как сновидение…
Этот март, эта мутность. Грязь в городском саду, газета – утопленница. Кони встают на дыбы, рвут узду. Седоки угрюмы – не раздвинуть эти дома, эти граниты по сторонам пленной реки. Эти лица, эти машины, эта слякоть кругом, этот март.
Как светлей – так опять за своё. Лёд уходит, куда нам плыть?
Канцелярский магазин около метро. Ручку купил, лиловую, колокольчик. Дома никого, не пишется. Снег талый.
Беру лист, вожу пером по бумаге. Что ж, всё-таки, хоть что-то. В процессе письма получается непредсказуемое.
В апреле асфальт сух. Ветер крутит пыль и бумажки.
Приснилась прекрасная фраза из четырёх слов. Но к утру заспал. Никак не вспомнить. Начала и концы брезжат и тают.
У метро опухшие забулдыги продают подснежники, голубые, как глаза ангелов. Продадут – опохмелятся.
Тянет в лес.
Восстановить цепь утрат, вспомнить, что я терял, и посмотреть, с чего же началась эта череда, эти утраты, одна, влекущая за собой другую, и что из этого получилось, что стало со мной, и чем кончится.
Состояние пишущего, когда пишется само собой, как дышится, когда и не замечаешь этого, когда перо бежит по бумаге, или бродит по странице, как в заброшенном, кажущемся пустым и белым, саду, где по мере прохождения пера, проступают в одеждах слов образы и видения. Перо споткнётся о какую-то невидимую преграду (камень на дороге, калитку, порог старого дома), остановится и задумается.
Апрель – печальный зверь с бурой, грязной шерстью, его не приласкаешь, и разговора с ним не получается. Он не понимает слова «желание» и слова «невозможность». Он совсем не понимает слов. В его мутных, бездонно-зелёных, ледяных глазах тоска. Неизменная тоска голода. Чем я его покормлю? Выворачиваю карманы – ничего, дружок, нет. Я могу покормить только самим собой… Я предвижу, что это когда-нибудь плохо кончится, и этот печальный зверь однажды меня проглотит со всеми моими потрохами, со всем моим отчаяньем.
Апрель идёт за мной по пятам, волоча по лужам унылый, понурый хвост. Так мы дойдём до парадной моего дома, и он будет подниматься за мной по ступеням, оставляя стекающие с лап грязные лужи. Даже палки нет – его прогнать, и, конечно, конечно же, я не успею проскочить в квартиру и захлопнуть перед его носом дверь. Нет, не успею.
Утро небритое, городской сад, щетина сучьев, круглое лезвие восходящего апрельского солнца. Псы летят по аллее, вскидывая упругие лапы, гнедые доги. Скучающий Геракл ждёт их, облокотись на мраморную дубину.
Полноводным потоком жёлтое море Адмиралтейства и парусник на золотом всплеске шпиля.
Солнце, засучив рукава, принимается за бритьё. Шее моей прохладно в вороте распахнутой рубашки.
Две девушки с маленькими, бледными грудями и наглый парень.
– Ты что – интеллигент? – спросила одна из девушек. – Что ты нас так разглядываешь?
– Конечно, интеллигент, – ответил я, – поэтому у меня и мозг так устроен – девушек разглядывать, – они захохотали. Парень сказал:
– Ты, надеюсь, понимаешь: тебе придётся отсюда убраться.
Я покорно пожал плечами:
– Видимо – так.
– А знаешь что! – вдруг говорит парень. – Я тебе Ляльку даю, – кивает на одну из девушек. – Вся в твоём распоряжении. Но – только один раз!..
– Хорошо, – говорит Лялька. – Так уж и быть, помойся в бане и приходи в пятницу.
Зелёная трава, небо в мае. Тишина и зной, горячие удары – солнце, сердце. Нагая девушка за кустом сирени. Ева. Всё это хорошо, но где тут море? Я не знаю. Что-то голубое, переливается. Удастся ли мне сегодня утонуть, уснуть на ярко-жёлтом дне, в танце лучей…
Теней нет. Ушли в землю, улетели в зенит. Полдень.
Кто-то зовёт: – Адам! Адам!
Голос такой молодой, звонкий, певучий, пьянящий… или это только чудится моему обманутому слуху в тишине, в жаре, в дрожащем пустынном воздухе?..
Июльское небо, троллейбус. Кваренги, кони, яблоки, рубли, липы. Лицо в солнце, улыбается. – Гуляете? – Тащит мальчика лет семи, худенький, бледный, смотрит задом наперёд, унылое любопытство. Она не обернётся. Уплывает золотистый загар, прививка оспы, алое платье, открытое, с тесёмками.
Пушка – полдень! С неба сдёрнули пелену, и я увидел его в истинном, грозном виде.
Она, держа мальчика за руку, перебегает с ним дорогу. Идёт в саду, в лучах, в блеске. Всё!
Пустыни сытые, тупые. Ларьки, рыла, рубли, мухи. Освещённое солнцем лицо? Нет…
– Эй, сколько времени?
– Полдень.
В стёклах сумерки. Тюль вздувается. Сейчас усну. Целая ночь: спать, спать, спать, спать… на улице кивают смутные головы… Кружочки лап на свежей зелёной краске. – Кипит!
Пью – китайские драконы.
Надевает голубую блузку, белую юбку. Яркий, смеющийся взгляд.
Мысли путаются шелковистыми нитями в дождевом шуме… Солнце. Маленькими глотками пью чай, горячий. Слива за раскрытой створкой, в блеске, в ветре. Фиолетовые, сгибают ветви, плоды.
– Посмотри! Ничего ты не видишь!
– Пойдём в лес.
– Ты что! Там под каждым кустом – душ…
Яблоки-паданцы, с восковым румянцем, с червоточиной, на дорожке.
– Осторожно, не споткнись.
– Ничего не вижу.
Я в трёх шагах, в тени веранды. Вздрогнул одновременно с женщиной и с задетым ею листом сирени, похожим на вырезанное чёрное сердце. Щекам жарко.
Растения в кадках на полу, веера пальм. Будто юг. И дождь дробно барабанил за стеклянной дверью, по кафельным плиткам у входа.
– Пойдём, я тебе покажу…
Вот она идёт из волн. Грудь в блеске бронзовых капель. Лицо надменное, неумолимое – как у статуи. И так каждый вечер.
Налетало тёплое крыло, сад в парусах. Небо – столбовая дорога огненных колёс. Месяц, огромный, оранжевый, долго стоял на западе, как великан-страж сада волшебных яблок, гигантских груш и слив величиной с бочонок. Потом, зловеще побагровев, погрузился в тучи. Торчал только кровавый кончик серповидного ружья. Дверь дома, брюзжа, отворилась: – Иди спать.
Усталая, в синем плаще.
– Больше ты мне ничего не хочешь сказать? – она чего-то ждёт. Лицо, как незашторенное окно.
– Что же тебе ещё сказать. Яблоки созрели.
– Ну и собирай свои яблоки.
Сентябрь. Ветер срывает сырые и пёстрые числа. Стол, стул, кровать.
Сюжет-людоед пожирает мои вечера. Гнать пером по листу стаи неукротимых фраз. Свирепость писательства. А чуть засереет в окне скучный городской рассвет… Какое бессилие! Какая опустошённость! Пойти погулять?..
Люди, машины. Город тревожен. Что там – в промежутках дождей? Водосточные трубы, смесь шагов и шин, угроза наводнения, ночью хлестал дождь. Вот и сейчас…
Уткнув перо в сентябре, я очнулся от пьянства чернил сереющим, как грифель, ноябрьским утром. На столе толстая рукопись. Что с ней делать?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.