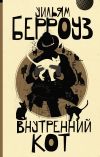Текст книги "Одна ночь (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 47 страниц)
Зима, семипалая, сжимает снежок. Отгибаю палец за пальцем: понедельник, вторник, среда… Отогну седьмой – снежок и выпадет. Новый год. Утро, тёмное, зимнее. Сад. Гоголь снежком осыпан, как в горностае. В аллее, в мутном свете фонарей, матросы делают гимнастику. А корабль у них высоко в небе… Сомнение: пучок разноцветных путей в руке. Новый год. Новая белая рубашка. У лица нет лица. Зеркало. Люди на улице. Чистый шпиль. Зябнет золото. Никто не снится. Имя, счастливое, гуляет по губам. Чьё оно? Утро, матросы бегут. Нет огонька в глазах, как у чугунного Гоголя. Буду записывать так себе, озирая несущееся сквозь сухие ресницы. Люсьен Левен. Желтоватая проза. Лимон и грейпфрут. Две янтарных свечи в малахитовом подсвечнике. Коробка ананасного сока. Чай с птичками. Трехлитровая банка липового мёда. Полки книг до потолка, справа и слева. Платон, Сервантес, Марсель Пруст, Гоголь, Пушкин, Блок, Гамсун, Вирджиния Вулф. Ёлка, блестящие шары, розовые и красные. Будильник: десять минут шестого. Брусничные занавески задёрнуты. Я, в кофте цвета кофе со сливками. Пью кружку с розой. Чудно блещет месяц. Трудно сказать, как хорошо ясной морозной ночью потолкаться в куче смеющихся и поющих девушек. Русь, что ты от меня хочешь?.. Узор зимних веток в саду в тёмном воздухе. Я по первому снегу бреду, не звоню ему, боюсь. Стерн, Леонардо, Афанасьев. Царевна-змея. Скорый гонец. Золотая гора. Клад. Медведь на липовой ноге. Страшно… Город, сыро, груды грязного снега. Лейтенант ГАИ, рыжий, в шубе, с бляхой. Рисала. Солнце встало на западе. Нет уж, пардон! Утираю руки. Крестьянка на Некрасовском рынке плакала, из глаз текли по щекам овощи: морковь, свёкла, огурцы, помидоры, лук, капуста… Говорят, что я бываю иногда майором, у нас в спальне под кроватью. О, какая это мука! Я подхожу к нашей улице. Но что это? Почему – толпа? Пожарные машины, милиция… Не пропускают. Где наш дом?.. Широкая река Ване. Много вопросов толпится у меня в голове и вокруг неё. Лестница-Сократ мудро морщит ступени. На персидском ковре кувыркается серебристая моль. Майор – игральная карта. Найди её в колоде (как войдёшь – верхний ящик справа) и умри смертью храброго Христа, распятого на автомате. Матросы делают гимнастику, выдыхая морозный пар. Гоголь в белой шапочке. Вогнуто-выпуклый, двуликий, смеётся внутрь, смех с бубенчиками. Прыжок в бездне. Войдёшь в пещеру, и будет приход трёх неторопливых гостей. Будь крепче камня, но не до конца дня! Огромный плод несъедобен. Созерцай сквозь щель. Мощь в пальцах ног. Поднимешься в пустой город. Будут речи, но они не верны. Внезапно придёт человек в алых штанах. Меняют города, но не меняют колодец. Просвечивают рыбы. Голоса пернатых поднимаются в небо. От летящей птицы остается лишь голос её. Промочишь голову – ужас! Ах, птица-тройка!.. Матушка, за что они мучают меня, льют мне на голову холодную воду? Спаси твоего бедного сына!.. Купил батон, горячий, только что испечённый – из рук девушки. Вечер. Мне 49. Я не ядовит и не брит. Небо чернеет. Венера за шторой. Чудачества дез Эсента. Звезда ярче. Одиночество – тоже. Не могу ли я достать прозу Аполлинера? Что-то мы с ним перепутали. Метерлинк. Амброз Бирс. Стальное кольцо нацелено в лоб. Пчёлы спят в тихих домиках. Зеркальный сапог блеснул в конце улицы. – «Вы не видели негра?» Часы показывают чисто: пять усачей. – Куда идёт корабль? – К блядям. – Ваня! – кричит она, бледная, как экран. КОНЕЦ.
Звёзды. Буду читать красный том. В полночь зажёг нежное пламя. Задую и – спать. Башня в чешуйках. Как жаль, что уже напечатано. Купил килограмм гречи. Не вспомнить сюжет сна. Сейчас выскочат волки. Лыжи шелестят по шёлку, как по ландышам. И под луной тени. Чистый полёт. Супрематизм неба. Погасло. Рыдала в темноте в девятом часу в пятницу. Я закрыл калитку. Сосна красная. Во сне я долго скатывался по крутой жёлтой дороге. Думал – в баню, а теперь не знаю. Печка. Пьер Лоти, узоры звёзд. Вернулся – оттепель, Л. молчит. Синие коробки. Вороны надрывно каркают на рассвете. Дверь на балкон – приоткрыта. Куда ушла Л.? Зря вернулся. В квартире пронзают меня отовсюду ножи – сверху, снизу, с боков, сквозь стены… Снег стучится в окно – я не слышу. Солнце – свежий, золотистый круг. Снежок влажный, озарённый. Опрокинул ведро с мусором в бак. Показались кошки, тощие, с пугливыми глазами. Вороны терзали что-то. Потом потемнело, начался снегопад. Нет, я так больше не могу. Разве это жизнь? Среда, четверг. Будет ли ещё что-нибудь?.. Мандариновые корки на снегу. Глазам радостно. Весь вечер молчали. Я – в кресле, с книгой. Она – пасьянс раскладывала. Вышло – измена, смерть. Чьё ж это такое счастье? Она говорит: её. А мне хочется думать: что всё это – моё. Кругом виноват. Всё равно. Ни к кому не пойду, никуда не поеду. Буду я всё хуже и хуже, всё виноватее, всё круглее, сам с собой. Шёл за девушкой по улице. Сиреневая куртка, сапоги с прыгающими кисточками, соломенная причёска, агатовая заколка-бабочка на затылке. Так и не оглянулась. Воскресенье, фонари. Пустой утренний трамвай проплыл, искря. Сад вздрагивает в сыром снегу. Гоголь мрачный, обмыленный метелью. Стою перед ним, смотрю. Он меня не видит, с залепленным лицом. Все дни без строчки. Как писать, чтобы речь лилась – талый ручей? Музыка?.. Читаю Октава Мирбо, «Дневник горничной». Издание 1906 года, с ятями. Купил в «Букинистике» на Невском. Что-то случилось с моими словами: они перестали меня слушаться. Они не хотят отзываться ни на мою отчаянную мольбу, ни на яростные угрозы. Они презрительно молчат, как мертвецы, мало того: сегодня, чтобы меня подразнить, они с самого утра начали крутиться, крутиться, и вдруг понеслись густым бредом заоконного снегопада, и тогда на меня повеяло ужасом окончательной немоты… Ну вот, зачем это? Никак мне не избавиться от пафоса фраз. Туманное утро, сад в воде, вороны и Николай Васильевич. Купил Плотина, трактаты, две тоненькие книжечки. Тают на глазах. Купил Афанасьева: «Поэтические воззрения славян на природу». В трёх красных томах. Сезанн, Сезанн, открой дверь! Не открывает. Слова липнут к листу, как ракушки к брюху кругосветного корабля. Книга – созданный словами, другой космос. Вечер, луна, карканье ворон. За чёрными деревьями Медный всадник на фоне румяно-золотой зари. Мальчик гуляет, злая луна, ветер с соломенными усами выглядывает из зарослей, сон пятерых солдат у костра, граната летит – стальная кукушка, космос сидит на пригорке, курит, пуская клубы Млечного пути, у него безжалостное, железное лицо, ружьё за плечами. Омерзение откроет Америку, если гласные будут, как слышатся. Омерзение, судари мои, скоро достигнет уже минус две тысячи по Цельсию! По Фаренгейту – фарс с фейерверком северного сияния. О, как я мёрзну от подобных перемен атмосферы! Такой уж я, знаете, зяблик. Голова моя – глобус, и больше ничего. Макушку мою сдавила ледяная, опушённая арктическим снегом, шапка. Это не шапка – это чугунный горшок, в котором деревенские бабы, обыкновенно, варят щи. Господи, как мне его скинуть с моей несчастной, горемычной головушки? Дурак! – кричат мне. – Дурак! У-лю-лю!.. Извините, судари мои, я очень хочу спать… Хожу вдоль полок, перебираю книги. Проснулся, отдёрнул штору – опять зима. Всё бело, всё в снегу. В доме проснулись оса и комар. Понедельник, капли. Дюренматт. Боюсь расплаты бессонницами. Деньки! Март. Ещё страничка. Лицо закоптилось. Мамита. Павлин. Майор мой сентиментален. Осталось шесть дней. Увидел из-под арки ворот на бульваре. Удар молнии с ясного неба. На углу брошенный дом, шесть дырчатых этажей, будёновский шлем. Глухой голос из телефонной трубки: «Цезарь. Идущий на смерть, приветствую тебя» – и невольно улыбаюсь. Красный передничек. Касания её пальцев волновали чрезмерно. Особенно, когда стала приглаживать мои волосы тёплыми ладошками. Певица голосила о любви, об урагане страстей, о капитане в белой морской фуражке. Пол передо мной был залит солнечным светом. Молодая, с накрашенной губой, тащит дитё в тележке. Родился Гоголь. Метель. Иду к коням. По Неве плывет шинель, бурая, солдатская. Утро, клочок синевы, перламутр наплывающий. Три чайки уносятся над десятиэтажным домом. Странная грусть, талость… Колеблются верхушки двух тополей. На верхнем этаже, от балкона к балкону – гирлянда белья. Сырые мартовские метели. Перекличка ворон, таянье, туманы, обнажение земли, асфальта, тайн грязи, захороненных зимой, мёртвых, истлевших бумажек, записок, сновидений, самоубийств. Там, внизу, лежат, не успев распасться, все тела, что выбрасывались с этажей в тёмные, зимние, ужасные месяцы. Когда же придёт дворник с граблями?.. Что-то брезжит и днём и ночью, снится в тревожной глубине снов. Растёт и растёт волненье, какая-то мука, наслоение жемчужной боли в раковине на дне неведомого моря… Зачем мне ещё и это? Бельё между берёзами. Дом лучезарный, на верхнем, шестом этаже – раскрытое окно, девушка. В парке урок физкультуры. Шумная ватага третьеклашек, мальчики и девочки. Учитель, пузатый, в синих штанах с красной полосой, крепкая, курчавая голова, командует с восторженньм удовольствием, зычно и весело: – Сюда, на травку. Становись в ряд. Начинаем крутить руками, как мельница. Раз, два, три – начинай! – Третьеклашки вразнобой крутят руками, радостно визжат, вскрикивают. Солнце слепит. Высокая, надменная брюнетка в белом берете. Мучительно чёрные волосы. Смотрел, пока не прошла. Неожиданно жестокое волнующее мгновение. Солнце, ручей, тополя в почках вдоль дороги – всё жестоко. Устал. Не крутится колесо. От осени через зиму – опять к этим тонам. Академия художеств утром. Апрель, веточки. Вышел из дома – луна! Огромная, жёлтая, низко. Зеркала льда. Верба. Туман. День как Дао. Ворона на чёрном льду. Ветки в почках на сером небе. Воздух, девушки. Стена блестит. Капли. Чистая запись. Чай. Прогулка в бурю. Три брусничных томика. Утром спрятала под берет кудряшки. К врачу – на другой край города. Я смотрел в кухонное окно. Снег. Везли кровать по Стачек. Шофёр: я совершенно не знаю юго-запада. Мостик, золото в канале. Зайти в Дом Книги? Мойка, зонтики. Пушкин. Ему шестьдесят – а он в Германии. Солнце-самосожженец. Пить водку в талом саду. Сад воскрес, облака. Кораблик сквозной, золотой. Куда нам плыть? На Невском крутятся три девушки в сиреневых шляпах. В Лавке писателя купил Жакоба и Сен-Жон-Перса. Цветы, птицы. Над истлевшим ковром голубые глаза. То тут, то там – лимонницы. Внизу, за ветвями – яркоизумрудное поле. Солнце, облака, ледяной ветер. Парад на Красной площади, полки ветеранов, старики в орденах. Речь высокого, красивого американца. 1418 дней войны. 27 миллионов погибших в Советском Союзе. Дождь, серые капли. В саду мокнет травка. Холодный май. Я в ватнике сижу у окна, смотрю в сад: зеленеющие в каплях кусты смородины. Повествовательный темперамент? Или это что-то другое? Забыл. Жара, сирень, бабочки, купаюсь. Траурная старуха пронесла завёрнутую в газету сирень. Зелёная трава и небо в мае, забытые слова о божьем рае. Зацвели рябина, вишня, боярышник. Купаюсь. Взобрался по железной лесенке. Капельки щекотали, скатываясь. Кабинка была занята: четыре стройных золотистых ноги. Глазам было больно, увяз в горячем песке. Вечером, в восьмом часу – страшная гроза! Молнии, ливень, шум потопа, взрывы грома. Дом сотрясался от небесного грохота. Я сидел у раскрытого окна на втором этаже, ждал – ударит, убьёт мгновенно. Превосходный конец. Но стрелы пролетели мимо. Нагая девушка с сиренью грустила под узорной тенью… А дальше не сочиняется. Лето. Любовь, Элеонора, чёрные, взятые у воронова крыла, волосы. Грусть-тоска. Вороново крыло Элеоноры. Оно уже пролетело. Окучиваю картошку. Леночка, дачница. Я всё ещё храню очарование нашей краткой прогулки. Город химер. Вавилон, Фивы, Ниневия, Содом, Иерусалим, Афины, Рим, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Петербург. Город солнца. Жало тоски притуплено. У раскрытого окна. Книги. Печатный поток. Звёздные реки и огненные валы, плещущие в небо. Мутные, пепельно-серые океаны Скуки. Электричество, встреча плюса и минуса. Удар молнии в лицо. Обнажённое сердце. И. Кеплер, «О шестигранных снежинках». Сновидения и бессонницы, нечто на бумаге. Не нужно перечитывать и не жаль забыть, оборвав на полуслове. Это книга. Она то пишется, то спит. Рождается на бумаге и растёт, как дерево, как гора, как снежная лавина с ужасным лицом низвергающегося человека. Она – я. Иногда удаётся думать огненными буквами на бумаге, и она обращается в пепел, по двору летают бабочки сажи, и мне уже не прочесть ни строчки на их крыльях, не посмеяться и не погрустить. Священное безумие. Обоюдоострые мечи, как в анатомическом театре. Сижу с чаем у вольного окна. Клёны, зелёные носики. Стриж безоглядно перечеркнул небо. Холм в венке ромашек. Травы-великаны перекидываются васильками, колокольчиками. Купаются кувшинки. Голова болит. Спал в духоте, с закрытой форточкой, боясь комаров. У Л. тележка с вещами, сумка. Поезд её увёз. Сказала: у нас не любовь, а сношения. Слово-то какое. Почему не пишется, слова не льются? Кто пишет? Тот?.. Читаю о Пиросмани. Читаю Ивана Шмелёва. Она сказала: посмотри, какие наивные облака. Июль, утро, выхожу из-под арки ворот. Низкое солнце бьёт в глаза. Трамвай, красно-фиолетовый, Иван-да-Марья, гремя по бульвару, поднимает пыль. Тон неба сине-голубой. Хмурый. На плече невыспавшиеся звёздочки. Сложность и свежесть – что это? Слепил закат. Гигантский бронзовый шар, казалось, издавал стон. Две неподвижные человеческие фигуры на площади отбрасывали длинную тень. Одна из них была статуя. День смерти Лермонтова. В палате сумрачно. Я лежу возле матери, завёрнутый в пелёнку. В окно из-за морщин глядит страшная снежная страна. Крадутся волки и бандиты. Отец на соседней кровати спит в амуниции – в кителе, сапогах, положив пистолет под подушку. Огромное мокрое колесо года. Ещё шаг и зима. Листья в бисере. Я один и вокруг меня молчание. Сиденье, обитое звёздным бархатом. Это вращение не остановится. Не забыть – убить себя в сентябре. Песчинка, прилипшая к шине, катается перед моими глазами. В моём окне шелест капель. Я и ты. Осколки не складываются. Так и пишу – в год. Широк этот стол. Лист стекла. Пытаюсь дать себе прозрачный отчёт. Чудовищная книга без начала и конца – я не решался подступиться. Он, дождь. Не живётся. Утро, вихри. Я с ужасом подумал о моей одинокой дороге. Распахнутся, как сентябрьская карусель, леса. – Ах, Вы знаете, там была масса грибов! – Лицо прислонилось к стеклу. Отступило в судорогах. Царственные виды. Арбуза хочется. Мило – чашка. Хочет чувствовать себя женщиной, получать подарки. Читал дурацкие книги. Час, другой, третий. Едем, шушукаемся. Показывается голова и через минуту исчезает за лесом. У нас впереди целая ночь. Полёт в хрупкий, рискованный час первых сумерек. Зубастый город кого-то жуёт в густом тумане. Во всяком случае – не предмет моего любования. На их равнинный глаз – гора. Мне пока достаточно для целей. Дом, который я себе построил. Он весь состоит из стеклянных стрекоз. Отделилась и висит, вращая рот, пытается что-то сказать. Не терпится лечь. Кое-кто может оказаться. Рябина, клёны – золотые драпировки осени. Зеркало, три створки, в каждой – я, в сером свитере, ещё молодой. Череп, скелет. Осень, восемь колонн. Кваренги. Усыпанные листьями дорожки. Она подошла ко мне, улыбаясь, вся в чёрном, короткая юбка, высокие каблуки, волосы узлом, стройная, тонкая. Подала три грецких ореха: – если Вы не слабый, расколете. – Вы опасный человек: читаете одним взглядом целую страницу. Вы так и людей читаете, как разведчик. – Золотой клён, горький дымок, шорох шагов, сладость тлена, крик петуха. Обратно – луна. Жёлтая стена углом, две трубы. Жёлтое полуоблетелое дерево. На стене элегантный молодой человек в костюме с галстуком держит телефонную трубку. «Мобильная связь – новому поколению». Канал глиняный, нищенский, мутная вода, грязно-багровые корпуса заводов. Небо – рябь. Густо летело золото с лип. Луна в чёрных облаках. Читал вполголоса наизусть: Улялюм. Отговорила роща золотая. Бесследно канул день, желтея на балкон. Лесом мы шли по тропинке единственной. В пустоту, неуслышан. Тепло, мотыльки во тьме. Вошёл в парадную – пепельно-жёлтый в чёрных пятнышках сел на ступеньку. Печаль низвергает человека с вершин совершенства. Спиноза шлифует чистые линзы. Гоголь, дождливо, белые колонны. Под зонтом тороплюсь на Галерную. Двор в мокрых тополевых листьях. В печурке ярко горят доски. Рабочий их ворошит. Запах кипящей смолы. Я встал из-за стола. В белом плаще, уходя, помахала рукой. Следил за её чёрными длинными волосами, пока не исчезла. Сфинксы, фонари. Чёрные краны на громадной заре. Огненный росчерк низвергающегося самолёта. Сад едва прикрыт последними лоскутками. Барабанная дробь за воротами – взбодрить матросов. Кораблик в голом синем небе. Сегодня у меня семь пальцев – справа. Слева – перст, бронзовая башня. На дорожке лежит пьяный парень с деревянными брусьями, рваная куртка, штиблеты. Брусья свеже-оструганные, крестом. Парень рухнул на них, подвернув окровавленные кисти рук. Над ним обрюзглый старик, голова обрита, обмотана грязным бинтом. Толстое синее пальто с лисьим воротником опоясано верёвкой. Наклонился к парню и тормошит за плечо. – До Марата триста метров осталось, – говорит он, простирая пальцы в безрадостную даль октябрьского сквера. Мглисто. Коломенский мост. Мяч в канале. Слышу рост волос на спящей голове. Отодвигаюсь к краю. Ластясь, обвивается вокруг шеи. Заметят зебры! Тут у них посты через каждый метр! Трое курили. Питону плохо. Плечо перестало заслонять. Белоголубая геометрия комнаты. У потолка два жутких жёлтых шара. Больничная палата. – Кто там? – Ленэнерго. – Что ты делаешь? Не открывай! – Идёт через двор в пальто с меховым воротником, в круглой меховой шапочке. Бегу открывать. Золотое небо и два розовохвостых низвергающихся самолёта. Требуются мойщицы-убийцы. Чиф державный. Нежное небо. Кожаные куртки, дубинки свисают на петельках с рук, лущат семечки. Между ними сидит в месеве снега, опустив голову, седой старик. Тоненький месяц, рынок, мясо, лязгает гравий. Луна. Арка. Гороховая. Себастьян Рок. Канал. Три тополя. Замахнулся пером. Вход со двора. Четыре заснеженные ступени. Праздник за фасадом большого здания, танцы на площадке. Левушка, с которой я хотел уйти. Взлетел через рамы, едва протиснулся, попал на чердак, стропила, стены нет. Показывал девушке – как я умею летать. Этот закат и на завтра обещает не худшее. В троллейбусе – вонючий, заросший, в красном армейском околыше, подступив к девушке, визгливо предложил: – Я хочу говорить с вами на моём родном языке! – и громко затараторил по-татарски. – Подбери в подворотне! – испуганное и пёстрое показалось из смежной комнаты. Горбатыми руками мнёт гостя, тащит в квартиру. Челюсть чемодана отвисает. Барахло и книги. Смотрит, смотрит Пётр: стремительное движение тарелок завораживает. А жонглёр незрим. Отвращение к буквам! Ужас, ужас, ужас! – Такая история! – бьёт стол кулаком. Я пишу. На руках семь пальцев. Рукопись растёт, разбухает. Шут, сокровище, дубовый ящик. Оставьте – я сам! Льдинки скользят с писком и рассыпаются. Железные листья. Невы нет. Статуи. Я дожил до тусклых дней. Разболтался. Слякоть. Удалялась под черно-розовым зонтом по улице. Я отвернулся, кончено. Встал, разбитый. Впереди – пустыня субботнего дня. Когда же доконают – коньками, кошмарами! – Я майор! – крикнул Н. жёлтому зданию. Окна на всех этажах распахнулись, высыпали усатые носы. Нет встреч. Кормлюсь мечтами. Снег в саду. Гоголю. Месяц, как топорик. Л. упала с лестницы. Ноги в синяках. Не ходит. Матросы бегут. Правая сторона месяца. Знают ли они маршрут? Февральский стакан. Вот и всё. Л. вошла, распевая Маха Кали. Я кричал, как будто в меня вбивали гвозди. Привела в два часа ночи горлопана. Уложила на полу под пуховым одеялом в смежной комнате, оставила дверь в спальню открытой и кричала: тебе не холодно? Утро грустное. Майор Н. Показал ему мой живот. В пупке железное кольцо болтается с обрывком цепочки. Испугался, вспотел. Нету! Дома забыл! Отцепилось как-то… Майор мрачно слушал. – Расстрелять! – приказал своим. Дни пролистываются с тревожными закладками снов. Книга жизни, взъерошенная, выпадает из рук, и я вижу последнюю, смертельно-бледную от испуга страницу. Матушка, спаси! За что они мучают меня! Спрашиваю – не дают ответа. Дом ли то мой синеет вдали? Струна цыганской гитары, лопается, звеня. Идут, идут, идут железным шагом, подняв лопаты с пальцами… Ночь, дождь. Залитый чернотой сад, отражения фонарей. Блестит в брызгах строгое чугунное лицо Гоголя. Что ты, Николай Васильевич?.. Губы твои сжаты. Молчание. Вот и мне тоже ничего не сказать. Некому, да и незачем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.