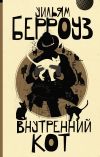Текст книги "Одна ночь (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Овсянников
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 47 страниц)
ЗАСЛУШИВАЛСЯ ВОЛН
В конце апреля он вернулся из плавания. Воробьиный рейс в Бремен. Моргнул и – обратно. Быстрый «Гермес». Так называется спасательное судно Балтийского морского пароходства. Отпустили на три дня. А там – три океана. Сингапур.
Дом в пригороде, палисадничек, нарциссы в клумбах. Мать, сестра.
Седой день, седые мысли. Москитная сетка моросит над холмами. Тропики, агавы, тюльпанное дерево. Он пойдет размять ноги. Он любит бродить один по горам и долам.
На вершине одинокая сосна, всем ветрам назло. Ну, здравствуй, старый друг! Давненько не виделись. Нашел сухие ветки, валежник, сгреб в кучу. Только и ждали спички, вспыхнули, как порох. Костер век не ел, рыжий черт, уплетает за обе щеки. Что б ему еще дать? Да вот: загранпаспорт! Пропуск к кокосам и какаду. На кой хрен эта картонка в кармане пригрелась. На, жри! И бросил в огонь свою «мореходку». Морской паспорт, выписанный в канцелярии Нептуна. Якоря корчатся…
Заперся в комнате и весь день пил. Пей до дна, пей до дна… Голубой Дунай. Вишни спилены. Вишни детства. Он на них лазил лакомиться, обдирая об кору колени. И вот – спилены вишенки под корень. У кого-то руки чесались. Делать нечего. На чердаке веревки. Мать с сестрой белье сушат. Хорошие веревки, крепкие. Недосушенное белье аккуратно в корыто сложил. Взглянул на балку. Надежная балка. Петельку связал. Надел пеньковый галстук на шею. Капитан, капитан, улыбнитесь… На рею вздернуть – и прямо в рай… Мать с сестрой кинулись, успели снять. Он обиделся, что ему помешали, сказал, что умирающий осьминог прячется в свою нору, и залез под кровать…
Очнулся он в неизвестном месте. Пижамы. В глазах рябит. У голубой стены на табурете сидит санитар. Звереобразный, зевает. Нос – валенок. Такой громила. Только бы не заметил. Нет, заметил, голову повернул. «По уколу соскучился!» – взревел санитар. Грубо закрутив ему руку за спину, тащит его куда-то по длинному, узкому, как кишка, коридору.
Врач, психиатр, встал из-за стола. Статный красавец с синестальным взглядом. В белоснежном халате, элегантном, как пальто. Золотые волосы до плеч. Ангел Божий. «Присаживайтесь, – говорит он ласковым голосом. – На что жалуетесь? Расскажите все начистоту, иначе мне будет трудно вам помочь». Больной не отвечает. Отвернулся. Смотрит в окно. На окне решетка. «Очкуров? – слышит он мягко звучащий вопрос врача. – Художник? Из Петергофа?..»
На стене портрет психиатра. В черной раме. Очень похож. Как две капли. Отражение в зеркале…
Дали холст, краски, кисти. Мастерскую. Просят нарисовать автопортрет. Весь день он занят этой работой. С утра до вечера. Потом спускается в столовую. Там полно пижам за столами. Он никого не замечает, ни с кем не заводит разговоров. К нему тоже никто интереса не проявляет. Тут все такие. Сидят отдельно, замкнуты, угрюмы, у всех склоненные над тарелками одинаковые, выбритые, голубые булыжники-головы. Поужинав, он идет в душевую. Дежурная сестра по дружбе дала ему ключ от душевой, и он плещется там каждый вечер в полном одиночестве, как дельфин. У него привилегии, он волен делать все, что ему хочется. Нет, нет, ему тут неплохо живется. Нигде и никогда ему так хорошо не жилось.
Тут бывают забавные сцены. Утром у окна с решеткой стоит рыжий безумец. Стоит в чем мать родила. Протянув руки вверх, будто хочет улететь к восходящему солнцу, он взывает трубнозаунывным голосом:
– Сто тысяч мегатонн! Сто тысяч мегатонн! Атом, атом! Слушай меня! Цель номер один! Огонь!
Жирное, бело-рыхлое, как у тритона, тело. Икры-бутыли. Комиссованный. Из ракетных войск. Солнце два часа держит его у окна, пока не уйдет за угол. Безумец стоит в этом плену, вытянув руки с вывернутыми навстречу лучам ладонями, и раздается его неутомимый, монотонный вопль:
– Сто тысяч мегатонн! Сто тысяч мегатонн! Атом, атом! Слушай меня!..
Тут есть такие, что резали себе вены осколками стекла на своей свадьбе, и такие, что пытались выброситься в окно с девятого этажа. И выбросились бы благополучно, если бы их не «спасли» непрошеные ангелы-хранители, схватив за ноги. Кровь за кровь, откровенность за откровенность. Как сюда он попал? Да так… Вена, Нагасаки, Сенека.
Пятый день он в этом чудесном доме. Очередная беседа с прекрасным Аполлоном в белом халате. Златокудрый, грудь шире Арарата, лицо как солнце. Даже и не беседа. Разговор по душам двух друзей. Пишет диссертацию. Нужен материал: автопортреты пациентов.
– Что ж вы робкий такой? – спрашивает Психиатр. В голосе его звучит искреннее участие и сердечность. – Чего же вы боитесь? Девятого вала? Девятый вал сюда не докатится. Уверяю вас. Живите спокойно. Трудитесь по силам. Рисуйте. Я вас не тороплю…
Тут танцы по воскресеньем. Ах, давно он не танцевал! С женской половины пришли девушки. Они тоже в пижамах, в голубую полоску, как волны. На ногах мягкие, бесшумные тапочки. Они курят. У них тоже наголо обритые головы. Они хотят танцевать, их глаза говорят о любви. Темный лес, пламенном бреду… Пальцы Психиатра в толстых золотых перстнях барабанят по столу. Если он, Очкуров, нынче вечером не закончит свой автопортрет, то пусть пеняет на зеркало, коли рожа крива. Его не выпустят живым из этого дома… Стоп машина… В лимонном Сингапуре…
Утром в палате такая спертость. Мычит, губы трубочкой, грудь поросла черной шерстью, шимпанзе. Медсестра больно бьет его по голове палкой. Присоединяется санитар. Избивают вдвоем. Вой избиваемого переходит в поросячий визг.
Выводят на прогулку в сад. Это другая медсестра, она добрая, круглолицая, она как мать родная. Простая душа… Шум, крики. Что такое? Убежал рыжий безумец. Солнцепоклонник несчастный. Вон, вислозадый, бежит голышом, пятки мелькают. Там бетонная стена, колючки проволоки, как терновый венец. А за стеной – сосновый лес. Дивный, как струны, лес. И воля! Все пижамы, все, все, что ни есть, пижамы с санитаром во главе, злобно воя, устремляются в погоню. Гончая стая… Возвращаются, ведут беглеца, заломив ему руки за спину и низко пригнув голову к земле. Как сорвавшегося с цепи и пойманного пса. Санитар идет сзади и, грубо ругаясь, пинает его в зад сапогом.
Опять с глазу на глаз с Психиатром. Что он хочет? Чтобы тут, перед ним совершили харакири? «Очкуров?» «Да!» Где-то плещет вода – поливают цветы из шланга. Голос Психиатра вкрадчив, голубые глаза лучисты, они гипнотизируют, лишают воли. Очкуров дрожит, как лист: вот он превратится в каменную статую и останется в этом доме навеки…
Розовые, пластмасса, не бьются, опять молоко, теленок в тумане, вишня бежит по клеенке – не догнать, убирают, у нас самообслуживание, несут гуськом, затылок в затылок – в окошко посуды, а там – пион, курносый, распаренный, ночью за стеной будет играть пианино, небесная музыка – это она душит подушкой…
Он. Очкуров. Отчаялся. Автопортрет не написать! Никогда, никогда! Будет лучше, если он нарисует лодку. Он нарисует лодку и уплывет на ней отсюда. На лодке – что ж не уплыть! И дурак уплывет! Запросто!
Постель-метель. Дин-дин-дин – чистое поле. Мартышкино, Мариенбург – в гости просим. Самсон, позолота слезла. Медсестра новенькая. Очкуров на нее глаз положил – подсолнечник, лузгает семечки. Медперсонал из местных, кроме врачей. Те – не отсюда… Валерьяна, Марк Аврелий. Воркуют, голубки, погасив свет. Хихиканье. Я не виночерпий, я хлеб режу… По борту, захлебываясь в тоске, Мадагаскар. На всю ночь зарядил, огурцы пойдут, укроп, шуры-муры на сеновале, очки на хвосте. Дорогой дальнею… Бежал бы сейчас бурун за кормой… Что-то хрустит – раздавленные очки.
РАК НА БЛЮДЕ
1. ФЕВРАЛЬСКИЙ СТАКАНИ чреваты жёны медведю хлеб дают из руки, да рыкнет, девица будет, а молчит – отрок будет.
Русские гадания
Я родился зимой второго февраля года 1947 в Белоруссии. Отец мой, фронтовик, командир танка, тяжело раненый, едва не сгорел заживо, запертый в броне. Теперь начальник автоколонны в 200 машин, строил дорогу на Брест. Днём строил, а ночью спал с пистолетом под подушкой в хате у старика-белоруса. Время неспокойное, послевоенное, недобитые банды вокруг бродили в лесах. Приснился моей матери аист. По белорусскому поверью – сын родится. Носила меня мать под сердцем ровно девять месяцев и благополучно разрешилась от бремени в десять часов утра. За окном родильного дома в районном городке яркий чудесный день, сверкали искорки снега. Вспоминает моя мать Мария, в девичестве Румянцева, а по мужу Овсянникова. Отец мой Александр Викторович на радостях, что родился сын, в честь моего появления на свет пропил 600 рублей, деньги по тем временам немалые. Отец гулял весь месяц, весь февраль в компании сослуживцев-офицеров. Мать моя очень сокрушалась о потере капитала. На свой дом копили. Блокадная ленинградка, брови серьёзные, сама как струнка, миниатюрная: рост метр пятьдесят два.
Житье это белорусское у родителей моих не мёдом мазано. Длилось два года. Мать моя зачитывалась Львом Толстым. «Война и мир», «Анна Каренина», «Семейное счастье». Отец мой читал мало, библиоманией он не болел, но книги покупал при случае и берёг. Также любил он хвастаться перед друзьями: какая у него жена, его Машенька, начитанная. Сам он больше глядел на дно стакана, чем на страницу. Отец мой не горевал. Гуляка, отец мой, весёлый собутыльник, первый его враг был – уныние; шутки не сходили с его румяных балагурных губ. Шоферня, ребята ножевые, души в нём не чаяли за его щедрость и широкий нрав. Стояли за него горой. Скажи дурное слово – разорвут. Добряк, последнюю рубашку с себя снимет, рот только раскрой – с просьбой. Отдаёт мой отец свою последнюю нательную рубаху первому встречному и пойдёт, босый да голый, по чистому холодному снегу в поле. Высоколобый, грустно улыбаясь. И поднимется в том безбрежном поле метель, закрутятся вихри, и сгинет мой отец в том поле, сам – снежный вихрь. Со смертью не шутят. Отец мой был полон телом, кожа белая, как сметана. Ростом невелик, на полголовы повыше моей матери. Лоб-купол в залысинах. А ноги коротенькие, походка враскачку, сбитые каблуки, медведь косолапый.
Тот февральский стакан в руке моего отца не расплеснётся; чтобы жизнь была полная; толстые балагурные губы, пилотка.
В белорусской избе с узорными наличниками, где жили мои отец и мать, сладко проспал я в колыбели, запелёнутый и укутанный, первый год свой. Деревня называлась: Тартак. В паспорт мой вписана – как место моего рождения. Мать в начале беременности очень томилась. Захотелось ей свежепросоленных огурцов с молодой картошкой, так захотелось – хоть умри. А где взять? Не выросли ещё. Попал мой отец в гости, а там как раз скороспелые огурцы и бульбу рассыпчатую лопают. «Что ж ты, Александр Викторович, не ешь?» – спрашивают хозяева. «Не хочу. Маше моей очень хочется. Ей отнесу», – отвечал отец. Потом далеко разнеслась молва об отцовской заботливости: как Александр Викторович жену свою холит и лелеет.
Отец мой любил яичницу-глазунью и картошку, крупно нарезанную, зажаренную на сале, со шкварками. Целыми сковородами наворачивал, и этот крестьянский стол никогда ему не надоедал. У матери не было много хлопот на кухне. Ещё мой отец любил рыбу, особенно селёдку. Мать, наоборот, ничего рыбного в рот не брала. От селёдки её трясло. Тут у них были серьёзные разногласия и доходило до ссор.
Ездили на служебной отцовской машине в районный город Барановичи, там на базаре купили подушку и шубу.
Отец мой сильно пил, море было ему по колено. Брёл мой отец вброд через великие пьяные воды, через океаны водки, потупясь, свесив хмельную лобастую голову, а из двух его налитых доверху глаз-стаканов текли горькие ручьи чистого неразбавленного спирта. «За тех, кто в море» – был любимый отцовский тост. Без обмана, как в басне Эзопа, он то море мог бы один и высосать ненасытными толстыми губами, держа безбрежную амфору крепко за уши. Выдул бы за милую душу – с моряками, с китами, с флотами всех стран. Осушил бы до дна, не поморщась, губы рукавом кителя вытер бы и пошел всхрапнуть часок-другой где-нибудь в укромном уголке. «Счастливая ты, Мария, – говорили моей матери, завидуя, замужние белоруски в деревне. – Какой у тебя супруг, благоверный твой, покладистый да спокойный, никогда не буянит. Выпьет чарочку и тихо спать завалится».
У отца была ещё поговорка такая: «жениться – так на английской королеве, пить – так до гроба». Мать моя к короне британских островов не тянулась, не имея на это никаких прав. Дочь пахаря-псковича, требовала напрямик, в глаза резала: чтобы муж прекратил своё неумеренное пьянство и дал зарок если не перед иконой, то перед портретом великого вождя Сталина. Утром, жадно выпив кружку сырой воды, отец клялся капли в рот не брать и уходил командовать своими шоферами, трезвый, как колеса его двухсот машин в подчинённой ему автоколонне. А вечером возвращался при поддержке водителя его служебного газика, опять навеселе, расплываясь в пьяной виноватой улыбке и прося прощения. Хорош. Тёпленький. Только могила его исправит.
Мать моя решила отомстить. Вовлекла в свой заговор хозяйскую дочь Лёлю. Добыли бутыль самогону и наклюкались. Завели патефон, пели и плясали, рискуя свалить со стола керосиновую лампу. Испуганная копоть взлетала из пузатого стекла к потолку чёрной курицей. Такой шабаш! Мать моя была уже на пятом месяце беременности. Вошедший в избу отец, увидев эту сцену, тотчас протрезвел. Устроил жене хорошую выволочку. С ума она сошла, что ли? От такого буйного плясанья мог быть и выкидыш. Матери моей стало плохо, всю ночь её рвало в таз. Алкоголь она возненавидела с того дня пуще прежнего и молила бога, чтобы это её отвращение к вину передалось ребёнку, которого носит она в своём чреве.
Двухмесячный, я заплакал, и никак не успокоить. Что только мать моя ни делала: и на руках качала, и грудью кормила, и дала пососать толчёного мака в марлевом мешочке. Нет, ничего не помогает. Реву и реву, в крик, захлёбываюсь, посинел уже весь. Хозяйка, суровая белоруска со сросшимися бровями, влила расплавленного олова в блюдце с водой, и вышла фигура собаки. Вот и причина моего плача. Выяснилось: мать мою, когда она была ещё беременна, испугала собака на улице. Этот утробный материнский страх во мне вдруг и проснулся. Белоруска взяла меня на руки, пошептала заговор против испуга, я затих и уснул.
У моего отца был там, в Белоруссии, боевой друг Гриша Белобородько, прозванный офицерами Красной девицей за его застенчивость и целомудрие. Гриша к вину едва притрагивался, губы только в рюмке мочил, в компании сидел молчаливый, тише воды, ниже травы, на женщин взглянуть боялся. Пороху не хватало, а войну прошёл. Полный антипод моему отцу. Гриша Белобородько, единственный, кто сохранял в тех кутежах здравый ум и светлую голову, спас моего отца от большой беды. От Сибири, а то и от «вышки». Упала с неба ревизия – снег отцу на голову. Ай-яй-яй! Довеселились. Не всё коту масленица. Крупная растрата казённых сумм, а также пропажа десяти автомашин. Куда делись? Да пропил с товарищами. Серьёзная история, керосином пахнет. Жди, майор, «воронок» к тебе скоро пожалует, поведут тебя под белы ручки. Бросился Белобородько по области, за одну ночь нашёл машины, там-сям выпросил на время, номера поменял на какие нужно и рано утром поставил всё как есть перед очами ревизионного начальства. Нате, ешьте! И сумму недостающую выложил. Копать не стали – что да откуда. Замяли, замазали. Да не совсем. Долго еще верёвочка вилась. Лет пять. Под Ленинград перебрались, там жили – тогда и пришло письмо от Белобородько, сняло страшную гору с отцовских плеч. Отец по ночам не спал, давила его та гора. А если и забывался сном на часок, то бредил, скрежетал зубами, стенал и просыпался в ледяном поту. Белобородько писал: «Всё. Можешь теперь спать спокойно».
Я родился крепышом, смуглый, как цыганёнок. Такой и рос. Родители мои оба белокожие, откуда же у меня этот шафран с корицей, где меня закоптили? «Три! Сильнее три его, поросёнка! – требовал отец, когда мать мыла меня в корыте. – Грязи-то на нём! Коркой покрылся. Ножом, пожалуй, не отскоблишь». Мать сердито огрызалась и гнала отца прочь. Эта моя смуглота для отца была излюбленной темой разговора и повод для подшучивания над своей вспыльчивей Машей. У него была страсть дразнить. Догадками и подозрениями на мой счет он постоянно изводил мою мать, до ссор и слёз. «Нет, это не грязь», – говорил он, приблизясь к купели, где меня тщетно оттирали мочалкой, и сомнительно покачивая своей лобастой головой. Теперь ему всё ясно. И зачем вот только было матери моей скрывать, правда всё равно наружу всплыла. Не иначе какой-нибудь цыган у матери в спальне переночевал, пока отец отсутствовал, – и что она сразу не призналась и не повинилась? Он бы простил. Все мы не святые. Тем более, когда цыган подкатится. Кто ж устоит перед цыганом. Кончалось тем, что мать, взбешённая, забыв о моем купаньи и о том, что я могу захлебнуться в корыте, топала ногами и кричала: сыночек их в свекровь, это она, свекровь, чёрная как сажа, дочь табора и есть истинная виновница моей темнокожести. Набрасывалась на отца и колотила кулаками. А тот только смеялся.
То одно, то другое вспомнится моей матери. Словно я сам вижу…
У нас с матерью и глаза точь-в-точь с одного болота гонноболь, то серые, то голубые, меняются с погодой. Взмах ресниц – взмах вороньих перьев. Пашни… Машина, в которой мы ехали, потеряла управление на спуске, тормоза отказали, шофер с баранкой борется, лицо отца побелело как мел. Мать моя, ни жива, ни мертва, прижала меня к груди. Встал у глаз её глубокий овраг. Отец рванул дверцу: «Маша, прыгай!» Машину дёрнуло, и стальным углом дверцы отцу в лоб. Из раны кровь хлещет, до кости прорубило, а отец и не замечает. Шофёр справился, колесо крутится над самой пропастью. Горел тот рубец на отцовском лбу по гроб.
Что там за шум? Галки да вороны. У его шоферов побоище. Ножи, монтировки в ход пущены. Убийством пахнет, побежал отец в поле, видит: толпа кого-то обступила, орёт. Выхватил отец пистолет и выстрелил в воздух. Толпа раздалась, в центре два шофера дерутся, окровавленные, злые. Дал одному леща по шее – тот и кувырк. Остальные послушно разошлись по машинам.
Белорусская жизнь наша кончилась в 1948-ом. Мне исполнился год. Отца демобилизовали. Так он и не достроил свою дорогу на Брест. Гадали мои отец и мать: где им жить дальше. Остаться ли тут, ехать ли в родные края отца в Карелию, поселиться ли в Ленинграде – там жила родня моей матери. А ещё манила Кубань: отцу предлагали возглавить богатый колхоз и давали лучший в станице дом. Кавказ настоятельно звал отца в письмах, там отцовский однополчанин пустил корни у Чёрного моря. Так куда же решиться: на север или на юг? В Карелии в погранзоне дом большой, да полон: старики-родители – Виктор Титович и Мария Герасимовна – и две сестры отца, Вера и Нюра. Яблоку там негде упасть. Да и не хотел мой отец в старое пятиться, на новом месте хотелось ему обосноваться.
В Ленинграде – материнская линия. Дед мой Николай Васильевич Румянцев жил на проспекте Обуховской обороны в коммунальной комнате. У него своя семья – куда ещё нам. Четверо там включая деда: сам, жена его – еще одна Мария, матери моей мачеха, сын их Виктор да мачехина родительница – семидесятилетняя бабка Ганя. Дед Николай писал в письме: ничего, дочь, приезжай. Угол для вас всегда есть. В пригороде дома продаются. За Красным селом… Недорого просят…
Отец получил при демобилизации деньги. Вот дом себе и купили. Повезли меня на север, а не на юг. Отец часто потом вздыхал о Кубани. Арбузы, подсолнечники – розовая мечта. А мать моя горевала о потерянном Кавказе. Грезился и снился ей всю жизнь белый домик-мазанка у тёплого моря и золотистые грозди сладкого винограда.
2. ДУДЕРГОФДом не велик, да лежать не велит.
В ленинградской комнате на проспекте Обуховской обороны перезимовали кое-как двумя семьями, всемером, теснясь на двадцати коммунальных метрах. Мать моя едва весны дождалась, оставаться там она была уже не в силах. Нужно было отдельное жильё. Вот и нашли, недолго искав, по совету добрых людей, в прекрасной живописной местности.
Дом тот за Красным селом в посёлке у Дудергофских высот – это был ещё тот дом! Увидев его с фасада, мать моя нахмурилась, а войдя внутрь, пришла в ужас: потолок коробился, провиснув посередине горбом, и ей почудилось, что балки обломились и крыша рушится ей на голову. А стены – тронь, и рассыпятся. Труха, жучок проел. Отодранные обои раздуваются парусами. Развалюха какая-то, гнилушки. Куда глядели глаза моего отца и деда Николая! Купили по дешёвке. Молодцы. Умные головы. Жить здесь нельзя ни единого дня. Да что там – минуту тут находиться опасно для жизни. Она не хочет вместе с ребёнком быть погребённой под обломками. Пусть мужчины что-то делают с этим сараем, чтобы стал пригоден для обитания, а пока она с сыном у соседей поживет.
Решили дом отстроить. В мае зазвенели топоры. Меня посадили в пустую ванну, чтобы не потерялся, пока взрослые работают. Я сидел смирно в своем железном челне. Сирень лезла в раскрытое окно, пытаясь достать меня знойной гроздью. – Что ты его в доме томишь! – гремел голос отца с улицы. – Вынеси в сад, пусть пацан подышит!
Потемнело. Тополь затрепетал. Топор синевато сверкнул над недостроенным домом. Мать моя сидела в саду на табурете, чистила картошку. Змейка, брызнув в небе, осветила её зрачок. – Молния! – тихо ахнула моя мать, то ли испуганная, то ли изумлённая. Картофелина резко стукнула, упав в миску. – Ой, сейчас грохнет…
Майская гроза всех загнала в дом. Ливень рухнул – сплошной стеной. А крыша-то дырявая, решето, ручьи текут и там и сям в комнаты. Мать моя, ошеломлённая, металась, подставляя под потоп вёдра, тазы и банки. Дождь звонко забарабанил в них, плеща, играя на водяных балалайках и гуслях. Свежо и радостно звучала та водоструйная музыка.
К концу августа дом был готов: гнилые венцы заменены, фундамент укреплен, крыша починена, печка сложена. Все как надо. Будем зимовать в новом гнезде. А там, глядишь, и добра наживём.
Отец, теперь начальник гаража в Красном селе, приходил с работы неизменно весёлый. Мать моя, не надеясь на чью-либо помощь, одна все стены новыми обоями обклеила и потолки побелила. От отца в хозяйстве было мало толку. Он же начальник, ему ли снисходить до таких мелочей, руки марать. Хоть бы гвоздь вбил. Возьмёт мой отец молоток да и хватит вместо шляпки себе по пальцам. Ходит отец как неприкаянный по двору в мглистый октябрьский день, чавкает сапогами по грязи, старая расстегнутая шинель понуро на плечах висит, хлястик болтается на одной пуговице. – Да ты, Маша, не горюй, – говорит отец матери. – В тепле будем.
– Пригнал своих шоферов из гаража. Напилили, накололи дров и в поленницы сложили в сарае доверху до стрех.
Вскоре ещё раз приехал к нам дед Николай из Ленинграда, вызванный письмом дочери – починить нам крыльцо. Увидала его мать моя на дороге, как он в гору поднимается, в пальтеце своём, мешок с плотницким инструментом за плечами – и заплакала. – Пропала я без тебя, папа…
Первая наша зима в Дудергофе дала нам знать. Дом хоть и подправили, да на все рук не хватило. Пришёл холод, показал недоделки. В щели так сифонило, что по комнатам гулял ветер, а новопоклеенные обои, шурша, ходили по стене волнами. Пол ледяной, на коньках кататься. Мать моя постелила половики, и они примёрзли намертво. Утром и с них, и со стен можно било собирать иней. Печка наша оказалась не печка, а паровозная топка: дрова щелкала, как орехи – охапками, глотала, разинув огненный рот, только давай. А тепла – от спички и то больше. Топим, топим – к вечеру один бок едва нагреется. Мать сшила мне тулупчик из зайца, мехом внутрь, опушка по борту и рукавам. Всю зиму я в том тулупчике спасался в нашем ледяном доме, не снимая от пробуждения до сна. В тулупчике том, как в печке, только нос от холода клюквенный да руки-морковки из рукавов торчат. Когда в доме было особенно прохладно, мать моя, чтобы я не мёрз, ставила меня в валенках на высокий стул со спинкой, а сама занималась чем-нибудь в комнате. Я стоял стражем на своей башне, ничуть не скучая, развлекаясь тем, что любовался выдыхаемыми облачками пара.
Появились у меня санки. С тех пор я весь день проводил на улице, катаясь с горок вместе с ватагой таких же санщиков. Темно, поздний вечер, звёзды, весь в снегу вывалялся, мокро в валенках, варежки потерял. Мать сердится – никак меня в дом не загнать, кочергой грозит.
Дудергоф – старое название. Тут финны жили. После финской войны их всех выселили. Но до сих пор вокруг посёлка лопочут угро-финские названия деревень: Васколово, Микколово, Калевахта, Виллози. В конце главной улицы (то есть проспекта 25 Октября), над обрывом в поле, – каменное здание с ржавой башенкой, бывшая кирха, а теперь школа. Там же – шаг ступить, бетонный барак, переоборудованный под кинотеатр. Мои отец и мать, запасясь семечками, ходили туда глядеть кино на вечерний сеанс. Меня брали с собой, пока я был мал. Зрители, не снимая пальто, сидели на поставленных тесными рядами лавках и созерцали простыню на стене, показывали фильмы: «Свинарка и пастух», «Три товарища». Лента часто обрывалась, и залузганный шелухой зал пронзительно свистел соловьем-разбойником из гнезда на двенадцати дубах.
Зимними вечерами часто сидели мы с матерью вдвоём у печки. «Что шумишь, качаясь, тонкая рябина…» – пела моя мать чистым звонким серебряным голосом, или заведёт грустно-грустно: «Позарастали стёжки-дорожки там, где гуляли милого ножки». «Ему что, – прервёт вдруг мать моя песню, нахмурясь. – Разве он что-нибудь видит? Придёт со стаканами вместо глаз».
Я задумывался. Великан-отец грустно брёл по колено в море, мутном, как манная каша, а в глазах у отца по унылому пустому стакану. «Налейте, братцы, – просит отец, – иначе мне никогда это окаянное море не перейти…»
Раздавалась лихая барабанная дробь в дверь. Мать моя, накинув на голову шаль, шла открывать отцу.
Он, красный, грузный, качался в дверном проёме. Глаза как глаза: круглые, карие, весёлые.
– А, пацан! Топай сюда, конфету дам! – шарит в кармане распахнутой офицерской шинели. – Погоди, за подкладку завалилась. Вкусная! Соевый батончик. – Вытащил, даёт – винную пробку.
Мать молчит.
– Машенька! Последний раз. Клянусь. Ребята, понимаешь, в шалман затащили. Отказаться никак. Обиделись бы, понимаешь, – оправдывается отец. Шагнул к матери, пошатнулся, руку вскинул – удержаться, задел шапку со звёздочкой. Шапка упала к заснеженным сапогам. Высокий отцовский лоб-купол блестит.
– Я, Машенька, спать пойду, – пытается поднять шапку, клонится, теряя опору, сейчас рухнет на меня тёмной горой. Мать успевает подхватить его под руку.
– Медведь! Ребёнка задавишь!
Отец, комкая сапогом половик, поддерживаемый матерью, покорный, шёл в спальню. Вскоре раздавался его мужественный храп. Я боялся, как бы дом наш не развалился от того богатырского храпа. Раскатится дом по брёвнышкам, и останемся мы в чистом поле, беспомощные, и заметёт нас снег…
Утром просыпаюсь: ничего не случилось с домом. В целости он и сохранности. Это только снилось: что дома нет и кровать стоит посреди заснеженного сада, и слышно, как скрипят по саду чьи-то шаги, ближе, ближе, наклоняется над изголовьем, но не мать, а громадный чёрный медведь.
Отец тоже проснулся. Зовёт меня из-за перегородки:
– Эй, цыганёнок, сигай ко мне!
Спрыгнув с постели, бегу босиком по ледяному полу к отцу в спальню, там отец и мать спят на широкой железной кровати с блестящими шарами на спинках. Отец, сидя по-турецки, подхватывает меня, точно пушинку, помещает рядом с собой, укутывает одеялом и щёлкает по носу. Отец в белой нательной рубахе; толстая розоватая шея и грудь излучают жар. И весь он пахнет чем-то крепким и горьким.
– Маша! – кричит он зычно. – Тащи хлеб с салом. Мужики есть хотят!
Мать, уже одетая, повинуется, как это ни странно. Идет в коридор за салом. Сало это прислал в квадратном, исчерченном фиолетовыми чернилами фанерном ящике дед, живущий далеко, где-то в Карелии, тот самый, кого отец называет – батя. И отцу, и мне – каждому достаётся по увесистому куску, обсыпанному кристаллами крупной соли, положенному поверх ломтя ржаного хлеба. Эх, вкусно!
Никогда не едал ничего подобного.
Отец спускал ноги на пол. Икры полные.
В шинели, в сапогах стоял на крыльце. Намело за ночь! Брал лопату и метал но сторонам тучи пушистого, пронизанного розовыми искорками снега. День воскресный.
Сосед Павел Петрович в кожаной шайке с загнутыми вверх ушами, с хвостиками, обычно уже стоял, облокотясь на забор, покуривая, и наблюдал, как отец работает. Папироса дрожала в скрюченных, толстых, как клешни, пальцах Павла Петровича. Отец, бросив лопату, подходил к нему, и они о чем-то секретно шептались.
Их тихий разговор прерывал с крыльца голос моей матери:
– Воды принеси. Суп варить.
Колодец далеко от дома, за железной дорогой. Надо взбираться на насыпь и рельсы переходить. Мать не хочет, чтобы я с отцом шёл, поезд ещё, чего доброго, задавит. Но отец её уговорил, пообещав глядеть в оба, не спускать с меня глаз, и я иду с ним. Тащу ведро за дужку, оно волочится, оставляя на снегу волнистую борозду.
– Ничего не пойму, – изумлялся из-за забора другой сосед, мрачный, небритый, с выпученными глазами, в ватнике, – кто кого тащит: сынок твой – ведро, или ведро сынка твоего за водой по пяткам гонит?
– А, Митрич! – говорит отец. – Будь здрав! Как у тебя обстановка?
– Зайди на минутку, Александр Викторович, – отвечает Митрич.
– Ты тут постой, – говорит мне отец. – Я сейчас.
Вскоре отец выходил от Митрича, весёлый, откусывая на ходу солёный огурец. Давал мне. Огурец сочный, пахнет укропом, хрустит, как снег под ногами.
Колодец старый, из брёвен, в нём темно.
– А кто там живёт? – спрашиваю я.
– Лягухи. Кто ж ещё, – охотно отвечает отец. – Большие, зелёные, в пупырышках. Вот как огурец, который ты слопал.
Идём обратно. Отец важно несёт полные вёдра, заплескивая полы шинели, и они делаются льдистые.
Опять отец заглянул на минутку к Митричу. Вернулся на этот раз без огурца, румяный.
Переступив порог кухни, отец ставит вёдра на лавку.
– Что так долго? – укоряет мать. – Мяса ни грамма. Постный сварю.
Наклонилась – черпнуть из ведра, уронила ковш:
– Ай! Кто там прыгает? Ты же лягушку в ведре принёс!
Отец, ничуть не смутясь, смотрит:
– Иди ж ты! Живая! Во как сигает! Ну что ты кричишь, – говорит отец спокойно. – И лягушонок-то совсем маленький. Вот тебе и мясо в суп…
Рос я в Дудергофе закалённый. Позвали меня друзья на пруд – показать щуку в проруби. Плавает, зубастая, как пила. Я пошёл. Щуки что-то не видно, В глубине прячется. Наклонился над прорубью, сзади толкнули и – бултых. Окунулся с головой. Вылез, шапку выжимаю. Все смеются, и мне смешно. Идти домой переодеваться – не хочется. Ещё час так, в мокрой одежде разгуливал. Сказали матери. Прибежала, схватив за руку, потащила в дом. Раздела, натёрла водкой, уложила в постель. Напоила чаем с малиной. Утром – хоть бы чихнул. Ни насморка, ничего. Как с гуся.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.