Текст книги "С птицей на голове (сборник)"
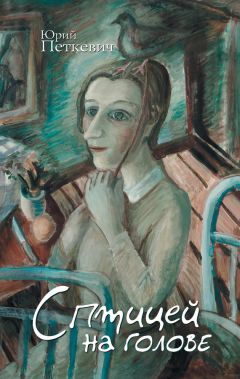
Автор книги: Юрий Петкевич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
А между тем благосостояние семьи Гробовых в Октябре не было таким, как ранее: американская страховка за сгинувшего Якова, когда началась война, перестала приходить; после победы Митрофан Афанасьевич написал в Москву о страховке, но никакого ответа не последовало, и странные предчувствия начинали отягощать старика и в конце концов поглотили его рассудок. С возрастом у Митрофана Афанасьевича стали проявляться ужасные черты его дремучих предков из Гробова, у которых из рода в род повторялись случаи, когда умирающим близким жалели еды, считая: раз те все равно умрут, так их и не следует кормить. Но в те времена предков Митрофана Афанасьевича угнетала жестокая бедность, его же самого – наследственная привычка. К этому часу здоровье Марфы Ивановны становилось неважным. Больные ноги ее давали о себе знать все сильнее, она с трудом передвигалась, и множество прочих тяжелых недугов свалилось на многопретерпевшую мать. Митрофан же Афанасьевич принялся укрывать от больной жены продукты на замки, хотя и так все в доме по давнишнему обычаю запиралось от сыновей, из которых сейчас с родителями пребывал только Ваня. Жившему отдельно Филарету приходилось каждый день навещать больную мать и кормить ее. Если же после посещения сыном матери оставались какие-нибудь продукты, Митрофан Афанасьевич забирал их и прятал под замок, и даже если Филарет уходил во время обеда, то старик не давал жене дожевать и вытаскивал куски из ее рта. Филарету поэтому приходилось сидеть при матери, покуда она все не съест; а на самого маленького сына Митрофан Афанасьевич внимания не обращал.
Наконец пришел день, когда Марфа Ивановна сама не захотела кушать, тогда Митрофан Афанасьевич схватился за голову, и вспомнил, как он в детстве любил избранницу свою, и стал засовывать жене в рот куски – те же самые, которые раньше вытаскивал.
Ваню после случившегося старший брат привел к себе в еврейский особняк, подумал и подарил мальчику двадцатипятирублевую бумажку – из тех, что лежали в платяном шкафу навалом, причем их было столько, что если шкаф открывался, то купюры вываливались, и устроил для любимого мальчика роскошный обед. В этом мрачном жилище оказалась такая же старинная немецкая мебель – как и в отеческом, и – такие же часы с боем, и – картины с русалками в позолоченных рамах; только рояль, в единственном числе доставленный Филаретом из Германии, давал Ване знать, что он не дома. Правда, давно никто не забавлялся на этом рояле, который, кажется, служил для старшего брата наподобие дорогой игрушки, сохранившейся с детства, напоминая приезд в Октябрь из Гробова. Но самое необыкновенное, чего мальчик не видел нигде, поразило его зеркалами на потолках. Изумленный Ваня, подняв голову, сидя за столом, рассматривал в зеркалах перевернутые мебель, рояль, русалок на стенах и разнообразнейшие блюда, которые постылая жена Филарета расставляла перед мальчиком. Ваня ел и с поднятой головой, с кушаньем во рту, задумывался, забывая жевать; а Филарет в конце концов напился и вдруг стал душить руками фужеры. Кровь разлилась по скатерти. Жена подбежала к Филарету и потребовала, чтобы он заплатил ей за фужеры, а тот только зубами скрежетал, так как почти все в доме было куплено на его ворованные деньги. В этот самый впечатляющий момент скандала на улице затормозила грузовая машина, из которой выпрыгнул человек с бледным как мел лицом, вбежал в дом и осторожно проговорил братьям, что их мама умирает. (Когда Митрофан Афанасьевич, оставшийся у постели жены, ужаснулся, что Марфа Ивановна кончается, он очень испугался и выбежал на улицу, где бросился к первой попавшейся машине и попросил шофера, чтобы тот позвал Филарета, которого знали все в городе.) Ваня не смог дальше кушать и выбросил еду изо рта. Филарет тотчас поспешил к умирающей матери, а мальчик остался с его постылой женой, и провел неотлучно с ней несколько дней, и спал с ней в одной постели, обнимая ее, покуда наконец в день похорон не появился Митрофан Афанасьевич и не взял сыночка с собой.
Пока они шагали по Октябрю, мальчик вспомнил про червей отца и уже во дворе ни в какую не захотел войти в дом и убежал в сад. Но когда настало время прощаться с матерью, Митрофан Афанасьевич нашел Ваню, и насильно взял за руку, и, говоря, что это совсем не страшно, ввел по крыльцу с высокими ступеньками на веранду, где стояла черная крышка гроба – как напоминание о предстоящем. Они прошли в дом, полный чужих людей, которые все знали Ваню и улыбались ему. Мальчик заглянул в самую таинственную комнату и увидел совсем не толстую, но очень вытянувшуюся, необыкновенного роста – свою маму на кушетке. Даже более: Ваня увидел не самою мать, а ее темные застывшие одежды. Рядом стоял пустой гроб на табуретках, и мужчины собирались переложить Марфу Ивановну с кушетки в гроб. Однако Митрофан Афанасьевич не заставлял маленького сына подойти поближе к матери и, видимо, удовлетворился тем, что Ваня издали посмотрел на покойницу.
Стараясь незаметно исчезнуть из дома, мальчик снова убрался в сад, но двор заполнялся черными людьми, и маленькому Гробову сделалось неудобно в саду одному, и он приблизился к людям. Тут сумрачный пьяный Филарет появился, опустив заплаканные глаза, и вдруг словно опомнился, поднял голову и внимательно посмотрел на сквозящую желтую сень осенних кленов, лип и дубов, расположенных вдали на улице вокруг полуразрушенной церкви, из которой соорудили бассейн. Филарет от водки стал слепнуть и, подойдя к Ване, пробормотал устало: «На мгновение увидел чрезвычайно отчетливо стаю ворон вдали, ветки, но моргнул – и все пропало…» – и слезы потекли по его небритым щекам… Ваня обнял его, уткнулся лицом в его большой живот и только слышал, как мужики, выносившие гроб из дома, застучали сапогами на крыльце в напряженной тишине, и – как вслед за ними – зашелестели венками. Филарет зарыдал, обнимая любимого маленького брата, но старшего сына усопшей отозвали, и Ваня очутился один в пустом дворе. В доме оставались еще люди, которым предстояло убрать комнаты и приготовить стол для поминок. Они позвали мальчика в дом, в котором, после того как вынесли покойницу, Ваня почувствовал некоторое облегчение.
3На поминках по Марфе Ивановне больше всех проливал слезы бедный Филарет, наверное, предчувствуя близкую смерть и, видимо, потеряв всякий смысл жизни. И Филарет вскоре так взялся пить, что его выгнали с работы на складе, а друзья, с которыми он вместе воровал, отвернулись от него. Постылая жена, замечая, как день за днем исчезают из дома всевозможные вещи, стала задумываться, как сохранить тающее на глазах богатство, но придумать ничего не могла, пока не вышел случай. Однажды Филарет заявился в городскую столовую, где его супруга работала. И женщина только взглянула на него, как в голове у нее блистательная просияла мысль. У Филарета были грязные штаны, и она стянула их с мужа и помыла прямо в столовой. Ожидая, покуда они высохнут, Филарет в трусах завалился спать на лавке, а хитрая жена в это время отправилась домой, наняла машину и грузчиков, и вывезла все имущество и горшок золота, и спрятала в надежном месте. После этого она поспешила к гадалке, которая ей напророчила, что муж ее убьет. Редкий человек в подобных ситуациях верит сказанному, потому что жить можно только с ожиданием лучшего, так и жена Филарета не поверила, но сильное смущение у нее в душе осталось. Вернувшись к мужу, который, ничего не подозревая, отдыхал на лавке в столовой, она разбудила его и, натянувши на него сырые брюки, отправила к той же гадалке. Филарет пошел по улице и запел веселую песню спросонку, не припоминая, когда пел в последний раз, и, видимо, у него было такое странное состояние, что прохожие, попадавшиеся ему навстречу, не то чтоб с любопытством, а скорее со страхом глядели на него. Подошедши к дому гадалки, сам Филарет сейчас вдруг почему-то испугался, но все-таки поднялся по ступенькам на крыльцо и отворил дверь… Гадалка объявила Филарету, что жена его отравит… Скучно сделалось на душе у бедняги, и ему очень сильно захотелось выпить. Вдобавок, вышедши от гадалки, он наткнулся на поджидавшую его жену, от одного вида которой ему еще более захотелось напиться. «Ну что?» – спросила супруга со скрываемым трепетом. Филарет ей только рукой махнул и поспешил скрыться с ее глаз. Бедная женщина осталась в недоумении.
Филарет же отправился неподалеку к старухе, которая гнала самогонку, и та ему в долг за рубль налила стакан вонючей жидкости и дала закусить маринованных грибов. От самогонщицы Филарет не пошел, а побежал, так как ужасно захотел спать. Но скоро так устал, что еле приплелся к своему жилищу и, обошедши пустые комнаты, подумал, что попал в чужой дом, как ноги его подкосились, и Филарет повалился на пол, и увидел себя в зеркалах на потолке, и тут же захрапел.
Стояла угрюмая пора черной поздней осени, когда на душе бывает так уныло и безотрадно. Несколько раз Филарет с невероятными усилиями освобождался от навалившегося на него какого-то жуткого храпа, а для того чтобы взглянуть на свет белый, ему приходилось пальцами раздирать слипшиеся тяжелые веки. Среди пустынных стен вдруг сделалось как-то празднично, что удивительно взволновало Филарета, и он, не узнав причины непонятного преображения в комнатах, не мог окончательно отдаться сну и, в конце концов, увидел в отраженных окнах на зеркальном потолке – как из опрокинутого серого неба возносится вверх снег и пропадает в слепящей бесконечности…
Когда же коварная жена, несколько дней дома не появлявшаяся – так как боялась, что муж ее убьет, – приблизилась к своему особняку, то оцепенела от нехорошего предчувствия, осмотрев заваленные снегом, без единого следа, двор и крыльцо, и далее – распахнутые настежь все двери. Сердце несчастной женщины заколотилось, и, пробравшись через снег в дом, она нашла давно окоченевшего мужа, и лицо у него оказалось черное, как головешка. И тогда жене Филарета разом вспомнилось немало дорогого ей и доброго, связанного с именем мужа, и слезы забрызгали у нее из глаз. Мертвеца забрали в больницу, вскрыли его и обнаружили полный желудок грибов, и врачи объявили, что он отравился, закусывая грибами. Похороны происходили в метель, и когда на кладбище открыли гроб, то черного Филарета завалило снегом. Но от порядочного мороза снег был мелкий и легкий; простившись с покойником, дунули на него, и белый пух слетел. После похорон сумрачное небо прояснилось; бредя по Октябрю, возвращающиеся с кладбища будто проснулись: и иней, и пыль снежная осыпались с деревьев, с крыш и даже рождались из воздуха – и прозрачные тени пролетали по сверкающей земле…
4После смерти Марфы Ивановны и Филарета Митрофан Афанасьевич не долго скучал и решил жениться, может быть, в преклонном возрасте уже окончательно сойдя с ума. Старик стал наряжаться, как кавалер, и заимел моду прогуливаться по Октябрю. И, стараясь обратить на себя внимание, мазал подсолнечным маслом подбородок – чтобы показать свое благосостояние. А в те времена трудно было прожить, если не украдешь: в магазинах по стенам ползали лишь красные клопы; очередь же за хлебом занимали с ночи. Для многих одеждой часто служили мешки, в которых прорезали дырки: для головы и для рук. А на гулянья девушки и женщины выходили в платьях из байкового одеяла, или из марли, что в черный цвет выкрашивали, или же в привезенных солдатами из побежденной Германии комбинациях, которым в Октябре не знали настоящего их предназначения. Когда впереди комбинации разрывались, их переворачивали – чтобы прикрыть грудь – рваньем на спину… И вскоре нашлась одна молодая особа, которая пожелала выйти замуж за Митрофана Афанасьевича.
Эта женщина оказалась необыкновенной красавицей: кто бы ни увидел ее – не мог отвести глаз. Большие ресницы ее пол-лица закрывали; брови – ровненькие; жгучие черные волосы – локонами, и в них – бумажная красная роза. Красавица как только появилась в доме у Митрофана Афанасьевича, так и запела. А пела она – так, что соседи и прохожие стали собираться под окнами и слушали, затаив дыхание. «Все, что существует на свете, – это тебе!» – провозгласил женщине Митрофан Афанасьевич. Одарив ее одеждой умершей жены, старик наряжал красавицу как куклу. Зимой, в морозы, Митрофан Афанасьевич забегал по Октябрю в одной рубашонке, доказывая невесте, какой он молодой и энергичный, но подхватил воспаление легких, и его положили в больницу, когда за всю свою долгую жизнь он ни разу не простывал и даже не имел насморка. Однако, как только к нему в палату явилась молодая невеста, Митрофану Афанасьевичу сразу же стало лучше, и вскоре они поженились, но красавица пожелала, чтобы Митрофан Афанасьевич отписал ей дом, что старик и исполнил.
Когда же наступила весна, и чем горячее становились дни и роскошнее все расцветало в природе, и, чем дальше, тем сильнее женщине надоедал немощный муж, – она пожелала себе молодого и, подсуетившись, нашла бравого кавалера, а отказываться от огромного дома, разумеется, не хотела. Тогда она привела к Митрофану Афанасьевичу собственную мать, которая с остатками давнишнего своего очарования, когда дочери не было дома, стала заигрывать со стариком. И Митрофан Афанасьевич полюбил и мать красавицы. И они с такими восторгами взялись объясняться друг другу в чувствах, обниматься и вздыхать, что Ваня в соседней комнате все слышал и не знал, куда ему деться: влюбленные до такой степени были поглощены собой, что не обращали на него внимания. Только этого и ожидала молодая прекрасная аферистка. Она внезапно возвращается с работы с несколькими подругами, и застает мать на коленях у Митрофана Афанасьевича, и устраивает скандал, после чего разводится со стариком и вскоре выходит замуж за молодого мужчину. И в результате – все они стали толочься в одном доме…
Веселье, царившее теперь в этом мрачном жилище, когда в нем чаще скучали и тосковали, ощущалось Ваней как какое-то ненастоящее, из которого никогда не родится радость – как из бумажных цветов. И дыхание разврата, казалось, поглощало солнечный свет и отравляло воздух. Даже вороны, беспрестанно кричащие и перелетающие с дерева на дерево около разрушенной церкви-бассейна, пропали; обыватели рассказывали, что они улетели на другую сторону Октября – на мясокомбинат; и тишина воцарилась вокруг фантастическая, как в мертвом городе, особенно по праздникам. Молодая красавица наконец забеременела, и выражение лица ее изменилось от проникновения печали; целыми днями Ваня с женщиной, у которой на его глазах вырастал огромный живот, бродили поодиночке по старому дому из комнаты в комнату, иногда встречаясь безмолвно, и, стараясь не смотреть друг другу в глаза, рассматривали русалок на немецких старинных картинах. Но в доме, который с каждым годом все сильнее ветшал и тускнел, столь тягостно становилось находиться – среди барской тяжелой мебели с завитками и прочими всевозможными выкрутасами, такого отвратительного для долгого взгляда мутного коричневого цвета, что выхода отсюда не было, кроме как в сад, все более и более наполняющийся печалью. А в саду Ваня и женщина гляделись в матовую черноту оставшегося непроданным одинокого полуразваленного буфета из немецкой мебели покойного Филарета и видели неясные в нем отражения лиц – и своих – и иных, но – отражения, в которых не было глаз, рта, носа – лишь расплывчатые тени или пятна посветлее – отражения не лиц, а облаков…
В это время Митрофан Афанасьевич переживал будто другую молодость и развлекался целыми днями с теперешней своей любовью. Но тут у его женщин вышла промашка: у матери красавицы-аферистки оказался муж, который не поддавался на игру жены и дочери, и когда узнал о связи дорогой супруги, то разъярился и пришел к дому соперника с ножом. Митрофан Афанасьевич закрылся в моментально опустевшем доме, а ревнивец, ожидая, когда старик выйдет из помещения, остался на улице сидеть на лавочке. К вечеру, несмотря на начавшийся дождь, собралось вокруг множество соседских детей, вернувшихся вместе с Ваней из школы. В отроческом возрасте у ребят уже появлялся интерес к смерти, но понятия, что это такое, еще не возникло, и всем им было очень интересно: как отец красавицы будет резать Ваниного отца. Но наступила темнота, вымокший до нитки ревнивец, окруженный подростками, плюнул и ушел, и Ваня видел при свете электрических фонарей, как с ножа его стекали по лезвию дождевые капли, как слезы.
У красавицы-аферистки была еще и бабушка, похоронившая давно мужа, которая жила в дряхлом домике на самой окраине Октября. И Митрофана Афанасьевича любимые женщины уговорили и – переправили к этой старушке, которую он также полюбил и поддался на уговоры безо всякого сопротивления и даже с радостью. Пришлось и Ване перебираться вместе с отцом на окраину города в чужой дом, где каждую ночь мальчику стали видеться кошмарные сны, в которых отец резал по кусочкам покойную маму. От этих снов Ваня похудел и почернел, и от них можно было бы и умереть; однажды он пожаловался на кошмары старухе. Бабушка красавицы выслушала сны и предложила Ване сходить в единственную оставшуюся в Октябре ветхую деревянную церковь при кладбище и поставить по покойной маме свечку. Мальчик выбрался в церковь и поставил свечку по маме и после того кошмарных снов, как папа режет маму, не видел более никогда… А Митрофан Афанасьевич сошел совершенно с ума, вслух размышляя над заветными мечтами, всегда ранее скрываемыми, и предрекал, что скоро вернется старое время. Красавица же аферистка с матерью надсмехались в сторонке над ним, не зная, что в прошлом он предчувствовал грядущие события; древняя старушка осчастливила Митрофана Афанасьевича на закате дней, со вниманием досмотрела его, и он у нее тихо скончался.
Как только Митрофана Афанасьевича похоронили, явились с топорами его сыновья, которые некогда украли бельгийского быка у старой Химки и которых давно никто не видел в Октябре, и стали искать золото как в отеческом доме, так и в лачужке бабушки-аферистки. Они перевернули вверх дном оба дома, но ничего не нашли и со слезами уехали из Октября, а на Ваню не обратили никакого внимания.
Глава девятая
Приехав в Гробово, Ваня, почти всю свою жизнь проведший в городе, впервые увидел осень в природе. Желтые леса под синими, необыкновенно прозрачными, без единого облачка небесами поразили его неискушенное воображение. Озимые зеленели среди чистых пашен и чем-то напоминали о той далекой весне, когда из Митрофана Афанасьевича вышли черви. Прозрачная грусть витала в окрестностях. Гробово дымилось от сжигаемых сырых куч ботвы картофеля на огородах, и этот рассеивающийся дым в осенних лучах солнца заставлял светиться сам воздух, наполненный особыми, действующими умиротворенно на душу запахами. От легкого морозца ночью и оттаявшей днем земли было чудно и легко. Ваня чуть не плакал и радовался!
…Приблизившись к лачужке на низком берегу, мальчик взволновался так, что сердце запрыгало в груди, и почувствовал себя будто во сне, когда очутился перед привязанной к стулу сидящей на солнце бабушкой. На Ваню она не обратила никакого внимания. С волос ее съехал платок, одета она была в рваную, потерявшую цвет кофту, а все остальное у нее посинело – обнаженное. От постоянного сидения у несчастной раздулся огромный зад. Под стулом стояло вонючее ведро – в сиденье вырезана оказалась дырка, через которую при Ване полилось. Мальчик протянул старухе гостинец из города – кулек винограда. Несчастная была привязана за локти к стулу и могла шевелить руками. Она взяла кулек дрожащими пальцами, и на ее лице задвигались в печали морщины. Далее Ваня вошел в ветхое, с самого начала его памяти ставшее дорогим и родным жилище. Он не ожидал кого-нибудь увидеть там, но на кровати валялся мужик в сапогах, который – только мальчик появился в доме – поднял голову, открыл мутные от пьянства глаза и сказал: «Сейчас сожгу хату: солома – в хлеву», – но сил у него не нашлось встать и пойти за соломой, и голова, что никак не могла успокоиться, упала на подушку. Ваня вышел из дома с чувством тревоги. Бабушка Химка уже съела виноград и, возможно, с бумажным кульком, так как и в руках у нее ничего не осталось и вокруг на земле не лежало, а ветра не было. Ваня закричал в ухо старухе: «Вы съели виноград?!» Она все равно не расслышала и спросила теперь у мальчика: «Вы ели Ленинград?» – видимо, что-то подумав о детях Тимофея Афанасьевича. Ваня еще закричал, узнала ли она его. Бабушка сказала, что не узнала, но подумает ночь и завтра вспомнит – и действительно, назавтра она вспомнила самого маленького сыночка Митрофана Афанасьевича и Марфы Ивановны.
Бабушка Химка глядела вдаль на дымящееся за речкой Гробово, в котором жгли костры, и морщинистое лицо ее в лучах осеннего солнца имело прекрасное и страдальческое выражение, и – мечтательное. На Ваню по-прежнему она не обращала ни малейшего внимания, будто он был не человек, а растение; он не ожидал уже никакого диалога между ними, как вдруг бабушка еще раз заговорила. Она захотела райское яблочко и показывала пальцем, не подымая руки, на противоположный берег, где среди множества садовых деревьев выделялась яблоня, увешанная таким количеством маленьких ярко-красных плодов, как ни одна другая. А Ваня не мог осмелиться ни отвязать бабушку от стула, ни отправиться на другой берег к незнакомым людям и попросить райское яблочко. Но и отказать бабушке было невозможно, и он скрылся с ее глаз.
Речка Сосна, увы, обмелела, так что почти каждый хозяин в Гробове напротив своего огорода имел переправу из нескольких бревнышек. Ваня увидел, как несколько мужиков разбирали один из мостиков, и подошел поближе. Полусгнившие бревна лежали на воде, собрав перед собой сучья, которые приплыли по воде, и прочий самый разнообразный мусор. Под мостиком застряли подохшие свинья и несколько собак, и при Ване еще одна свинья приплыла. Мальчик вспомнил речку Сосну, которая была раньше какая-то совершенно другая, и ему сделалось грустно и на душе пусто. Ваня еще вспомнил в тихих заводях серебряных рыбок, которые когда-то грелись на солнышке среди водорослей, но этих заводей теперь не приметил: все переменилось, все сделалось иное, как бы чужое, но под внешними незнакомыми очертаниями таилось нечто все так же бесконечно дорогое и, может, сейчас еще более драгоценное. Ваня стоял на берегу засоренной речки Сосны, чувствуя себя одиноким, и так сильно заскучал и засмотрелся вокруг, что не заметил, как перед ним возникла растрепанная женщина, в которой он стал узнавать полузабытые черты двоюродной сестры Кати. Оставшаяся в Гробове дочка Тимофея Афанасьевича только что по одному из мостиков перебралась через речку, направляясь домой с колхозной фермы, где работала дояркой. Катя сразу же узнала Ваню, будто ожидала каждый день, но насколько она была приветлива во время давнишнего его пребывания в Гробове, теперь глаз не смела на мальчика поднять, а если взирала, то взгляд пронизывал – ледяной. Ваня не ожидал такой встречи, ему нужно было что-то сказать, и он произнес первое, что пришло в голову, – будто хочет посмотреть на портрет Ксенофонта Афанасьевича, хранящийся – по рассказам – в отеческом его домике. Слово «отеческий» сильно задело Катю. Как Ваня узнал позднее, хозяйкой дома по-прежнему оставалась бабушка Химка и ни за что не хотела отписать дом своей внучке, боясь, что та выгонит ее из дома – подобные случаи повторялись в Гробове из поколения в поколение. А внучка приставала к старухе с этим домом каждый день, то всячески угрожая, то подлизываясь, отчаиваясь от мысли, что помимо нее существует множество наследников, которые могут приехать и занять этот дом с запахами тины и рыбы (и чувствовала – приедут), – и за это ненавидела весь белый свет. А между тем шестипалая ее мать, с которой Катя не могла ужиться, умерла, и самый большой дом в Гробове, построенный Тимофеем Афанасьевичем для многочисленных детей, пустовал сейчас и разваливался. Но все дело тут состояло – если вникнуть – в привязанности к месту, из которого начала свое происхождение душа. И даром давай этим людям хоромы, они вернулись бы на родину прадедов в низенький дряхлый домик, позеленевший от времени, который иногда во время половодья затапливало водой и который даже не ремонтировали, чтобы не нарушить ничего устоявшегося, святого и родного, как не ремонтируют природу, а только очищают ее от умершего…
Двоюродная сестра быстро шагала к заветному домику, и Ваня за ней, будто происходило обыкновенное событие, а не встреча разобщенных между собою много лет родственников. Когда они проходили мимо привязанной к стулу бабушки Химки, которая уже оказалась в тени под вербами и на которую внук ее от стыда, слабости и положения своего взглянуть не мог, Катя промолвила о несчастной, как бы оправдываясь перед мальчиком за отчаянное отношение к старухе: «Вот – прочитала Библию и тронулась, и после все время хочет уйти куда-то, спрятаться…» – будто не зная, что Ваня был самым ближайшим свидетелем бабушкиного сумасшествия, и как бы желая даже немногое, происшедшее в Гробове и связанное с именем мальчика, переиначить и забыть, внаглую подчеркивая, что здесь Ване все чужое и нет ему места.
Из дома по-прежнему раздавались храп и крики сестрицыного сожителя. Не проявляя ни капли гостеприимства, Катя указала брату в сенях на лаз в потолке и на лестницу, висящую на крюке. Ваня приставил лестницу к стене и взобрался на чердак. Там было даже довольно душно. Из двух маленьких, в разные стороны глядящих смотровых окошек, через стекла, матовые от пыли, струились слабые потоки света. Все в беспорядке, и все серое: самовары, хомуты, книги, керосиновые лампы, кувшины, на балках подвешенные торбочки и забытые пучки высохших трав – окружали мальчика. Он здесь почувствовал себя наедине с самим собой, как в лесу и как дома, и удивился, заметив еще серый французский мундир и как кокон – в паутине – головной убор из армии Наполеона, а далее – за серыми забытыми гробами, сделанными загодя для живых, что заведено было в Гробове, – увидел приставленную к крыше – обратной стороной – картину. Он взволнованно взялся за нее – на серой раме пальцы оставили драгоценные следы; когда же мальчик повернул картину в рост человека к себе, то с другой стороны она обнаружила цвет, рама заблестела – позолоченная, а на полотне проступили черты несчастного Ксенофонта Афанасьевича. Картина оказалась тяжеленная, может быть, из-за груза мертвой пыли – Ваня еле ее удерживал в руках. Перед ним на полотне, залитом солнцем из смотрового окошечка, плыли прозрачные тени от струящегося осеннего воздуха, наполненного дымом от костров, и – изредка мелькали очертания последних мух и бабочек. Картина предстала вся в черных пятнах, а светлое как будто бы выгорело на солнце или словно оказалось залито молоком. Но истинная причина этой порчи сверкала над Ваней дырками в крыше, которую проживающие в доме не собирались чинить, потому что не осознавали себя хозяевами. Ксенофонт Афанасьевич был изображен в цилиндре, с тросточкой, в роскошном костюме, в белой сорочке и при галстуке, а также в лакированных туфлях – на фоне великолепных гор, водопадов, пышной растительности; но лицо у него оставалось мужицкое и с печатью того русского страдания, какого не бывает у других народов, и – глаза с врожденной грустью. На картине на щеке Ксенофонта Афанасьевича сидела черная бабочка. Ее крылья казались пепельными: не столько по цвету, сколько по ощущению – будто они сгорели; и – дунешь на них или прикоснешься – они рассыплются, как сожженный обрывок тончайшей ткани, или бумаги, или газеты. Не подумав, мальчик взялся пальцами за сложенные вместе крылышки, но с ними ничего не случилось, и бабочка не улетела, наоборот: она так цепко оказалась соединена с картиной, что Ваня почувствовал бабочкины коготки. Ваня ощутил необыкновенную благодать от картины с бабочкой под дрожащими лучами солнца – и так обрадовался, что на душе сделалось легко и даже трепетно, и еще – догадался, что бабочка давным-давно уснула, случайно – на полотне, и что крылышки ее на самом деле, может быть, не черные, а потемнели от времени или краска их осыпалась. Юному Гробову из Октября понравилось на чердаке, и он решил здесь существовать, чтобы вкусить поэзию и красоту минувшей жизни. Но немного спустя после ощущения возвышенного ему сделалось как всегда печально, и он подумал, что жизнь – мгновенна, ведь бессмысленно взирать бесконечно на черную бабочку на картине, однако сразу же после этой мысли мальчик осознал вечную красоту. И воспринял жизнь как музыку. И тогда жизнь показалась ему прекрасной.
Стало уже смеркаться. Ваня услышал, как ввели старуху в дом и уложили на скрипящую кровать. Долго мальчик не мог уснуть, но и Катя вместе с сожителем также никак не могли успокоиться, думая, может быть, что без обеда Ваня долго не пробудет в этом доме, и бранились между собой. Но мальчик чувствовал себя в своем мире…
Посреди ночи он вдруг проснулся и спросонку сразу не мог сообразить: где он? и зачем? – очнувшись не на своей октябрьской кровати, а – неизвестно где. Он не видел совершенно никаких снов, единственно: перед самым пробуждением ощутил бесконечный, без времени, мрак. И это потрясающее «НИЧТО» на грани с реальными стенами чердака; с дырами на крыше, через которые пробивался лунный свет; с едва уловимыми глазу очертаниями самоваров, хомутов, керосиновых ламп; с сумеречным светом из окошек в звездах, а в одном окошке чернели и качались вербы – все это так подействовало на Ваню, что он почувствовал нечто подобное тому, будто родился сейчас, только вот вылез из утробы матери, сразу вот такой большой и появился, со зрелым разумом и памятью, и ужаснулся реальности, которую осознал. После мысли: откуда он взялся? – сразу Ване подумалось о собственной смерти. «Когда я умру, произойдет всего лишь обратное сегодняшнему пробуждению», – понял Ваня, и с ужасом ему представилось, как там ничего не будет, совершенно ничего, только останется бесконечная темнота. Но вот он подумал о происхождении снов и возмечтал или возжаждал Там Сна! Тут мальчик услышал в доме стоны и возглас бабушки: «Холодно!» – от которого ему сделалось жутко. И сразу же несчастный мальчик запутался в своих необычайно тонких мыслях, они перескочили одна через другую и исчезли из его напряженного сознания, и только тяжкое недоумение осталось в нем, когда что-то начинало зарождаться очень важное, но что сразу же забылось, и Ваня, как умирающий, махнул рукой, которой уже не владеет, и отдался весь смерти с облегчением, как каждый человек… Вновь бабушка в доме ужасно громко, так что и Ваня на чердаке прекрасно услышал, простонала: «Как холодно!» Она заскрипела на своей столетней кровати и еще проговорила: «Наверно, сейчас помру!» Пальцы ног и подошвы Ванины похолодели от этих слов и особенно от обыкновенного выражения их. Он через потолок почувствовал, как сестрица внизу с сожителем не спят и затаили дыхание. На мальчика также снизошло оцепенение, но иное. Еще несколько раз старуха провозглашала: «Холодно!» – но никто в доме не подошел к ней, и Ваня был не в силах. Так прошло много времени, может – половина ночи, и когда бабушка уже прямо начала призывать: «Помогите!» – он наконец спустился с чердака в сени и вбежал в хату, споткнувшись при этом обо что-то на полу. Старухи на кровати не оказалось, и, догадавшись, опустив глаза, Ваня увидел ноги бабушки. Ваня вытянул несчастную за ноги из подпечка, и можно было только догадываться: зачем бабушка залезла туда? Бедная старушка мальчика благодарила, потому что она чуть не задохнулась под печью, как в мешке, но называла внука именем сожителя сестрицы, который испускал в этот момент в постели удивительно ровное дыхание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































