Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
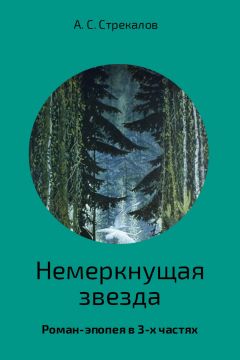
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
С упоением читая классиков русской словесности, он как будто в шкуру авторскую влезал и сам на какой-то момент становился Лермонтовым или Есениным, которых для себя особенно выделял – считал обоих неизбывной русской национальной болью, “гордо, стыдливо и благородно совершивших свой краткий путь среди деятелей русской литературы”. Окунувшись в их поэтические образы с головой, думы и настроения, в кипящий страстями писательский творческий мир, он вместе с ними будто бы на вершины Духа взбирался, до Вечности душою дотрагивался и Райских небесных кущ, до желанного всем Бессмертия.
Всё это предельно дурманило и зачаровывало его, и одновременно бодрило, окрыляло и очищало, внутренне “дезинфицировало” – такие подъёмы и прикосновения головокружительные, – к языку родному, святорусскому, незримой нитью привязывало: именно к содержанию его, не к форме. Это лишний раз подтверждало прочитанную однажды мысль, крепко-крепко с тех пор запомненную, что на земле нашей “в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”. И что большие поэты и писатели, равно как и пророки религиозные, только проводники, послушные орудия Божии. Через них и посредством их Отец-Вседержитель, Промыслитель, Создатель и Устроитель Вселенной, приносит Своё Слово Божественное, всепобеждающее, в мир. В помощь всем нам и поддержку…
Вадик и сам поэтому очень любил писать – сочинения, изложения школьные, главным образом, что задавала им на уроках Старыкина. Особенно – на свободную тему. Вот где он мог во всю ширь душевную развернуться! красоту души показать! А попутно и до райских кущ, до пресветлого Престола Небесного Отца любвеобильным сердечком своим самостоятельно уже дотронуться-дотянуться!… Он преображался в такие минуты творческие, светлел лицом и душой – и уносился мысленно высоко-высоко, не ниже самого Есенина, вероятно! А почему нет-то, почему?! Ведь и в нём кипели уже и тогда нешуточные чувства и страсти…
Учительница его, Елена Александровна, сама по натуре огненная и заводная, очень его сочинения жаловала, зачитывала их в классе не один раз, в пример назидательный ставила… Но под конец, вздыхая протяжно и тяжко, всегда добавляла с укором: «Эх, Стеблов-Стеблов! Когда же ты только грамотно писать-то научишься? Опять вон сколько ошибок орфографических поналяпал. Ужас! Ужас!… К твоей голове, фантазии буйной, природной, тебе бы ещё хоть чуточку чувства родного языка добавить – цены бы тебе не было как филологу!»
Вадик сопел и хмурился, слушая про себя такое, нервничал, огорчался, бледнел… и уж совсем раскисал и расстраивался, когда, получая сочинение на руки, видел под ним, на весь класс перед этим читанным, хорошую, а то и удовлетворительную отметку. Товарищи его школьные, те же Лапин с Макаревичем и девчонки многие, кого Старыкина никогда не хвалила, не выделяла, чьи работы вслух не зачитывала, – все они получали в итоге отметку “пять” и жили себе припеваючи. А он, её любимец и обожатель, только удовлетворительно, как последний неуч-балбес или нетяг ленивый.
Это было и обидно, и больно. Это унижало и раздражало всегда, ещё как раздражало! Расстроенного, его так и подмывало после урока подойти к несправедливой учительнице и напрямую, без экивоков и обиняков высказаться о наболевшем, откровенно объясниться с ней, общий язык найти.
«Елена Александровна! – хотелось сказать ему. – Я когда сочинение пишу – не про точки с запятыми думаю, не про частицы, суффиксы и окончания, а про то, как получше и поизящнее предложения из слов сложить, чтобы Вам их потом читать не противно было; как поточнее и повернее словом Божьим собственные мысли выразить, жар души передать, заставить Вас, читающую, сопереживать, со мною вместе радоваться и огорчаться… А если бы я только правила Ваши дурацкие держал в голове, неизвестно кем и когда придуманные, сидел бы за партой и их одни вспоминал, – то я бы ничего путного не написал – про это нечего даже и говорить! – и вы бы меня в пример перед классом не ставили!… Вам что важнее-то, в конце-то концов: форма хорошая, вызубренная, которую можно в любом учебнике почерпнуть, или же содержание, которого не в одном орфографическом словаре не выудишь?! девочки-отличницы, без единой помарки пишущие, но чью писанину бездарную, скучную, Вам в руки не хочется брать, или я, ошибающийся и безграмотный, но работы которого вы с нетерпением ждёте?! читаете потом взахлёб?!… Разберитесь Вы с этим делом вначале – пожалуйста! – перед тем как оценки-то выставлять, да меня на весь класс позорить…»
Но свои претензии и раздражение он, конечно же, оставлял при себе и вслух их Старыкиной никогда не высказывал. Рановато было ему, сопляку, такое учителю, завучу школы, в глаза говорить, норовом молодым и амбициями перед ней словно острым ножом размахивать, удальцом-героем себя выставлять: Старыкина была не из тех, кто позволял такое… И оставалось ему одно – терпеть, претензии с раздражением подальше прятать… и получать на протяжении пяти лет, что он у неё учился, за родной и любимый русский язык бесконечные четвёрки и тройки…
И с историей школьной были у него нелады – потому уже, что к истории он не относился серьёзно.
«Откуда им это известно всё, интересно, такие подробности древние и детали? – чтобы так уверенно и без запинки нам о том говорить», – всякий раз скептически думал он с ухмылкой скрытой, язвительной, слушая рассказы учительские, велеречивые, про жизнь какого-нибудь фараона египетского или римского императора; про их похождения бравые – и боевые, и любовные, – про отношение к ним политического руководства страны, аристократии, народных масс. Что кого-то и где-то там, в какой-то древней империи, всем миром любили якобы до поросячьего визга, а кого-то, наоборот, ненавидели; кому-то пели осанну чуть ли ни каждый день, а кого-то ниспровергали и хаяли, изувером называли, извергом-палачом, тираном-диктатором или ещё покрепче.
«…Ну, допустим, – рассуждал он мысленно сам с собой прямо во время урока, – остались с того стародавнего времени дощечки глиняные, папирусы… или даже какие-то записи исторические, субъективно-пристрастные, хроники, – ну и что из того? Это же крохи малые со съеденного временем “пирога”, черепки невзрачные от величественного прежде сосуда. И каким это образом по оставшимся крохам и черепкам можно историю целого народа реконструировать и воссоздать, контуры канувшей в Лету эпохи? Да ещё и в мельчайших подробностях и деталях – с психологическими и политическими портретами и диалогами, настроением, мыслями, чувствами отдельных исторических персонажей и их окружения? с “точными” датами даже, календарём, который за тысячи лет по сто-двести раз уж в каждой стране сменился? Непонятно и неправдоподобно это, уж извините! Больше на сказку смахивает, или же анекдот… Да и не бывает так никогда, чтобы кого-то любили буквально все, а кого-то буквально все ненавидели; у какого-то правителя было всё, всегда и всем хорошо, а у какого-то, наоборот, – всё, всегда и всем плохо. И один вдруг “великим” и “добрым” у летописцев прослыл. Другой же – “ничтожным”, “злым” и “кровавым”… В реальной истории, как и в жизни, такого и близко нет – или чёрное и ужасное идёт сплошняком, или одно только белое и пушистое повсюду. Это исторический идиотизм или же дальтонизм в чистом виде».
«…Да и какое нам, русским, дело, по чести сказать, до всех этих фараонов и императоров римских? – правду ли про них написали, неправду ли? – итожил он свои размышления. – Чего мы должны копаться в этом чужом дерьме? для себя там чего-то искать поучительного? Нам это и неважно совсем, и абсолютно не интересно. Пусть про них египтяне с итальяшками читают да восхищаются, черпают мудрость там. Да ещё зубрилки-отличники наши, которым всё равно что читать и зубрить: лишь бы хвалили да высокие баллы ставили. А мне эта псевдонаучная белиберда без надобности».
Вадик поэтому учителей особенно-то и не слушал, и школьные учебники не читал, не зубрил исторический материал как другие, которым пятёрки были нужны позарез: оберегал свою душу и голову от исторических анекдотов и штампов. Он даже и родную русскую историю, что преподавали им на уроках, частенько мимо ушей пропускал – всё по тому же скептическому к ней отношению. Не нравилось ему уже в школе слушать педагогические похабные байки про каких-то греков с варягами, будто бы русских людей обустроивших и верить в Бога заставивших, про немцев с французами, русских будто бы обучивших. Всё это его коробило и бесило как от плевка в лицо или насмешки наглой, дерзкого окрика, по самолюбию больно било, чувству национальной гордости и достоинства. Это было полнейшим вздором, наконец, чистой воды неправдой (повзрослев, поумнев и самообразовавшись, он это ясно понял), заказом политическим, грубым, наспех состряпанным в петровские смутные времена немцами Байером, Миллером и Шлёцером (от которого большой патриот и умница Ломоносов, кстати сказать, чуть ли не на стенку лез, доказывая обратное). А неправду и “заказы” всякие по оболваниванию народов Вадик на дух не переносил: у него был против испытанных методов Князя мира сего иммунитет врождённый…
Историю своей страны, – для справки, – реальную её историю, не выдуманную, не сказочную, он серьёзно взялся изучать поэтому очень и очень поздно – когда вырос, выучился, высшее образование получил и жизненного опыта набрался, с которым к нему неизбежно пришло и духовное зрение, или “третий глаз”. А главное – книжками редкими когда, наконец, обзавёлся, которых ранее не имел, которые от народа прячут. Изучал её по русским сказкам и былинам сначала (“былина – это история, рассказанная самим народом”, – утверждал академик Б.Д.Греков), по мифам древних славян, Андреем Кайсаровым собранным.
Когда же в “перестроечную” кризисную эпоху рухнул Советский Союз, а вместе с ним – и цензура советская под названием Агитпроп, он постигал историю России по вышедшей из подполья “Велесовой книге” – этой Библии русского народа, обязанной быть настольной у каждого, трудам Данилевского, Леонтьева, Солоневича, Башилова, Ильина, Иванова, Вернадского, Иловайского, Грекова, Рыбакова, Седова, Кожинова, Гобарева, Бегунова, Большакова, Асова. По работам тех мудрых и очень мужественных людей, если коротко, кто писали свои книжки великие “в стол” – для души. А лучше сказать: для Бога! – никого не боясь и не требуя за свою работу платы…
Итак, в школе наш герой историю не любил – и всё тут, не относился к ней сколько-нибудь серьёзно, считая её пустозвонством и фанфаронством чистой воды, время-убийственной говорильней. К немалому своему удивлению, он видел, что и администрация школьная этот предмет не особенно жалует, и назначает преподавать его, будто в насмешку, Бог знает кого – людей случайных, глупых, залётных. То какого-нибудь военного бывшего пригласит с медной мордой, кому дома на пенсии сидеть было скучно, у кого здоровья ещё было вагон; то чиновника проворовавшегося, с работы уволенного, устроит, чтобы стаж тому сохранить, помочь время убить, отсидеться; а то и вовсе бухгалтера-счетовода косноязычного в класс приведёт, у кого ни памяти, ни мозгов сроду не было, кто уроки поэтому прямо по учебнику шпарил, держа его, не стесняясь, перед собой, ну и перед вздёрнутыми ребячьими носами естественно. Дипломированных профессиональных историков в четвёртой школе можно было по пальцам одной руки перечесть; все остальные же появлялись и исчезали как привидения.
Только пение, на памяти Вадика, влачило такое же жалкое существование, только преподавателями-музыкантами завучи дыры в расписании как тряпками грязными затыкали. И это у них-то, в их элитной городской школе! А что же творилось в других?!…
Гуманитария, таким образом, если коротко всё ещё раз суммировать и обобщить, доставляла школьнику Стеблову одни лишь сплошные расстройства… и вопросы задавала из урока в урок, на которые он не получал ответов. Логики, во всяком случае, там не было никакой, а были одна сплошная зубрёжка и лицемерие…
20
Математика – другое дело! Математика соотносится с гуманитарией, как небо соотносится с землёй. Так школьнику Стеблову казалось. Здесь, был абсолютно уверен он, словоблудия с лицемерием днём с огнём не найдёшь; здесь всё логически безупречно и обосновано, незыблемыми законами-теоремами связано между собой от первого и до последнего шага, что надёжно защищают сию глубокоуважаемую науку от хвастунов-пустозвонов и случайных людей: дебилов, невежд и профанов. В математике обязательно нужен здравый аналитический ум, умеющий комбинировать и обобщать, абстрактно и широко мыслить, выводы делать верные, обоснованные, опираясь на прошлое знание, на теории, что изобрели до тебя. Поэтому зубрёжка здесь ни к чему, она здесь совсем не подмога!
В математике, зная азы, которым уже две с половиной тысячи лет от роду, можно вывести – по ходу дела как по цепочке волшебной пройдясь по всем её ступеням развития, всем векам, всем мукам и радостям человеческим! – любую, даже самую современную, формулу, которые не обязательно поэтому зубрить и запоминать. Зачем?! Пойми азы, уясни их себе твёрдо – и ты становишься всеведущ и всемогущ. Потому что тебе будут доступны тогда любые вершины этой славной древней науки, даже самые тонкие и головокружительные, – доступны ныне, присно и во веки веков! В этом и заключается главная суть и главная прелесть всей мировой математики…
Азы Вадик знал, понимал их достаточно ясно – те, во всяком случае, что им преподавали в школе. Потому-то и выделял математику более других предметов и никогда не опускался по ней ниже хороших отметок. Почти все задачи, что предлагала учительница, он решал быстро и уверенно, с твёрдым знанием дела, не напрягаясь и не перетруждаясь по ходу решения никогда. А не выходили у него только те из них – так называемые задачи повышенной трудности, звездочками в учебниках отмеченные, – которые нельзя было решить сходу, в один присест, над которыми нужно было посидеть немного – подумать. Они и не выходили именно потому, что сидеть и думать ученик средних классов Стеблов не желал не под каким видом, потому что пятёрка в дневнике и журнале была смехотворной, ничтожной наградой для него за потраченное время и силы.
«Чего мне мучиться-то над этими задачами, голову напрасно ломать? – оправдывал он всегда своё упорное нежелание напрягаться. – Я – не отличник: пятёрки мне не нужны. Вот отличники пусть и пыхтят: им, зубрилкам, положено…»
Теперь же было другое дело. Теперь награда была уж больно заманчивая: Москва, Университет, заочная школа математическая. А это уже иной сорт, как говорится, иной масштаб, иное – высшее – измерение. Тут было за что попотеть, за что посидеть-побороться!
Университет не отпускал его с первого дня, с первого взгляда даже, как магнитом притягивал и завораживал; не отпускали и задачи с плаката. Вадик никогда не видел ещё таких умных и интересных, крайне-сложных задач: учительница им таких никогда не давала… Ну ладно бы там геометрия или алгебра кочевряжились и упирались изо всех сил – предметы, которые они совсем недавно начали проходить и даже и половину школьного курса ещё как следует не освоили. Но ведь тут-то даже и “презренная” арифметика, которую семиклассник Стеблов, казалось бы, “всю давным-давно превзошёл и познал” ещё в младших классах, – и та показывала ему свои острые столичные зубки…
Три задачи предлагались семиклассникам по арифметике: под номером три, пять и одиннадцать.
“Какие две цифры нужно поставить на место звёздочек, – гласило условие первой арифметической задачи, стоявшей в списке под номером три, – чтобы пятизначное число 517** делилось на 6, на 7 и на 9?”
Прочитавший условие Вадик, оставшийся в квартире один, замер тогда, засопел, задумался – на секунду! – и потом наугад с жаром кинулся подбирать цифры вместо звёздочек с таким расчётом, чтобы полученное пятизначное число разделилось сначала хотя бы на 6… Это он сделал быстро и легко, без особых со своей стороны усилий, – но его число при этом не желало делиться ни на 7, ни на 9… Потом он по отдельности и также быстро нашёл делимое и для 7 и для 9. Но вот единого числа для трёх означенных в условии цифр он с наскока путём подбора найти не смог, как ни пытался…
И опять замер Вадик над московским плакатом, над премудрыми задачами из Москвы, опять засопел и задумался – уже надолго, – натолкнувшись на первое серьёзное препятствие, которое, помнится, даже чуть-чуть испугало его, посеяло лёгкую панику.
«Вручную тут замучаешься подбирать делимое даже и для двух цифр, не говоря уже про три, – мысленно констатировал он пренеприятнейший для себя факт. – Нет, тут нужно придумать, наверное, что-то другое, какой-то хитрый алгоритм изобрести…»
Но другое не придумывалось сразу, даже и близко не шло на ум, – и не привыкший совершать над собой умственных усилий Стеблов механически перевёл тогда взгляд на задачу, стоявшую в списке под номером пять, над нею навис коршуном.
А та на поверку оказалась ещё даже более каверзной и неподъёмной, чем третья: в условии её давалось два сложных числа, две дроби, в числителе и знаменателе которых стояли комбинации двузначных чисел, каждое из которых было возведено в такие же двузначные степени. Поступающим предлагалось определить, какое из двух дробей больше.
«…Если их вручную начать возводить многократным последовательным умножением, – как-то сразу подумал Вадик о двузначных степенях в каждой дроби, – а потом ещё и делить друг на дружку, да вычитать – жизни не хватит…»
Даже и не пытаясь затевать столь безнадёжного дела, доступного разве что ЭВМ, он перевёл тогда взгляд на одиннадцатую по списку задачу, которая оказалась не менее трудной и непонятной, чем две предыдущие, под номерами три и пять.
“Придумайте четыре тройки целых неотрицательных чисел такие, – говорилось в условии, – чтобы каждое число от 1 до 81 можно было представить в виде суммы четырёх чисел – по одному из каждой тройки…”
Дочитавший до конца условие и совсем ничего уже не понявший из сказанного, Стеблов растерялся как первоклашка в кабинете директора, обмяк – и почувствовал тут же, как жаром вспыхнуло его лицо, обильно наливаясь кровью, и вслед за этим на лице выступил пот прозрачными тёплыми бусинками. И эту задачу, к стыду своему, он не знал совсем как решать: он даже не понял как следует, что от него требуется!
Тогда он, разнервничавшийся, вернулся опять к третьей по списку задаче и минут пятнадцать-двадцать безуспешно провозился с ней, поискал число пятизначное; потом перешёл на задачу под номером пять; потом перепрыгнул на одиннадцатую – и всё без толку. Результат всех этих метаний судорожных был один и тот же – нулевой: Стеблов тыкался об условия точно так же, как котёнок голодный, слепой тыкается носом о стену… Ещё через полчаса, обессиленный бесплодными поисками, он положил авторучку на стол и, зло плакат от себя отодвинув, расстроено на стуле выпрямился, выдохнул протяжно и тяжело; после чего, отчаянно тряхнув головой, уставился красными как у рака глазищами в окно, в дуб огромный, многовековой, царственно раскинувшийся в отдалении.
Самолюбие его было уязвлено в высшей степени, унижено и посрамлено! Впервые в жизни он по-крупному расстроился и засомневался в себе, чего прежде с ним ни разу не происходило – ни в спорте, ни в средней школе, нигде. А теперь он сам себя вдруг ничтожным, глупеньким, маленьким человеком почувствовал, ничего ещё толком не знающим, как оказалось, ничего не умеющим! Стыдоба! Даже и арифметики, как, опять-таки, только что выяснилось, он совсем не знал. А ведь он учился уже в седьмом классе, как ни крути, и было ему на тот момент без малого четырнадцать лет…
Машинально разглядывая за окном очертания старого дуба, который рос-красовался уже столько лет и на который вся их семья изо дня в день любовалась, он почему-то вспомнил Серёжкиного брата Андрея, чьим плакатом пользовался. Вспомнил, что тот полгода уже как в этой школе учился и в ус не дул.
«Значит, он решил в том году все задачи… или почти все, – с грустью нешуточной подумал Вадик, забывший Серёжкин рассказ про учительницу математики из восьмого “А”, что силком год назад своих учеников в ВЗМШ запихивала. – Он смог решить все, а я, дурачок бездарный, не могу решить ни одной. Обидно!…»
И так ему стыдно сделалось вдруг за себя и горько одновременно – хоть плач! – как давно уже стыдно и горько не было…
– Да-а-а, ёлки-палки, дела! Дальше ехать некуда! – посрамлённый и до предела униженный, обречено и тяжело вздохнул он после некоторого над собой раздумья, взглянув при этом ещё разок на чёрный университетский профиль, исполином красовавшийся в самом верху плакатного лощёного листа; взглянул – и пуще прежнего ощутил в душе глубочайшее к Университету почтение!…
Была в том списке задача, которая поразила Вадика более всего в то утро – куда более даже, чем три нерешённые задачи по арифметике. Он даже не знал на первых порах, до беседы с учительницей, к какому разделу ту задачу и отнести, потому что в школе им ничего подобного вообще никогда не предлагали.
“Один из пяти братьев разбил окно, – гласило начало задачи, и далее шла подробная расшифровка показаний, данных братьями-разбойниками их отцу. – Андрей сказал: “Это или Витя, или Толя”. Витя сказал: “Это сделал не я и не Юра”. Толя сказал: “Вы оба говорите неправду”. Дима сказал: “Нет, один из них сказал правду, а другой – нет”. Юра сказал: “Нет, Дима, ты не прав”…”
Отец братьев, по условию, был уверен, что не менее трёх его сыновей сказали правду. И требовалось определить, исходя из этого, виновника происшествия, то есть выяснить: кто из пяти братьев разбил окно…
Задача эта удерживала Вадика подле себя целых два часа – без перерыва, – срок небывалый для школьника Стеблова, для его волевого усилия над собой. Никогда ещё он не корпел за письменным столом так непозволительно долго, никогда прежде не платил математике такую богатую интеллектуально-временную дань!
Он исписал половину тетради, ища виновника-хулигана, и всякий раз у него получались разные ответы… Но такого быть не могло – Стеблов это понимал прекрасно! Поэтому раз за разом, увлечённый и раззадоренный, он начинал всё сначала, стараясь найти такой способ решения, который приводил бы его всегда к одному-единственному результату. И делал это до тех пор, пока из сил не выбился, и голова его кучерявая не перегрелась и не закружилась, не утратила способность вообще что-либо соображать…
– Ладно, хватит на сегодня! шабаш! – вслух сказал он тогда, как скомандовал, обеими руками нервно отодвигая от себя плакат с тетрадкой и решительно поднимаясь из-за стола, энергично разминая затёкшие ноги и плечи. – Нужно пойти погулять немного, передохнуть… А то время – двенадцать, а я ещё на улицу не выходил: всё дома сижу – парюсь.
Сказав-скомандовав так, по квартире пустой пройдясь взад-вперёд пару раз медленным шагом, он с грустью посмотрел на свой загрязнившийся гипс, на торчащие из-под него пальцы – и сильно пожалел опять, что связался с хоккеем. Потому что испортил ему хоккей всю тогдашнюю зиму, все планы нарушил и поломал, процессы и привычки жизненные…
Он здорово огорчился, да! Но не сломался, не скис после этого – после первого своего “кавалерийского” и по всем статьям неудачного наскока на присланные из Москвы задачи, – не сдался, не плюнул на них. Погуляв какое-то время по улице, морозным воздухом подышав и остудив голову, задумчивый, задетый за живое Вадик быстро вернулся домой – к поджидавшему его плакату. Его он сознательно не стал убирать – оставил на столе раскрытым. И когда вернулся, сразу же подсел к нему и просидел над плакатом, в итоге, целый месяц – вплоть до первого марта – дня, когда приёмная комиссия Всесоюзной заочной математической школы заканчивала в тот год принимать от школьников европейской части страны решения конкурсных задач. В это судьбоносное время внутри него незаметно как-то, словно по волшебству, вспыхнул крошечный огонёк – маленький такой, чуть дрожащий, но удивительно яркий и спорый! – которому очень скоро суждено будет запалить душу Вадика тем спасительным горним огнём, которого так ждала, о котором всё время молила Бога неутешная мать его! – огнём, который один только человека красит и возвышает, облагораживает, одухотворяет, с небом роднит; делает его, слабого и тщедушного от рождения, великаном земным и, одновременно, безропотным верным рабом, преданнейшим и покорнейшим слугою Божиим!…
21
В понедельник учительница математики седьмого “А”, где учился Стеблов, едва начав урок, спросила своих учеников про объявление, висевшее возле учительской: все ли прочитали его и собирается ли кто из класса поступать в заочную при МГУ школу… В аудитории, как во время контрольной, установилась полная тишина. Все почему-то замерли и притихли, словно испугались чего-то.
–…Ну что? – удивилась учительница. – Неужели ж никто не хочет попробовать свои силы?!… Да-а-а! Дела-а-а! В такую школу вас приглашают: в Москве, при Университете! – а вы!
Лицо её в тот момент выразило крайнюю степень разочарования вперемешку с брезгливостью.
–…Я хочу, – первой нарушила молчание Чаплыгина Ольга, лучшая ученица класса с первого дня и большая-пребольшая умница, вполне оправдывавшая свою знаменитую фамилию, их неизменный комсорг, а до этого – председатель отряда; девочка, которой на удивление легко давались все, без исключения, предметы и которая заслуженно претендовала в будущем на золотую школьную медаль.
За ней, как по команде, дружно стали поднимать руки другие девочки-отличницы, компанию которым составил и Вовка Лапин, до восьмого класса включительно также не имевший четвёрок в дневнике, у которого, к тому же, отец слыл большим математиком.
Лицо учительницы просияло от такого количества поднятых рук: она явно не ожидала увидеть в классе столько поклонников своего предмета…
Вадик Стеблов, смущаясь и краснея, поднял руку последним.
– И Стеблов решил приобщиться к математике?! – удивилась учительница. – Надо же! Не ожидала… Ну что ж, хорошо, когда люди сами к знаниям тянутся. Глядишь, – лукаво улыбнулась она, с недоверием посмотрев на баловного и вертлявого ученика, к которому никогда не относилась серьёзно, – может и впрямь увлечёшься.
– А вы нам будете помогать? – обратились к учительнице поднявшие руки девочки. – А то мы без вас не справимся: там такие сложные задачи!
– Нет уж, увольте! – последовал решительный и твёрдый ответ.– Помогать я никому не стану.
– Почему-у-у?! – жеманно закапризничали одноклассницы Стеблова, начав было уговаривать свою математичку и, одновременно, классную руководительницу, которая уже третий год была им в школе и за мамку, и за няньку, и за преподавательницу.
Но та, на уроках и в жизни мягкая и податливая, была на этот раз непреклонна.
– Потому что я не хочу повторять ошибок других учителей, – ответила она, как отрезала. – В восьмом “А” классе в прошлом году учительница весь месяц ночей не спала – решала им всем задачи; всю голову себе сломала, бедная, здоровья сколько потратила и всего остального; говорила нам, что поседела даже из-за этих задач, – а что в итоге?!… Половина класса её в ВЗМШ поступило, а учиться теперь там никто не хочет. Потому что многие не очень-то и хотели туда поступать!… Я по её стопам не пойду: силком в эту школу запихивать никого не стану, – чтобы потом перед администрацией пощеголять липовыми успехами… И предупреждаю всех, заранее предупреждаю, что учиться там тяжело: каждый месяц вам нужно будет самостоятельно осваивать присылаемый теоретический материал, непростой как правило, потом решать по нему контрольные, отсылать их на проверку в Москву, плохие контрольные – переделывать… И это всё – заметьте себе! – в свободное от школьных занятий и домашних заданий время, которое вы будете отнимать от отдыха вашего, сна… Поступившим туда я никаких поблажек делать не буду, естественно, наоборот, – буду ещё строже спрашивать и проверять, ещё дотошнее придираться. Поэтому – говорю ещё раз – взвесьте всё, подумайте хорошенько: нужна ли кому из вас такая канитель, такой воз на себя взваливать, – а уж только потом беритесь за задачи. Задачи решить – дело десятое; первое же, главное, дело – понять: нужно ли их вообще решать, силы, здоровье на них тратить… А если уж кто действительно надумал судьбу с математикой связать, кто всерьёз загорелся ею, – закончила учительница свою проповедь, – тому, я в этом твёрдо убеждена, помощь моя не потребуется: он сам всё решит и сам благополучно поступит; и учиться будет потом с удовольствием, математические премудрости самостоятельно постигать…
Последние слова учительские, от чистого сердца сказанные, от души, крепко тогда запомнились Вадику, созвучным эхом отозвались в нём и полным согласием. Она была права, безусловно права, эта пожилая уже, повидавшая виды женщина: нужно решать самому и поступать самому. А иначе – на кой ляд всё это?
Намерен ли он в будущем связать свою судьбу с математикой? – Вадик тогда не знал, да и не мог знать: уж слишком он был ещё мал и неопытен, слишком разбрасывался и распылялся, увлекаясь в жизни лишь внешней, материальной её стороной. Но Москвой он загорелся – и загорелся всерьёз! Вот что было правдой на тот момент, единственной и неоспоримой, которая не подвергалась сомнению.
Москва! – мать городов русских! России древнее святилище и алтарь, и, одновременно, её духовный, культурный, административный, хозяйственно-финансовый и деловой центр! стойкости, веры и мужества неувядающий и незыблемый эталон! символ всех самых громких и самых великих побед и свершений! Москва для Стеблова, в тридцати километрах от Куликова поля родившегося, что навечно и кровно связано с московским Великим князем Дмитрием Донским, была высока и священна всегда, неизменно повергала в трепет его, в восторг неизъяснимо-сладостный и мистический! Всё самое лучшее и значимое, самое стоящее и передовое, считали люди, с рождения окружавшие Вадика, не в Ленинграде и Киеве находилось, а именно в Москве – святом русском городе сказочной красоты, являющимся Сердцем и Мозгом России, её Душою великой, Совестью неизбывной – то есть для нас, для русских, являющимся абсолютно и безоговорочно всем! В Москве были Кремль, Центральный Комитет партии и правительство, министерства и ведомства, и комитеты, которым нет числа. А ещё – больницы самые лучшие, высококачественные, передовые научно-исследовательские и образовательные институты, огромные стадионы и манежи, музеи, театры и кинотеатры, научные и культурные центры и издательства. Там – внушалось ему воспитателями и учителями, родственниками и родителями, в голову вдалбливалось без конца, – громко бьётся пульс всей нашей необъятной страны, вершится ежедневно и ежечасно национальная и мировая политика; там культура и наука кипят и пенятся через край; там находятся лучшие в СССР библиотеки и книгохранилища!!! Все по-настоящему умные и достойные люди, говорили ему, только и исключительно там работают и живут. И жизнь настоящая, головокружительная только там происходит!!!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































