Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
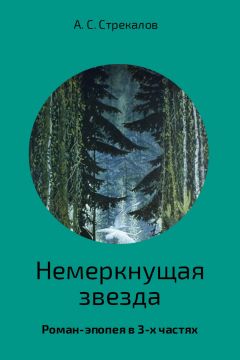
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
И увидел он, к большой математике и науке в некотором роде причастный, научившийся хорошо различать уже там “золото” и “изумруды” диковинные от элементарного и никому не нужного хлама, которого, как оказалось, в науке – горы! – так вот одну лишь гордыню он в пособиях новых увидел, желание удивить, перегнать, перещеголять-переплюнуть прежних советских авторов… А вот искренности было мало: желания научить, образовать, приоткрыть, по-настоящему просветить и приблизить… Университетские курсы, увидел он, с которых те пособия и передирались, были куда доходчивее и понятнее, как ни странно, потому что писались предельно добросовестными людьми; и систему в себе содержали, которая в новых школьных программах напрочь отсутствовала… {2}
4
Интернат колмогоровский хотя и назывался физико-математическим – главнейшее и почётнейшее место в нём, вне всякого сомнения, занимала математика. Предмет этот и преподавался вдвое, а то и втрое чаще остальных, и учителей по нему работало несравнимо больше, и даже оценки, получаемые воспитанниками по этой дисциплине, строго копировались и тиражировались потом другими преподавателями, игравшими в спецшколе вместе со своими предметами сугубо декоративную роль.
Три лекции академика-основателя, прочитанные в сентябре и посвящённые началам анализа, элементам высшей алгебры и геометрии, как бы задали направление, или очертили контуры всей будущей образовательной программы девятиклассников. Именно эти три дисциплины, метода преподавания которых была скопирована с университетской, и сделались в дальнейшем основными объектами изучения для новобранцев школы, притянув к себе целиком всё их внимание детское, время и силы. Математика же элементарная, которую в это время в обязательном порядке штудировала вся страна, наоборот, преподавалась в интернате только раз в неделю, преподавалась поверхностно, “на бегу”, с плохо скрываемым презрением. И посвящался ей, основоположнице, всего-то один-единственный урок, проводившийся в последний, самый тяжёлый день – в субботу, когда у основной массы воспитанников из-за накопившейся усталости к учёбе уже всякий интерес пропадал.
Посчитал, наверное, Андрей Николаевич со своей академической высоты (а, может, кто из его окружения, кто эту школу реально и создавал по его приказу), что смышлёные и даровитые провинциалы, в Москву по конкурсу попадавшие, уж такую-то “мелочь”, как математику постоянных величин, обязаны были постигнуть и освоить самостоятельно – при минимальном преподавательском участии. И что даже и делать это они должны были в свободное от плановых уроков время: точно так же, допустим, как умывались все они перед сном, зубы чистили. Так низко оценивал отец-основатель, а за ним – и все преподаватели интернатовские, все завучи во главе с директором существовавшую тогда в стране школьную среднеобразовательную программу, такое пренебрежение выказывали ей – каждый на своём уровне…
Далее скажем, что математика в интернате преподавалась через день три раза в неделю, по четыре, по пять уроков одновременно; по три преподавателя-математика были прикреплены к каждому классу, которые и отвечали фактически за данный класс, за его успеваемость и дисциплину. Втроём они приходили и вели занятия, поочерёдно сменяя друг друга, втроём оценивали потом способности и знания каждого вверенного им ученика, выставляли ему два раза в год – зимой и весной – коллективную оценку… Они же обязаны были, согласно уставу, и воспитывать учеников в случае надобности: журить их, расшалившихся и разболтавшихся, к учёбе вдруг охладевших, направлять на путь истинный, наказывать плохими отметками… и даже исключать и домой отправлять, если дело вдруг принимало совсем уж безнадёжный характер. Но на такие крайности чрезвычайные прилежные и хорошо воспитанные дети редко толкали своих московских учителей, проблем и болей головных им не доставляли.
Ещё здесь необходимо сказать, предваряя дальнейшее повествование, что в математические дни никаких других предметов, кроме физкультуры, у интернатовцев не бывало. Все они, предметы, сознательно разбрасывались администрацией по оставшимся трём учебным дням, которые считались у учеников спецшколы, за исключением, может быть, дня, когда преподавалась физика, временем расслабления и отдыха.
Такие были заведены в интернате порядки, такая традиция существовала в нём, – и выдерживалась она, соблюдалась с первого дня всеми неукоснительно…
В 9-м классе “Б”, в котором довелось учиться Стеблову, математику преподавали три человека: Дмитрий Дмитриевич Гордиевский (или – Дима, как любил представляться он сам и как, ввиду этого, называли его коллеги-преподаватели, а за ними – и ученики), Мишулин Вячеслав Иванович (Славик, как по молодости лет звал Мишулина весь интернат) и Андрей Александрович Веселов – известный в школе потешник и балагур, с успехом оправдывавший свою фамилию, к которому все с почтением всегда обращались: «Андрей Александрович!». Потому что он был самым старшим по возрасту, самым важным среди троих – и самым среди них хитреньким. Хитрость его заключалась в том уже, что умел он от работы ловко отлынивать, с успехом перекладывать её на других – на плечи товарищей по ремеслу; умел появляться в интернате один раз в неделю на пару-тройку часов и не испытывать при этом ни малейших угрызений совести. Да ещё и зарплату получать наравне со всеми. Что тоже считал нормальным.
Товарищи покорно терпели такие его чудачества, исправно ишачили за него и не роптали вслух. Во всяком случае – при детях. Чувствовалось, что оба они определённо побаивались Веселова, который, по слухам, с Колмогоровым был накоротке, по каким-то делам с ним часто и достаточно тесно общался. Ну и использовал ту “высочайшую” близость для себя самым беззастенчивым образом…
Поскольку математика в интернате была дисциплиной привилегированной и приоритетной, как уже говорилось, затенявшей и подминавшей под себя все остальные предметы, и поскольку преподаватели оной вершили в новой школе Вадика фактически все дела, не считая хозяйственно-бытовых, в которых хозяйничали воспитатели, – то нет у автора ни малейшей возможности пройти просто так мимо каждого из них, не уделив московским педагогам-наставникам Стеблова заострённого внимания. Это будет ему и легко и приятно сделать – в удовольствие даже. Уже потому, хотя бы, что личностями все трое являлись замечательнейшими – безо всякого ёрничества и преувеличения с авторской стороны, – были из той когорты людей, каких ещё походить-поискать надобно.
Начать же сие описание необходимо, безусловно, с тех, кто регулярно – изо дня в день, из месяца в месяц – выносил на своих плечах всю тяжесть преподавательской работы: с Гордиевского Дмитрия и товарища его младшего, Мишулина Вячеслава, с Димы и Славика – как запросто называли их в классе ученики. Так их и мы называть станем.
Так вот, Гордиевский к моменту поступления в интернат Стеблова проработал в нём уже 8 лет – считался среди коллег-преподавателей старожилом. Было ему тогда, как и Христу, 33 года. Но выглядел он старше. Хотя подчёркнуто-либеральным одеянием своим и длинными, до плеч, волосами старался всё время казаться молодым, этаким бесшабашным вечным студентом – как Петя Трофимов у Чехова. Вставные металлические зубы, однако ж, и обильные морщины на лице и шее никак не позволяли этого сделать, увы, беспощадно руша и сводя на нет все его каждодневные нешуточные старания и ухищрения.
Когда-то давным-давно, когда был он по-настоящему молод и свеж, закончил Дима механико-математический факультет Московского государственного Университета, куда поступил, по его рассказам, на спор. Поспорил, якобы, с приятелями по дому и двору (уверявшими, что в МГУ можно поступить только по великому блату), что поступит – и поступил. И даже пять лет отучился потом, с треском на первых курсах не вылетел. Хотя уже на мехмате стал увлекаться живописью, которую впоследствии и сделал своею профессией и судьбой. Живопись – не математику.
И, тем не менее, не будучи целеустремлённым студентом, студентом-отличником, на третьем курсе Дима попадает каким-то непонятным образом под опеку самого профессора и академика Колмогорова, который гремел в Москве и Университете в конце 1950-х, начале 60-х годов и лишь бы кого не брал в ученики, естественно. Надо было ещё походить и покланяться, глазки построить и убедить в собственном выдающемся таланте и профпригодности. Кто учился на мехмате – тот знает и подтвердит, как не просто высокопоставленного научного руководителя студенту найти. Тем более – из числа академиков. Ведь от научного руководителя дальнейшая судьба зависит: чем круче твой наставник-опекун, тем выше ты и взлетишь в итоге: это общеизвестно.
Нашему Диме здесь, однако ж, везёт невероятно: он попадает под крыло первого факультетского светилы, и не последнего человека даже и в Академии наук СССР. Мало того, настолько тесно сближается с академиком-небожителем, что начинает регулярно бывать у того дома, ездить к нему на дачу в Комаровку – якобы задачки решать. И там Андрей Николаевич, уже зная о пристрастиях Гордиевского к живописи, разрешает юному другу пользоваться своей домашней библиотекой. Собранием живописных альбомов, главным образом, до которых и сам академик был большой охотник – старательно их всю жизнь собирал, регулярно мотаясь по свету, тратил огромные деньги.
Отношения седовласого учителя и юного студента, меж тем, день ото дня только крепли на удивление, становились почти что родственными. Настолько, что в 1962 году, когда Гордиевский окончил мехмат и получил диплом на руки, Колмогоров взял его на работу в свою лабораторию, где новоиспечённый математик Дима – по его рассказам, опять-таки, – имел кучу свободного времени. Понимай: не делал ни черта, не работал по специальности, может быть даже и не ходил, – что позволяло ему тогда вовсю заниматься живописью, а от математики уходить всё дальше и дальше, и, соответственно, холодеть к ней.
В 1965 году, когда отработка положенных 3-х распределительных лет закончилась, Колмогоров, зная про художественные пристрастия ученика, разгоравшиеся день ото дня всё ярче, берёт его, тем не менее, работать преподавателем в интернат – зарабатывать на безбедное житьё-бытьё и краски. С чего это, спросим опять, у расчётливого старика, каким по жизни был Колмогоров, такая отеческая забота о нерадивом студенте и никудышном учёном, вознамерившемся, к тому же, бросить профессию в ближайшие годы, чтобы свободным художником стать? На кой ляд он ему – такой! – был нужен?
Ответ здесь простой, как теперь представляется, хотя и нелицеприятный для них обоих – Колмогорова и Гордиевского, имеется в виду. Андрей Николаевич, и про это было известно в Москве и Университете уже и в советские годы, и особенно после них, в перестройку, был гомосексуалистом: на протяжении десятков лет сожительствовал с другим известным академиком-математиком, П.С.Александровым, – эта была у обоих взаимная, пламенная, долгая и устойчивая любовная связь. Оба, хотя и были женаты, но жены лишь были прикрытием, хранительницами очага, и детей не родили им, не смогли – по определению, что называется (у Александрова их вообще не было, а Колмогоров воспитывал пасынка). Академики горячо “любили” друг друга всю жизнь – какие тут могут быть дети?!
Однако же, несмотря на крепкую сердечную привязанность одного к другому, это им не мешало ни сколько иметь интрижки на стороне – “любовников” из молодых студентов, как правило, которых каждый к себе регулярно приманивал и приваживал во время сессий, защит курсовых и дипломов. После чего склонял к сожительству за возможность остаться в аспирантуре и быстро защититься и “остепениться”, на хорошую должность попасть.
И были студенты, которые на это шли. С радостью превеликой. И потом больших высот и постов в математике достигали, важно сидели в высоких президиумах, креслах директорских, по миру разъезжали гордо в составе различных делегаций, с достоинством читали доклады и лекции перед почтенной публикой. В многочисленных биографиях П.С.Александрова и А.Н.Колмогорова теперь в обязательном порядке приводятся длинные списки титулованных учеником, которых они за целую жизнь воспитали и в люди вывели. Всё сплошь профессора, академики и Герои, лауреаты всех премий и члены всех академий, авторы сотен научных открытий и книг. Светила, короче, гиганты Духа! Когда теперь, по прошествии лет, пересматриваешь эти фамилии на досуге, с содроганием пытаешься отгадать: а сколько ж из них, в итоге, перебывали в постелях-то у двух наших гениев-“голубков”, задницы им подставляли?! И задницами же все свои звания и ордена заработали?! Сколько вообще в советской научной и академической среде было людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, педерастов так называемых, сделавших себе карьеру и имя через мужеложство, через постель. И приходишь в ужас от такого гадания! Сразу начинает тошнить!…
Не хочется думать, что и Гордиевский Дима прошёл через эту грязь: человек-то он был хороший, в целом, нравственный, честный и добрый с учениками, всё им готовый отдать, до последнего. Да и труженик великий был: картин, если исходить из того, что теперь про него рассказывают в Интернете, написал великое множество. И фактически бесплатно! То есть даром работал парень! – или за гроши, за холсты и кисти… Но всё равно старался, не спал – рассчитывал, что кому-то это всё понравится и пригодиться. Портреты Колмогорова у него вообще замечательные получились, реалистические, один из которых он интернату подарил. И честь ему и хвала за это, рабу Божьему Дмитрию.
Но только… только вот факты его биографии, увы и ах, свидетельствуют об обратном. Открытый и законченный гомосексуалист Колмогоров – и об этом можно громко теперь говорить, во весь голос что называется, не боясь обидеть или оскорбить память усопшего, ибо представители ЛГБТ в “новой” России высоко поднялись, занимают ключевые места в правительстве и Администрации президента и даже кичатся этим, своей нетрадиционной ориентацией, – так вот Колмогоров с ним достаточно долго нянчился и опекал, человеком бесперспективным и никудышным в научном плане. И делал это не бескорыстно, по-видимому, не просто так: просто так, за здорово живёшь, люди ничего не делают. Чем-то ему Дима нравился, чем-то старику угождал. А уж чем? – об этом можно только догадываться и мутные предположения строить, которые строить не хочется ученикам, у них обоих обучавшихся когда-то…
Удивительно, но даже и после того, как Гордиевским в 1979 году был, наконец, оставлен интернат и учительская профессия, он не расстался с Колмогоровым – до последних дней старика (до 20 октября 1987 года) числился у академика-нетрадиционалиста в помощниках, то есть не вылезал от него, прилепился как банный лист к заднице, простите за каламбур. Хотя с математикой давным-давно завязал и как учёный и педагог был Андрею Николаевичу ни с какого бока не нужен и не интересен. Однако же вот постоянно крутился рядом. А для чего? – Бог весть. Думайте сами, читатели, и делайте выводы.
Колмогоров, как думается, платил ему добром за добро: обеспечивал ему рекламу, по-видимому, как талантливому молодому художнику в академической и университетской среде, помогал продавать академикам-толстосумам и богатеньким профессорам свои полотна, которые те покупали от скуки и обильно развешивали на дачах, предпочитая лицезреть исключительно подлинники – не репродукции. Колмогоров же, по всей вероятности, и с Оскаром Рабиным Гордиевского познакомил, через которого Дима и попал в известную группу-объединение “Двадцать московских художников”, регулярно выставлявшуюся в Москве на Малой Грузинской в течение десяти лет (1978-88 гг.) и привлекавшую толпы зевак своей скандальной оппозиционностью в основном, эпатажем и нонконформизмом. Именно в этот период Гордиевский и решается бросить утомительную преподавательскую работу – перейти на заработки свободного художника, которые с голоду ему и его семье уже умереть не давали. И именно поэтому, плюс ко всему, он так крепко держался за высокопоставленного сиониста Колмогорова (награждённого, к слову сказать, Государственной премией Израиля): тот обеспечивал ему протеже в еврейской богемной среде, широкую рекламу и связи…
Но мы отвлеклись, читатель, по необходимости забежали далеко вперёд. И надобно назад возвращаться – в студенческие годы Димы, которые мы ненадолго оставили. Итак, уже на старших курсах, по-видимому, студент-ветрогон Гордиевский понял, что математика не для него, математиком он не родился. И надо менять профессию по этой причине, чтобы не быть неудачником, – становиться свободным художником в будущем, любимцем пьяных компаний, молоденьких девочек и экзальтированных дам, нимфоманок так называемых. А если повезёт – и критики, которая на щит подымет.
После чего, когда успех и слава придёт, все проблемы разом решить: и жизни смысл обрести, и капитал сколотить по возможности, и к высокому и прекрасному приобщиться, к Вечности – в полотнах себя увековечить, в анналы Истории попасть, в частные и музейные коллекции. Короче, вознамерился-возмечтал паренёк, примеривая по вечерам костюм талантливого живописца, в недалёком будущем начать жить ярко, мощно и насыщенно, как столичная творческая богема и живёт, – не думать о временном и суетном, о преходящем и тленном.
Профессия художника многое ему, студенту, сулила: она всем подобный вздор на первых порах сулит, как стриптизёрша из бара – любовь до гроба. Но имела и недостаток, зараза этакая! Один, но весьма существенный, безжалостно перечёркивавший все её умопомрачительные достоинства, а именно – отсутствие к вольному и беззаботному существованию средств. Если не было у тебя на тот момент богатых и сердобольных родственников, готовых тебя, как маленького, поить и кормить, финансово твой талант поддерживать и подпитывать.
У Гордиевского подобной подпитки не нашлось: с золотой ложкой во рту он, увы, не родился, богатых родителей не имел и не получил наследства от бабушки с дедушкой из Израиля. Источником, из которого он вознамерился черпать для себя средства к существованию, к плодотворной работе творческой – до тех пор, по крайней мере, пока новая работа сама не начнёт кормить и поить всласть, – и стал для него колмогоровский специализированный интернат – место для таких людей идеальное.
Идеальным здесь было всё: график работы рваный, некаждодневный; зарплата приличная для Москвы; талантливые, всё на ходу схватывающие и понимающие питомцы. Это уникальное учебное заведение будто бы нарочно создавалось для них – таких вот, как Дима, легкомысленных, легкоязычных и легкокрылых парней, не привыкших к рутине, к изнурительному труду, умственному ли, физическому ли – не важно. В интернате всё было не так, как в обычной школе, всё уже изначально способствовало тому, чтобы максимально облегчить и оттенить работу учителя. Здесь не было ни младших и ни средних, самых тяжёлых и канительных классов; и почти не встречались откровенно слабые в умственном и педагогическом плане дети. Воспитанники школы, в основной массе своей, трудились и образовывались самостоятельно, и палки учительской не требовалось из них никому.
А ещё в интернате никогда не существовало чётко разработанных и расписанных, и кем-то там “наверху” утверждённых планов преподавания математических и физических дисциплин. А, следовательно, – не существовало и прочно-связанных с такими планами контрольных или иных каких проверочных работ, высылаемых из ГорОНО и ОблОНО непрерывным потоком. Здесь не видели никогда и самих представителей этих грозных и всесильных ведомств – людей суровых по должности своей, до крайности высокомерных и строгих, перед которыми трепетали и лебезили преподаватели общеобразовательных школ, которых там все и всегда как огня боялись.
Здесь же уже с первого дня считалось, от самого отца-основателя шло убеждение, превратившееся в защитный и крайне-надёжный от любых проверок и комиссий барьер, что высокообразованным, высоконравственным и высокоинтеллектуальным педагогам-наставникам, преподававшим в спецшколе, никакие педагогические планы, указы и опоры не потребуются, наоборот – вредны будут. Потому что свободы творчества и мысли лишат, главной изюминки интерната, убьют дух либерализма и демократии. Считалось, что каждый талантливый преподаватель – а иных вроде как и не было тут, не должно было быть по определению, – в сугубо индивидуальном порядке найдёт свой подход и способ верный, чтобы в полном объёме донести до воспитанника священный Знания свет, Добра и научной Истины.
Здесь даже тетрадок с домашними заданиями никто никогда не проверял, не таскал их огромными пачками ежедневно домой и обратно. Потому как вся система обучения в основе своей была построена исключительно на работе в классе и на полном, как и в Университете, доверии и уважении к ученику.
– Вы сюда не за тем приехали, чтобы отлёживаться в общежитии на казённых матрацах и откровенно валять дурака, – постоянно внушалось детям. – Всё это вы могли бы с успехом и с большей выгодою для себя делать и в родном дому: для этого не обязательно было в Москву ехать – деньги родительские проедать… А потом… запомните хорошенько, зарубите это на своих носах! – всякий раз глубокомысленно добавляли шибко учёные педагоги, – что нас, наставников, обмануть можно и даже легко обмануть. Себя вот только не обманешь и не проведёшь: поймёте это, когда вырастите…
Убедительными были слова, убедительными были доводы. Справедливость этих и подобных слов основная масса воспитанников интерната худо ли, бедно ли понимала. Потому и трудилась, не покладая рук. Не за страх – за совесть…
И, наконец, – и это было, может быть, самым главным и важным для отиравшихся и подъедавшихся здесь художников от науки! – в интернате любой учитель математики (а про остальных учителей и говорить не приходится: те, строго говоря, по-настоящему никогда и не работали здесь), но даже и учителя математики, профильные и более всех загруженные, в интернате работали всего лишь три дня в неделю, по четыре, по пять часов в день, что уже считалось для них непомерно-большой нагрузкой, соответствующим образом оплачивавшейся. В остальные же дни – а это больше половины недели! – им была предоставлена полная и безоговорочная свобода. И делать они в это время могли всё, что заблагорассудится, могли про школу совсем забыть.
Чем тебе не рай для свободных, не терпящих социальных пут и оков художников, чем не узаконенная, в ранг возведённая лафа! Морочь себе голову круглый год приехавшим из провинции молодым дарованиям, пихай им туда понемногу университетские образовательные азы, которые сам едва-едва сумел постичь когда-то, – и дуй себе тихонечко в свою дуду, ходи каждый день – посвистывай: наслаждайся вволю райской житухой своей, на удивление блатной и завидной. Ведь ты всегда при делах, всегда при еде и питье, да ещё и в большом почёте…
5
Вторым человеком, постоянно преподававшим математику в новом классе Вадика, был Мишулин Вячеслав – 23-летний темноволосый крепыш, накаченный будто бы анаболиками, низкорослый, холёный, медлительный очень. Во всём – в поступках, движениях и разговорах. Да ещё и красневший при каждом удобном случае – так, как краснеет девица юная и непорочная только в компании подвыпивших срамных баб, разговоры про секс с мужиками ведущих.
Про этого парня рассказывать нелегко – уже потому, хотя бы, что был он из тех невзрачных и неприметных молодых людей, которые не очаровывают, не притягивают к себе внимание сразу, с первых минут, – как тот же актёр А.Домогаров, к примеру, или Даня Козловский. К таким, наоборот, нужно долго-долго присматриваться и привыкать, находиться рядом – чтобы вникнуть, понять и оценить по достоинству их неброскую привлекательность и красоту, которые в любом человеке присутствуют, безусловно, немалые способности и достоинства. И даже с удивлением заметить однажды в их прищуренных глазках решительный бесовской огонёк, появляющийся там время от времени и лучше слов говорящий о том, что внутри-то у этих тихих и скромных парней не так уж всё безнадёжно и тускло, как снаружи, и что сила и слава их – впереди, что они ещё всем покажут.
Славик был моложе Гордиевского на десять лет – разница в возрасте огромная. К тому же – был иногородним: приехал учиться в Москву из Кировской области, долгое время жил в общежитии, родственных и дружеских связей почти не имел – до женитьбы на москвичке, по крайней мере. И уже в силу этого (провинциального зависимого статуса своего) вынужден был держаться всё время в тени своего старшего товарища и коллеги по преподавательскому ремеслу, коренного москвича-интеллигента Димы, быть его безропотным покорным помощником и вторым номером на уроках. А с учётом летуна-Веселова – и третьим. Тень Гордиевского настолько плотно заслоняла Мишулина в интернате, подавляла и обезличивала его – и без того-то безликого и невзрачного, – что замечать своего молодого учителя и кое-что узнавать про него Вадик начал только к концу девятого класса, то есть проучившись у того аж целый учебный год.
Он узнал, например, с удивлением, что Мишулин к моменту его, Вадика, поступления в интернат был аспирантом (1972-75 гг.) Математического института имени В.А.Стеклова Академии наук СССР (МИАНа). А до этого в 1965-67 годах учился в колмогоровской спецшколе в 9-м и 10-м классах, и именно у Гордиевского, только-только пришедшего тогда в интернат. Потом Славик обучался на мехмате МГУ (1967-72 гг.), на кафедре высшей алгебры. И научным руководителем у него в Университете и МИАНе был не кто-нибудь, сам Игорь Ростиславович Шафаревич – советский математический вундеркинд и стопроцентный гений, рыцарь в жизни и математике, первый алгебраист страны с середины 1940-х годов до начала 1990-х годов включительно, автор уникальнейшего учебника по алгебре, являющегося библиографической редкостью.
Игорь Ростиславович, для справки, родившийся 3 июня 1923 года в семье профессионального математика Ростислава Степановича Шафаревича, уже в старших классах школы повадился ходить на мехмат и сдавать там экстерном все курсовые экзамены преподавателям. И получилось в итоге так, что по окончанию школы он сразу же был зачислен на последний пятый курс, после чего успешно сдал выпускные экзамены вместе со всеми студентами-математиками и получил красный диплом на руки в 1940-м году. Понимай: с отличием окончил Университет в 17 лет. Причём – сложнейший механико-математический факультет, а не какой-нибудь журфак пустопорожний. Случай невероятный в истории МГУ! Может быть даже – единственный!
Его математическая карьера развивалась стремительно, как вспышка молнии над головой. В 1942 году (в 19 лет) он защищает кандидатскую диссертацию; в 1946-м (в 23 года) – докторскую. И сразу же его принимают на работу в престижный МИАН; а с 1944 года он преподаёт на мехмате. В 1958 году (в 35 лет) его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР, а через год (1959) он удостаивается высшей награды страны – Ленинской премии за фундаментальные работы по теории разрешимых групп. То есть Игорь Ростиславович повторяет стремительный, феерический творческий путь по сути своего тогдашнего кумира и обожателя Э.Галуа, гениального французского математика, идеи и мысли которого (теорию Галуа) он потом развивал и продолжал долгие годы и многого на этом пути добился. И если бы в это время он не связал судьбу с диссидентами (Солженицыным, Сахаровым и другими), не стал бы писать и подписывать коллективных писем протеста (в 1968 году, например, подписал известное “Письмо 99-ти” в поддержку А.Есенина-Вольпина) и не попал по этой причине в опалу, – к 40 годам он запросто стал бы академиком (в Академию наук СССР его избрали лишь в декабре 1991 года, в момент крушения Советского Союза, хотя к тому времени он был уже членом десятка иностранных академий наук).
Понятно, что математики уровня Шафаревича не берут в ученики пустых и случайных людей – отбирают студентов тщательно и пристрастно, на перспективу. Перед тем как взять – предлагают попробовать решить задачи и проблемы высшей сложности, на которых проверяют способности кандидатов к плодотворной творческой самостоятельной деятельности, базовый уровень их, математическую подготовку и культуру; а главное – желание быть на передовых рубежах, этакими маршалами-маяками науки. К ним попадают лучшие, безусловно, которые оставляют заметный след в отечественной и мировой математике… И если Славик попал, если прошёл отбор и приглянулся Игорю Ростиславовичу, – значит на то были весомые причины. Это понятно, повторимся.
Удивительно здесь было другое: 23-летний преподаватель интерната Мишулин своего очевидного математического таланта на уроках перед учениками никак не проявлял. Совершенно! Можно даже сказать, не погрешив против истины, что он свой талант учёного старательно ото всех прятал. Поэтому и выглядел со стороны чуть ли не дурачком, этаким студентом-двоечником, случайно оказавшимся на мехмате, случайно же его закончившим. Это если не знать (что и случилось со Стебловым) про его тесные и достаточно близкие отношения с И.Р.Шафаревичем, который его ещё на третьем курсе мехмата выделил из толпы и взял под свою опеку. И не ошибся, в итоге, если судить теперь, по прошествии лет, на выдающиеся результаты деятельности Славика как учёного…
Видимых целей, которые преследовал аспирант-Мишулин, связав на время свою судьбу с колмогоровской спецшколой, было две, как теперь представляется: пополнение хорошими интернатовскими заработками девяносторублёвой аспирантской стипендии, которой женившемуся в аспирантуре Славику конечно же не хватало; а также – и было это для него может быть даже важнее денег – обретение прочных навыков публичной преподавательской деятельности, которые у него, робкого и косноязычного от природы, совершенно почему-то отсутствовали.
Славик, хотя и проучился пять лет в Университете, в аспирантуру потом поступил, хорошим студентом и аспирантом числился, – но при этом совсем не умел говорить на людях, у доски выступать не умел, чётко и ясно мысли при всех высказывать, знания и наработки немалые. Поднимаясь всякий раз на подиум или кафедру университетскую, он до неприличия густо краснел, терялся, покрывался потом, путаться начинал, запинаться и заикаться, “в карман за словом лезть”, – отчего производил на слушателей на первых порах впечатление жалкое и неприятное, и чрезвычайно для себя невыгодное.
А поскольку дальнейшую жизнь и судьбу он твёрдо связал с наукой и карьерой академической, где без ораторских навыков – никуда, – то интернат и призван был, по его разумению, ликвидировать имевшуюся у него к робости склонность и косноязычию…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































