Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
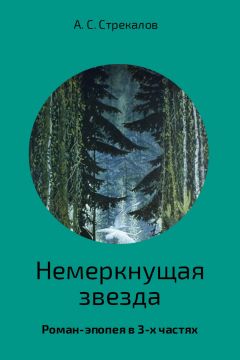
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
«Надо всё же решить для себя, пока время есть, зачем я туда поеду? – напряжённо уже думал он по ночам, укутавшись с головой тяжёлым родительским одеялом. – Чтобы спортсменом великим стать? или всё же – учёным?… Юрий Иванович – мужик отличный, золотой, прямо скажем, мужик! Я никогда ещё и не видел прежде таких красивых и добрых людей! таких, как скала, надёжных!… Но если я все силы брошу сейчас на спорт и тренировки, на те же соревнования весной, как он того требует, – то я с гарантией провалю на следующий год вступительные в МГУ экзамены: это можно совершенно точно предположить – даже и без гадалки… И придётся мне тогда говорить “прощай” и Москве самой, и Университету… и тому же Юрию Ивановичу и секции его… Жалко это будет делать – до слёз. Жалко и обидно… А если я поступлю – как того очень хочу, как мечтаю – в Университет, тогда и Юрий Иванович от меня никуда не денется. Опять с ним тогда встретимся – уже на равных, в качестве студента, – и опять тренироваться начнём. И будем это делать спокойно и грамотно, без истерии и суеты, не думая уже о завтрашнем дне, о предстоящих конкурсных экзаменах… Но для этого требуется поступить, обязательно поступить на следующий год на мехмат! – это просто жизненно необходимо сделать!… А значит необходимо работать, усиленно работать уже сейчас: сидеть – и пыхтеть безвылазно в читальном зале… И чем долее я там посижу, чем больше конкурсных задач прорешаю, – тем легче мне на вступительных экзаменах будет. Это – и непременное условие, и очевидный факт, который невозможно оспорить…»
Думая так ежевечернее и еженощно, беспокойно с боку на бок на родительской койке крутясь – старенькой, узкой, скрипучей, от времени продавленной глубоко, но всё равно такой мягкой, родной и желанной, до боли знакомой по прежним детским годам, очень тёплой, очень уютной, с которой по утрам ему не хотелось и подниматься, – Вадик всё ближе и ближе в те дни пододвигался к мысли, суть которой он сам же и сформулировал для себя, в итоге, перед отъездом в Москву, 10-го января нового календарного года:
«Легкоатлетическую секцию нужно бросать – всенепременно. Прекращать в манеж три раза в неделю мотаться – силёнки последние отдавать на дорожках и переездах в транспорте. Манеж и спорт подождут пока, подождёт и Юрий Иванович… Сейчас самое главное для меня – предстоящие экзамены в Университет. Вот и нужно на них настраиваться, об них одних каждый день печалиться и горевать, голову забивать ими… Всё остальное – не главное, остальным я займусь потом, когда придёт время…»
22
Перечисленные факты не полностью, но достаточно точно описывают и характеризуют то, как жил-поживал в Москве, в спецшколе столичной, Вадик Стеблов, как он учился там, проводил свой досуг и личное послеобеденное время, отчаянно постигал науки мудрёные, математические, обламывал зубы и силы об них, дуриком гробил здоровье. Всю дорогу он нещадно гнал себя, торопил, пытался за год объять необъятное: и книги рекомендованные, толстые прочитать, понять и запомнить их крепко-накрепко; и задачи перерешать одним махом, а заодно с ними – и все проблемы научные, актуальные и животрепещущие; и английский самостоятельно изучить (который ему сто лет был не нужен!); и журналов перелистать и просмотреть ворох, освоить содержимое их… А в промежутках успеть ещё и по красавице-Москве помотаться, полюбоваться и подивиться ею, порадоваться за неё.
Да и с друзьями новыми в 201-й комнате ему подурачиться-посидеть хотелось – похвальбу их красочную послушать, самому чем-нибудь этаким похвастаться или что-то особенное соврать; а потом ещё и на тренировку в манеж успеть съездить, и там пару часиков себя на дорожке усердно погонять-попарить.
«Быстрее, быстрее… быстрее!» – было главным его девизом, главным правилом мозговым, незыблемой волевой установкой, которым он неукоснительно следовал изо дня в день, которым безоговорочно подчинялся… И всё равно он был недоволен собой, как к врагу сам к себе относился: за память малую и скудный ум, за неспособность схватывать всё на лету и быстро соображать как некоторые; но, главное, – за своё здоровье физическое, совсем-совсем никудышное, как выяснялось, не способное выдерживать и выносить Москвой предложенных скоростей и поставленных жизнью нагрузок.
«Плохо я здесь работаю, плохо: и медленно, и бестолково как-то, некачественно и неэффективно, с нулевым КПД по сути», – твердил он озлобленно всякий раз, когда, неудовлетворённый, возвращался из читального зала на отдых. И оценки эти – через чур критичные и несправедливые во многом – не давали ему уже как следует выспаться потом, отдохнуть, не позволяли отключиться совсем от дневной суеты и заботы…
Такая истерия и недовольство вечное даром для него не прошли и пройти не могли, разумеется. Уже с начала второго полугодия, с третьей школьной четверти – понимай, самобичеванием надорванный организм, истерзанный недосыпанием и недоеданием, и тренировками частыми, напряжёнными, – его организм неокрепший стал не на шутку взбрыкивать и сопротивляться. И отвечать нерадивому торопыге-хозяину сонливостью и неведомой прежде усталостью, справляться с которой уже не хватало сил. К весне усталость размножилась, разрослась, сделалась всеобъемлюще-полной, испепеляющей. И разразилась, в итоге, как тучка весенняя, нешуточной страшной “грозой” – неврастенией, повергшей Стеблова в глубочайший кризис, из которого его выводили всё лето родители и врачи…
А ещё в душе Вадика, начиная с февраля-месяца, устойчивое чувство паники угнездилось вперемешку со страхом, которое посещало его в интернате и ранее раз от разу и очень походило на то, что, вероятно, должен испытывать попавший в завал человек – шахтер ли, альпинист или просто случайная жертва – и понявший вдруг в темноте, все способы высвободиться перепробовавший, что ему из завала не выбраться, что пришёл его жизни конец.
«Всё!» – испуганно и обречённо заключает тогда несчастный, обливаясь холодным потом. И чувствует, бедолага, как руки и ноги у него отнимаются, стремительно самообладание его покидает, разум и воля, надежда на благополучный исход. И как превращается он, умирающий, в довольно-таки жалкое существо – бессильно-безвольное, мокрое и скверно пахнущее, нервно-трясущееся от страха за уходящую ежесекундно жизнь…
«Всё! – так же вот испуганно и истерично ближе к весне стал думать и наш отчаянный удалец-молодец Стеблов, тоскливо взиравший по вечерам на стопки разложенных перед ним на столе учебников, в которых он не понимал ни черта и которые далее первых глав его так и не пустили в итоге. – Я никогда не осилю их, не пойму… Жидковат я для них оказался».
От мыслей таких панических и безнадежных ему становилось не по себе, глаза заволакивала тоска непроглядная, болью отзывавшаяся в груди, окончательно всё у него внутри отравлявшая и отбивавшая. Руки его опускались сами собой, превращались в плети; пропадало всякое желание делать что-либо, учить… Хотелось только забраться в какой-нибудь тёмный угол в школе и сидеть там безвылазно, спрятавшись ото всех, голову ладонями обхвативши: чтобы не видеть уже никого и не слышать, не знать. И про математику не думать совсем, которая предельно утомляла его, как постоянная головная боль, и которой он здесь “от пуза наелся”…
В такие моменты критические, очень опасные, в систему входившие, хроническую болезнь, он неизменно дом родной вспоминал, друзей, родителей, школу прежнюю. А вместе с ними, понятное дело, вспоминал и прежнюю жизнь свою, такую привольную и беззаботную, и такую желанную, как оказалось, о которой одной уже только и думалось ему в Москве, о которой ежедневно грезилось. В той жизни – как он яснее ясного понимал, в чём убедился на опыте! – устроено всё было просто и правильно, и предельно разумно, прежде всего. Там совершенно отсутствовала паника и суета, и всё ему было предельно легко и понятно: и уроки, и учебники, и задачи, которые, к слову, он в два счёта решал, которые его окрыляли и вдохновляли только – в отличие от задач теперешних, для него неясных и неподъёмных.
Учительница его, Лагутина Нина Гавриловна, не оканчивала Университет и про мехмат слыхом не слыхивала, вероятно; не носила академических и прочих высоких и громких званий, учёных титулов и степеней; и не имела, что особенно ценно и важно, кроме школы своей побочных заработков и увлечений. Но это-то и было (как теперь уже становилось ясно измученному Стеблову) огромным плюсом её и несомненным её достоинством. “Необразованная” и “неучёная”, она не красовалась ежеминутно перед учениками, не старалась, выходя к доске, казаться умнее им всем и глубокомысленнее, чем была в действительности, не задавала детям непосильных задач, которые с неизбежностью могли бы дураками их выставить, бетонной плитой придавить к земле, молодые крылышки им подрезать.
Объясняя новое, она говорила громко и чётко всегда, хорошо поставленным твёрдым дикторским голосом. Говорила так, одним словом, будто гвозди языком вбивала в пустые детские головы, при этом не глотая и не коверкая слова, и никогда не употребляя сорные (как Славик тот же или балагур Веселов). Чувствуя ответственность перед детьми, она не фантазировала и не экспериментировала у доски, не металась по ходу объяснения между несколькими вариантами, не зная, какой из них дать; и категорически – что было особенно важно, – категорически не забиралась туда, откуда самостоятельно не смогла бы выбраться, запутав ещё и ребят. Для неё это было главным педагогическим правилом, незыблемым принципом поведения в классе – детям собственным невежеством не навредить! – как и клятва Гиппократа для врачей больницы.
Молодец она ещё и в том была, как Стеблову в Москве по ночам представлялось, что прописные истины математики когда-то отлично усвоила – школьной, элементарной, математики постоянных величин, ещё Евклидом собранные и систематизированные, – которые потом, на протяжении многих лет, умело и доходчиво излагала в классе. Она никогда не путалась в них, не спотыкалась пошло, имея систему преподавания; и ни разу на памяти Вадика – ни разу! – не ухмыльнулась при объяснениях снисходительно-высокомерной усмешкой, призванной сказанному некий особый статус и смысл придать, или, наоборот, подчеркнуть: мол, это же так очевидно, придурки вы этакие!
От этого – от такой её простоты бесподобной, неподражаемой, на высочайшем профессионализме и глубоком знании предмета основанной, – все объяснения Нины Гавриловны Вадик понимал с полуслова, не робел перед ними – избави Бог! – не пугался и не прятался как чёрт от ладана. Оттого-то и не возникало у него в прежней школе с математикою никаких проблем. Потому и учился он там весь последний год с таким желанием и удовольствием: и на уроках сидел с удовольствием, и дома – за тетрадками.
И успевал он там всё и всегда, и неизменно весел был и спокоен; и собою, главное, очень доволен, без чего невозможно нормально жить – ему, Вадику, невозможно.
И в ВЗМШ без проблем учился, плюс ко всему, и контрольные туда ежемесячно отсылал легко и непринуждённо; и отдохнуть потом успевал от них, порешать с Сашкой Збруевым олимпиадные задачки… Успевал даже в городском парке вечером погулять и книжки почитать художественные…
Здесь же проблемы у него возникли сразу, с первого дня; точнее – с первой, А.Н.Колмогоровым прочитанной лекции, в которой Стеблов не понял ни единого слова и ни единой, по сути, формулы, написанной Андреем Николаевичем на доске. Много ли было пользы ему от этого? Кроме одного лишь голого факта, что он два часа кряду слушал, разинув рот, живого академика!… Та лекция пронеслась для него как в бреду, как в угаре шальном, болезненном, оставив в памяти лишь белую голову известного учёного-математика да его старческое, морщинами изъеденное лицо, да ещё потешные у доски кривляния.
Потом то же самое повторялось у него и на семинарах, где Гордиевский с Мишулиным пытались объяснить ему, по мере сил, основы современных теорий, которые Вадик из сумбурных рассказов их опять-таки не понимал, или понимал кое-как, через пень-колоду, и которые растолковать по-настоящему грамотно в интернате ему так никто и не смог.
И дело даже не в том было, что учителя столичные, как учёные довольно слабенькие, да ещё и профессионально-неподготовленные, сами частенько блуждали и путались в первоосновах преподаваемых дисциплин, действительно сложных и неподъёмных. В понятиях непрерывности и меры, например, в бесконечно-малых окрестностях и бесконечно-близких приближениях, в представлениях различных множеств – счётных и несчётных, – в определениях групп, полей, колец, модулей и многом-многом другом, из чего состоит и на чём базируется современная математика. Всё это было делом простительным для них – людей невысокого преподавательского уровня, повторимся, – если бы ни другой, куда более серьёзный Димы со Славиком просчёт, который обоим простить было сложно. Значительно хуже и ущербнее здесь было то, что, уча воспитанников спецшколы искать пределы числовых и функциональных последовательностей, показывая им на уроках простейшие правила вычислений производных и интегралов, элементарнейшие способы объединения однородных алгебраических элементов в группы, модули и поля, они не объясняли детям, зачем те должны были всё это вычислять и объединять, для каких-таких благих и высоких целей. Они, если совсем коротко, не посвящали детей в философский аспект математики… Поэтому-то исходящие из их уст вычислительные приёмы и правила, заученные ими назубок на мехмате, – было не совсем то, что хотелось услышать на первых занятиях Вадику, что чаялось ему понять, прояснить для себя перво-наперво, заложить в память этакими кирпичиками божественными, первородными. Механические приёмы не грели душу его, не развивали мозги, не делали их подвижнее и острее.
И получалось, что, не поняв как следует, как должно значения алгебры и анализа в современном научном мире, не уяснив для себя чётко их привилегированного положения среди прочих естественных дисциплин как главных и универсальных языков общения, – Вадик работал потом весь учебный год «в слепую» что называется, как тот же негр на конвейере. И все его усилия ежедневные, все потуги сводились, в итоге, лишь к зубрёжке банальной, да ещё к механическому переносу заученных алгоритмов на решение предлагавшихся на уроках задач. Что было делом совершенно тупым и неблагодарным, если говорить строго, пользы не приносившим ему.
Вычисляя вечером пределы последовательностей, ища производные и интегралы, определители преобразовывая до треугольного вида, матрицы, он не видел смысла своих тогдашних усилий, не понимал совсем, зачем он всё это делает и куда пойдут потом полученные с таким трудом навыки и результаты, на что сгодятся. Он только одно хорошо понимал, что высшая математика – это не элементарная, подготовительная, это уже вершина науки, её головокружительный Эверест, за которым нет и не будет уже ничего кроме неба. И ему, молодому и начинающему учёному-“верхолазу”, широкая перспектива в начале пути с необходимостью должна была бы поэтому открываться и красота, и тайный творчества смысл. А иначе – зачем это всё?! На кой ляд в гору-то тогда лезть и мучиться?!
Исключительно по этой причине ему и хотелось знать в интернате конечную цель своей каторжной ежедневной работы – чтобы работа в радость была! Но Гордиевский Дмитрий и Мишулин Вячеслав (про Веселова Андрея Александровича и говорить не приходится: он в интернате по-настоящему и не работал ни разу), – Гордиевский с Мишулиным итоговой цели-то ему как раз и не объясняли. Потому, наверное, что и сами не знали её. Или, знали только лишь приблизительно.
Быть же простым исполнителем, попкой учёным, тупо умеющим интегрировать и дифференцировать простейшие одно-переменные функции Вадик уже и тогда не мог: не так был устроен. Он всегда хотел в любом деле "за деревьями увидеть лес". Причём – целиком, во всей его, так сказать, красоте и моще. Чтобы были понятны и ясны главные задачи и перспективы дела.
Поэтому-то полное непонимание сути происходящего на уроках математики – основных уроков спецшколы, – неясность конечных целей угнетало Вадика более всего, делало его пребывание в Москве, в интернате Колмогорова, бессмысленным и вредным даже…
А тут ещё, словно по уговору или чьему-то тайному колдовству, на непонимание математики интернатовской беспрерывно накладывались и проблемы с физикой, дела с которой у Стеблова с первого дня гладкими и безоблачными не были, с которой он весь год “кувыркался” так, что и потеть устал… И если с математическими вопросами он ещё мог иногда обратиться, и обращался на первых порах, к своим преподавателям школьным, пока не убедился, наконец, что бесполезно это, – то учителя физики он как огня боялся, именно так. И не обращался поэтому к нему за помощью никогда за всё то время, пока учился в Москве. Да Гринберг ему, скорее всего, и не ответил бы, и не помог ничем; даже и близко не подпустил. Он мало кого к себе подпускал близко.
Не понимая и здесь совсем физических лекций и семинаров, которые, к тому же, нелюбимый преподаватель вёл, Вадик, в конце концов, охладел к этому интереснейшему предмету, стал ходить на него через раз, через два, благо, что условия позволяли. И физика выпала, таким образом, сама собой из его московской образовательной программы, превратилась для него в интернате в звук бесполезный, пустой; или – в красочный муляж-фикцию…
Невесёлая получалась картина, что и говорить! С педагогической точки зрения – и вовсе удручающая и устрашающая! Два главных школьных предмета, две “коровы священные”, два “кита”, из-за которых изначально и затевалась вся эта столичная катавасия и которые Вадику особенно нравились прежде, в которых одних он, собственно, и преуспел, которые его прославили-подняли когда-то и на которые он поэтому главную ставку сделал, – предметы эти упорно не давались ему теперь, сколько бы времени он ни бился над ними, какие б книжки ни читал, сколько старания и усилий внутренних к ним ни прикладывал. Математика и физика, таким образом, дружно становились для него на новом месте непрерывной болью головной и, одновременно, нестерпимой душевной пыткой, от которой самостоятельно он уже не мог спастись, с которой не имел сил справиться. Та ежедневная интернатовская пытка-боль, как невидимый червь сердечный или опухоль ядовитая, мозговая, остервенело пожирала его изнутри – лишала последних сил, энергии всепобеждающей, трудовой, оптимизма всегдашнего и здоровья…
23
Многое стало не нравиться Вадику в его новой жизни, когда она перевалила за середину свою – новогоднюю временную черту и каникулы зимние, – многое вызывало протест с раздражением, и неприятие внутреннее, достаточно устойчивое к весне, подвергалось критической переоценке. Не такую жизнь он представлял себе в родном дому, совсем не такую, когда мечтал-фантазировал по ночам о научном рае московском, о интернатовских “кренделях”, – не на то настраивался, не к тому стремился. Половина учебного года – срок достаточный, чтобы это понять, а заодно и уяснить для себя на тот момент реальное положение дел в новой школе, подвести предварительные итоги.
Что же видел он, что понимал, когда без пользы просиживал долгими зимними вечерами в читалках за заваленным учебниками столом и, не имея сил притронуться к ним, поневоле от такого вынужденного безделья копался памятью в прошлом, пережитом?… Он видел, в первую очередь, – и это было главным раздражителем для него, правдой неприкрытой и горькой, от которой испариной покрывался лоб и жить совсем не хотелось, – видел, что интернат колмогоровский со всеми его порядками и программами – плохими ли, хорошими – не об этом речь! – оказывался ему явно не по зубам. Слабоват он был для практиковавшихся здесь нагрузок…
Обидный получался вывод, что и говорить, до слёз, до зубовного хруста обидный. Выводы такие нелицеприятные, от собственной головы идущие и собственной совести, человека не окрыляют и не воодушевляют, веры и оптимизма не прибавляют ему; скорее, наоборот, – отбирают. Дурачком ведь не хочется быть никому: не хочется, чтоб над тобой посмеивались и потешались…
Постепенное осознание собственной слабости – умственной, в первую очередь, – в чём долгое время признаться Вадик мужества не имел, усиленно скрывал от себя, прятал за семью печатями, что остервенело пытался преодолеть первые недели и месяцы работой ежедневной, каторжной, – осознание этого психологически надломило его, здорово ему новую жизнь испортило, сделав её мрачной и тяжкой какой-то, и абсолютно бессмысленной, бесполезной. А для будущих перспектив и вовсе опасной – для поступления на мехмат МГУ.
Старая же жизнь, наоборот, уже этаким оазисом рисовалась в испепеляющей столичной пустыне, чуть ли ни раем земным. Там он так счастливо и спокойно жил, но потом взял и покинул то счастье и тот комфорт по ребячьей дурости. И теперь его без конца вспоминал – с болью, тоской, сожалением.
Да и как ему было не вспоминать, не прокручивать в памяти свои прежние детские годы, как не грустить, не тосковать о них, о безвременной их кончине, если там он был на виду и в большом почёте. Там у него были друзья, родители под рукой, была даже любимая девушка Лариса, – было всё то, одним словом, что требуется по зарез, как воздух требуется человеку! что ежедневно прибавляет сил и веры ему, делает волевым, боевым, работоспособным! Эти люди любили его, ценили и верили безгранично, ждали от него чуда, подвига, праздника каждый день! И он их за это всех очень крепко любил!… даже и просто так любил – вовсе и не за это!
Там он в школу ходил как на гулянку весёлую, или бал, учил одинаково все предметы: и географию, и ботанику, и литературу, – и по всем из них успевал, отметки получал отличные, за которые его хвалили администрация и учителя, за которые в пример в последнее время ставили… А ещё в той, прошлой, жизни он безумно любил математику, знал и понимал её лучше всех, был первым математиком класса… Или – вторым, – какая, в сущности, разница! Он стал бы обязательно первым, останься он теперь там, – он обогнал бы по успеваемости Чаплыгину Ольгу! Он это сделать очень сильно хотел, ну прямо-таки очень! стремился к первенству всей душой – к лидерству интеллектуальному, самому главному. А значит добился бы лидерства любой ценой – чего бы это ему, в итоге, не стоило! Он заводной был и упорный парень с рождения – и страшно самолюбивый, к тому же, страшно амбициозный! Он хотел быть первым на этой Земле, только первым и никак иначе! – чтобы предстать пред Господом, нашим Небесным Отцом, когда срок придёт, чемпионом и победителем!…
В Москве же переменилось для него всё, буквально всё перевернулось с ног на голову: у него уже не стало здесь ни родителей, ни друзей, и напрочь пропали в столичной спецшколе прежние кураж и удаль… И услады сердечной не было у него здесь, и не хвалили его в новом классе ни разу, не отмечали… И даже математика школьная – всегдашняя любимица математика! – ему уже не давалась легко, без напряга. Хотя он бросил к её ногам всё: все резервы внешние и внутренние!… И всё равно он ходил здесь в крепких середняках: без всякой надежды выбраться в лидеры…
Как не затосковать ему было, скажите, от такой беды, безысходности полной и безнадеги, как не предаться отчаянию?! От каждодневной после-новогодней хандры его уже перестали спасать даже и хорошие отметки по алгебре и анализу, по привычке выставляемые ему Гордиевским с Мишулиным. Он, как, может, никто другой, знал истинную цену им и сильно по этому поводу не обольщался…
Был и ещё момент, который ближе к весне стал здорово тяготить его, настроение ежедневно портить.
«Вот я сижу здесь уже полгода и трачу силы на изучение всего этого, – регулярно в январе, феврале, марте задавал он себе один и тот же вопрос, устало перекладывая по вечерам на рабочем столе мудрёные мехматовские учебники, тяжёлые как кирпичи и такие же точно толстые. – Но зачем мне они, ежели через год, к примеру, я не поступлю на мехмат?… Ведь такие книжки только там будут нужны! только там изучаются!… И только там, соответственно, имеют смысл и ценность!…»
«Странно нас тут все-таки учат, – продолжал далее удивляться он, со вздохом тяжким, утробным откидываясь на стуле, – так, будто бы мы все здесь уже – полноправные мехматовские студенты. Математический анализ целыми неделями преподают, высшую алгебру, аналитическую геометрию и комбинаторику; в следующем году основы теории вероятности начнём изучать… А про элементарную математику, которую одну только и будут спрашивать на вступительных экзаменах, совсем забыли. Урок в неделю всего – разве ж этого достаточно?… Я же не объясню через год экзаменаторам университетским, если что, что тригонометрию или стереометрию только потому не знаю, не успел изучить, что два последние года в спецшколе математический анализ учил, Фихтенгольца всего перечитал и Шилова… Влепят “пару” за здорово живешь – и выкинут вон с экзамена как котёнка паршивого. Да ещё и посмеются вослед; скажут: какой им попался абитуриент весёлый – сразу за высшую математику принялся, как следует школьную не изучив…»
Размышления такие не были праздными, надо сказать, как не были они и элементарной игрой заболевшего от усталости воображения. Будущие конкурсные экзамены в Университет, куда Стеблов так попасть стремился, пугали его, и пугали сильно.
Они стали пугать его ещё больше после студенческих зимних каникул в феврале-месяце, когда уже достаточно осмотревшийся на новом месте Вадик дружбу со студентами свёл, которые на многое ему глаза открыли, вопросы наиважнейшие правильно осветив, пропагандистскую приоткрыв завесу. Прозревший и поумневший от тех бесед, розовую пелену с глаз стряхнувший, что ещё от дома у него осталась как сувенир или оберег родительский, он после этого об экзаменах уже каждый день думать-печалиться стал. И думы те ежедневные не были радужными.
Он разузнал, например, из рассказов приезжавших в интернат выпускников, учившихся теперь в Университете, что поступить на мехмат непросто – даже и для воспитанников спецшколы, которые хотя живут и учатся в Москве, но на вступительных экзаменах всё равно идут в общем с иногородними абитуриентами потоке. Понимай: должны набирать в итоге на три, на четыре балла больше, чем коренные москвичи, которым не нужны общежития и которых поэтому принимают почти что без конкурса.
«Так что не каждый из вас туда поступит, парни, – с ухмылкой говорили счастливые обладатели студенческих университетских билетов, когда-то вышедшие из интернатовских стен, – даже и не каждый второй. Процентов двадцать, не более, наших выпускников поступает в последнее время в Университет – знайте об этом!»
Слушая такое – подобные напутствия “ободряющие” и правду жизни, – Вадик морщился и холодел душой, бледнел испуганно, досадливо сжимал губы. И всегда вспоминал растерянно присланный ему год назад из Москвы рекламный проспект, в красках описывавший спецшколу и её “удивительные”, прямо-таки “сказочные” порядки. Особенно болезненно вспоминал он вступительную статью куратора Колмогорова, разумеется, заученную наизусть от многократного чтения, в которой тот уверял, чуть ли ни клялся даже, что создавал интернат с одной-единственной целью: помочь молодым провинциальным дарованиям побыстрее попасть в столицу, в Университет Московский. Чтобы якобы приблизить их уже с юных лет к Её Величеству Науке.
«…Практически все наши воспитанники поступают потом на мехмат и сразу же включаются там в серьёзную научную работу, – чёрным по белому писал академик-основатель в брошюре. – Им не требуется времени на раскачку, на овладение азами современной математики. Уже на первых курсах они – вполне сформировавшиеся учёные: целеустремлённые, волевые, грамотные…»
Красиво было написано, что и говорить! – ярко, талантливо, завлекательно. Разве ж забудешь такое когда! разве из памяти выкинешь! Хорошие были у Андрея Николаевича, по всему видать, рекламные журналисты на пристяжи или помощники, которые для него тексты готовили и потом подсовывали ему – на подпись… Читая подобные их обращения к детям страны и по простоте своей свято им веря до последней буквы, вдохновляясь и возбуждаясь ими, как спичка воспламеняясь от них, доверчивый и неискушённый Стеблов и решил тогда, в доме родном как за пазухой у Христа проживая (а вместе с ним наивно решили и его родители), что, поступив в интернат в восьмом классе, он автоматически уже как бы и в сам Университет поступает; что для питомцев прославленного советского академика А.Н.Колмогорова вступительных экзаменов в МГУ либо вообще не проводится, либо проводятся они чисто формально – внутри самой школы, где студентов будущих определяют местные учителя.
Так думалось и мечталось дома малолетке-Вадику – прирождённому идеалисту и фантазёру, – в такую несуразицу, глупость элементарную ему дома верилось всей душой. И так же точно думали и мечтали, и верили вместе с ним его отец и мать – люди взрослые, добрые, но малограмотные и малосведущие в подобного рода делах, увы, дававшие сыну добро на отъезд, на жизнь одинокую, самостоятельную…
Но они ошибались все, выдавая желаемое за действительность. И истинное положение дел в спецшколе было совсем не таким, каким оно описывалось в рекламе: и экзамены в Университет интернатовцам необходимо было сдавать на общих основаниях; и проценты их поступления туда на деле выходили уж очень скромными; да и с наукой всё обстояло не так просто, легко и радужно, опять-таки, как писалось и рекламировалось академиком и его помощниками в статье, – о чём теперь уже Вадик доподлинно мог судить на примере своих одноклассников, товарищей школьных, приехавших с ним в одно время учиться в Москву…
У Стеблова подобрался достаточно сильный класс, юными дарованиями богатый. Двенадцать его воспитанников из тридцати являлись участниками июльской Всесоюзной математической олимпиады, понимай: были победителями олимпиад областных, первыми математиками у себя на родине. Пятеро же из них и вовсе вернулись с главного интеллектуального школьного форума в СССР с дипломами первой и второй степени – стали победителями и призёрами общесоюзной олимпиады то есть, которая тогда даже выше Международной котировалась, где русские дети всех легко побеждали, увозили оттуда главные всегда призы. Из них, победителей и призёров этих, и формировалась в десятом классе сборная команда юных советских математиков для участия в ежегодных международных баталиях на территории стран социалистического содружества; они были интеллектуальным цветом молодой России, короной её золотой: их на мехмат без экзаменов принимали и не жалели потом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































