Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
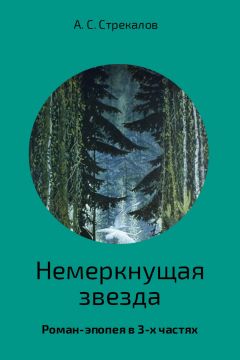
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Зато для самих ребятишек, воспитанников спецшколы, родительские трудовые денежки, по мере их поступления на московские банковские счета, роль играли наиважнейшую. Они автоматически превращаясь для них в этакую охранительную индульгенцию, или надежнейший гарант того, что из интерната их уже никто и никогда не выгонит – как бы после этого они ни учились и как бы там себя ни вели. В этом, отметим здесь мимоходом, и состоит главный грех и главный порок всех денежно-финансовых отношений в школе, именно в этом неэффективность платного образования заключается, которое тугой кошелёк, мошна так называемая губит и гробит прямо-таки на корню. Потому что богатеньких бездарей и пройдох стальной бронёй от трудностей и проблем отгораживает, от тех же самых учителей и их наказаний…
Охранительную систему эту смышлёные ребятишки на себе быстро почувствовали: вундеркиндами слыли не зря. И понимание истинного положения дел в новой школе не очень-то стимулировало поэтому их образовательную активность; как не стимулировала её ни в малейшей степени и чрезмерная загруженность интернатовского двухкорпусного общежития, вероятно рассчитанного первоначально на куда меньшее количество жильцов.
И ещё здесь заметим по ходу дела, раз уж про жилищные условия зашёл вопрос, что человеческое общежитие во все времена было и остаётся штукой коварной и малоприятной. Уже тем, хотя бы, что неотвратимо и безжалостно подчиняет волю отдельно взятого индивида своей коллективной воле, нивелирует и размазывает её, низводит до такого предела, за которым уже теряется личность, за которым гуляют “стада”. Чем крупнее и разношерстнее людская масса, собранная под одной крышей, – тем сильнее и жёстче влияние её, способное перемолоть-перетереть любого; превратить его – изначально самобытного и яркого человечка, от рождения “сучковатого” и “угловатого” – в говорящее, гладко “оструганное” существо, тупое, безликое и безвольное, лишённое всякой индивидуальности.
В общежития можно собираться на время для решения глобальных задач: войны выигрывать, например, гигантские заводы и плотины с каналами строить, ликвидировать последствия катастроф, – но долго в общежитии жить нельзя. И уж совсем невозможно в нём заниматься творчеством.
Творчество – сугубо индивидуальный процесс, непостижимо и невероятно тонкий, необходимо требующий тишины, покоя полного, полной сосредоточенности. Требующий того, одним словом, против чего выступает активно и с чем всегда так яростно борется коллектив. Тишина, покой, одиночество просто обязаны быть, ввиду этого, непременными атрибутами любого учебного заведения, претендующего на роль элитарного. И охраняться там самым строгим и самым жёстким образом.
Это прекрасно понимали, судя по результатам, в XVIII-ом веке в Благородном пансионе Хераскова М.М., где и комнаты отдельные пансионерам предоставлялись, и воспитатели личные, и индивидуальные на год планы. И совсем не понимали, похоже, в веке XX-ом в интернате академика Колмогорова, не желали понимать: создавали интернат для галочки, для славы личной и обогащения.
Забитые до отказа комнаты обоих интернатовских корпусов, и полная бесконтрольность учащихся со стороны администрации школы – яркое тому подтверждение…
По прошествии первых недель новобранцы-девятиклассники, вволю набегавшиеся по Москве и перезнакомившиеся друг с другом, и даже уже успевшие соседям по комнате поднадоесть, а кое с кем и перессориться-переругаться, – девятиклассники всё же начали понемногу втягиваться в учёбу. Библиотеку принялись посещать и читальные залы, больше обращать внимания на заданный на дом материал. Однако же, делали они это всё равно не так, как того от них требовалось и как ещё недавно совсем они занимались дома – не так старательно и продуктивно, и целеустремлённо, главное. Любая шалость или забава чья-то, которым не видно было конца, или придуманная кем-то игра надолго притягивали их внимание и, соответственно, выбивали из колеи, из учебного ритма. Дети мгновенно вписывались в забаву-игру и сразу же забывали про планы собственные и намерения, про набранные в огромном количестве книги, которые в тумбочках каждого принуждены были подолгу лежать не раскрытыми и не прочитанными – часа ждать своего, как и самого хозяина непутёвого…
13
Жизнь нашего героя Стеблова в новой школе, которого мы вынужденно оставили и к которому теперь возвращаемся, передохнув, мало чем отличалась от жизни большинства его сверстников, приехавших в интернат вместе с ним. И первый в столице месяц, конкретно если, по существу, он также ошалело пробегал по Москве в сопровождении школьный друзей: знакомился со столицей жарко, красотами её любовался, масштабом и достопримечательностями. Возвращался в общагу поздно, как правило, к ужину. А поужинав, он в свою комнату бодро шёл с твёрдым намерением в оставшееся до отбоя время заняться-таки, наконец, уроками и пройденным в школе материалом.
Намерения эти, однако ж, серьёзные и искренние всегда, на глазах рассыпались и исчезали, как только он порог 201 комнаты переступал, в которой его поджидали отужинавшие и отдохнувшие от дневной беготни товарищи.
И начинались меж ними сразу же забавы и состязания детские, в число которых входили волейбольные и баскетбольные игры в спортзале, который сутками не закрывался на радость всем, различные рукопашные схватки, армреслинг и отжимания – это уже в самой комнате, если в спортзал не охота было идти. А также нешуточные битвы подушками – шумные, жёсткие, порою и вовсе жестокие, – которые останавливал только погашенный в общежитии свет да строгие окрики дежуривших воспитателей, заставлявшие разбушевавшихся молодые парней умерять свой воинственный пыл и успокаиваться.
Вознёй разгорячённые дети, раскрасневшиеся, растерзанные, взмокшие, разбирали тогда постели с неудовольствием, умывались наспех, чистили зубы и быстренько укладывались спать. Но ещё долго не смолкали в комнатах их приглушённые голоса, возбуждённо доказывающие что-то друг другу, кого-то громящие и ниспровергающие – если и не на деле, то на словах.
Заводной и от природы азартный, физически хорошо развитый Вадик был непременным и едва ли не главным участником всех этих состязаний и битв, в которых он неизменно одерживал верх, выходил победителем над своими менее развитыми погодками. Победы радовали его, естественно, возбуждали и поднимали в собственных глазах, дразнили и тешили, плюс ко всему, его было угасшее уже спортивное самолюбие… Но, одновременно, они решительно перечёркивали учёбу, до которой не доходили руки, на которую у него не оставалось ни времени, ни сил. Он ложился спать в первый месяц, не сделав фактически ничего; и наутро так и шёл ни с чем на очередные в школе занятия…
Так вот беспутно и бесполезно, с нулевым результатом, по сути, и пустым же образовательным багажом, прошли-пролетели у него первые самостоятельные московские недели. И длился тот его интернатовский карнавал до тех пор, пока не наступило отрезвление, и совесть пока криком кричать не принялась – звать к дисциплине, к работе.
Отрезвление постепенно наступало у всех: это – дело понятное и естественное для ответственных и трудолюбивых детей, какими пансионеры в общей массе своей и были. У Вадика оно началось в октябре, когда с деревьев последняя листва облетела, и от этого уныло и неприглядно стало на улице – холодно, одиноко, пустынно. Осенняя пустота и мрак, грязные лужи повсюду, холод с сыростью вперемешку отразились горечью и в его душе, навеяли чёрные мысли.
«…Опять я сегодня дурака провалял весь вечер, – октябрьской бессонной ночью с грустью подумал он однажды про своё московское житьё-бытьё, беспокойно с боку на бок переворачиваясь, остывая и отходя в ночной тишине от вечерних спортивных побед и жарких словесных споров. – А ведь собирался и лекции почитать, и порешать задачи… и даже книжки необходимые приготовил, конспекты… Что-то я тут не успеваю ничего, совсем-совсем. А ведь столько времени уже проучился… Нельзя так, Вадик, дорогой, нельзя. Добром такое разгильдяйство не кончится…»
Он, помнится, подумал так и машинально стал подсчитывать в уме количество прожитых в интернате дней – безусловно, ярких и запоминающихся с позиции развлекательной, но совершенно пустых, бесполезных в образовательном плане, – и ужаснулся, закончив подсчёт, что так долго уже, оказывается, не может настроиться на рабочий лад, войти в привычное учебное русло.
И странное чувство овладело им, что с успехом в себе два взаимоисключающих настроения совмещало: настроение большого, яркого праздника, со дня приезда сопровождавшее его, и настроение всё возрастающей день ото дня тревоги, губившее тот праздник на корню.
Тревога его не была напрасной, не на пустом месте зрела. Ведь больше месяца уже прошло, как он отучился в Москве. А что он выучил здесь за это время? узнал? что новенького запомнил и понял?
«…Да ничего! – ещё раз взвесив всё, через минуту-другую отвечал он честно, как на духу, прижимаясь горячим лбом к холодной стене общежития и лёгкий озноб ощущая. – Хожу на лекции, вроде бы, на семинары, внимательно слушаю учителей и тщательно записываю их уроки в тетрадку, – дотошно ворошил он в памяти улетевшие безвозвратно дни, – а потом прихожу в комнату после обеда, складываю записи в стопку – и благополучно про них забываю на протяжении целого месяца. Хороша же она – здешняя моя учёба! – нечего сказать!… Стоило было за такой учёбой в Москву приезжать, бросать дом насиженный и всё остальное…»
Думка о доме отчётливо воскрешала в нём совсем ещё свежие воспоминания о родителях, брате и сестре и, конечно же, о школе прежней, родной, в которой он до интерната учился, был на хорошем счету, схватывал всё легко и быстро… И сразу же, ответной реакцией, другая мысль начинала отчаянно одолевать, крамольная для нового места жительства и учёбы: что останься он теперь там, как Збруев Сашка, к примеру, не отправься один в Москву, – то уже перерешал бы, наверное, гору задач в спокойной-то обстановке, отправил бы пару контрольных в ВЗМШ, которую теперь он вынужден был оставить.
«…Удивительное дело, – лежал и поражался Вадик, правую руку под голову положив, а указательным пальцем левой руки бетонную стену легонько царапая, – но за прошедший месяц я не решил здесь самостоятельно, по-моему, ещё ни одной задачи – ни математической, ни физической – никакой. В классе со всеми вместе решаю, да. А дома – ни одной. Совершенно! Только по Москве ежедневно мотаюсь как угорелый, да дурью маюсь по вечерам до отбоя самого, да на койке трутнем валяюсь – языком чешу. И только-то… Хорошую я себе здесь житуху устроил по собственному почину – нечего сказать! Сытую да привольную!… А родители за эту мою житуху ежедневно по многу часов горбатятся, копейку последнюю мне сюда высылают, а сами на голодном пайке сидят, зубами по-волчьи щёлкают, чтобы я здесь безбедно и беззаботно жил, чтобы учился старательно, их не позорил… Видели бы они, как я теперь учусь, – что бы на это сказали?…»
Невесёлые мысли эти разгоняли последние остатки сна. Как и остатки праздничного настроения, что с вечера в нём гуляло. Ему горько и стыдно делалось за себя, за своё теперешнее поведение…
«Нет, хватит, Вадик, дурака валять, хватит! – твёрдо решил он далеко за полночь, пристыжённый, расстроенный и собой категорически недовольный, себя самого ремнём будто бы мысленно выстегав и в чувства от подобного самосуда придя. – С балаганом этим, что здесь творится, надо быстрее кончать… и быстрее за ум браться… А то так незаметно скворцом оба года и просвищу, как просвистал я уже весь прошедший месяц… И придётся мне тогда ни с чем домой возвращаться – олухом столичным, недоучившимся, – чтобы потешились там все надо мной, от души порадовались-посмеялись…»
14
Долго сюсюкать-настраиваться Вадик никогда не любил: не такого был склада-характера. Уже на другой день после той памятной октябрьской ночи усилием воли он резко поменял свою молодую московскую жизнь: шальную, безалаберную, беспечную, – постаравшись её по возможности максимально приблизить к домашней, которую он теперь уже считал образцом, считал идеалом.
И первое, что он сделал на этом пути, – это прекратил бесцельные по Москве шатания, более всего его развращавшие и расхолаживавшие, отвлекавшие от школы, от дел.
«Посмотрел столицу, порадовался, поближе познакомился с ней – и хватит, – подвёл он мысленную черту, итожа прожитое. – Пора, наконец, и за книги садиться, за лекции. Время – оно не ждёт: вон его уже утекло сколько, пока я тут улицы и проспекты топтал, и по магазинам носился…»
Вторым его революционным шагом было сокращение до минимума времени нахождения в общежитии – места страшного, как понял он, а для молодых горячих парней – и вовсе “смертельного”. А точнее если – в комнате №201, его собственной комнате то есть, куда он старался забегать в октябре лишь в самых крайних случаях: чтобы помыться и переодеться после уроков, забрать необходимые вещи и книги, да ещё чтобы выспаться как следует перед следующим учебным днём, как и дома становившимся для Вадика культом… Все остальные послеобеденные часы, значившиеся по расписанию как личные, он честно в учебном корпусе интерната начал просиживать: в трёх его залах читальных, в библиотеке, – поначалу наивно полагая там от многочисленных товарищей понадёжнее спрятаться, как саранча на него свалившихся…
Решившись на такое принципиальное новшество – абсолютно радикальное для себя и волевое, – наш интеллектуально изголодавшийся герой с жаром бросился догонять ушедшее вперёд время… и преподавателей интернатовских, лекторов и семинаристов, многое чего им за сентябрь-месяц объяснить и задать успевших. В октябре он уже не шалопайничал, мяч не гонял и на подушках остервенело не дрался, в комнате попусту не чесал языком, – всё это в прошлом осталось. Теперь же он ежедневно честно в читальный зал приходил с ворохом книг под мышкой, с кипой журналов научных, пособий разных, брошюр, рекомендованных им московскими учителями, и, заняв свободное место в дальнем углу, бросался на книги горячо и жадно, как только бросается голодный зверь на зазевавшуюся вдруг добычу. В один присест он намеревался прочесть их все, как следует изучить, хорошенько понять и запомнить – горяч был до крайности парень! всегда и везде! Чтобы уже назавтра снова пойти в библиотеку и обменять те книжки и журналы на новые, непрочитанные и непознанные ещё, коими до потолка их библиотека была забита, и корешки которых с громкими фамилиями и названиями восторгом отдавались в нём, к себе как магнитом притягивали. Дай ему волю тогда – торопыге несдержанному и нетерпеливому, месяц потерявшему просто так и виноватым себя за тот учебный простой ощущавшему, – и он переселился бы в книгохранилище насовсем с вещами-пожитками. И так бы и жил там безвылазно в окружении диковинных фолиантов, которые бы он перелистывал бережно, постигал, за которыми бы трепетно ухаживал…
Итак, усевшись поудобнее в зале и воздуху полную грудь набрав, что делал всегда перед ответственными мероприятиями и до интерната, и после, что было у него традицией и торжественным ритуалом одновременно, он первым делом за домашние задачи хватался в надежде быстренько перерешать их все и отложить потом с лёгким сердцем в сторону, – чтобы не висели они над душой, не маячили, не мешали лекции изучать, книги читать мудрёные. В этом, к слову сказать, для Стеблова не было ничего нового: он и у себя на родине последний год учился похоже, лихо расправляясь по вечерам с задачками Лагутиной Нины Гавриловны и также лихо переходя с них потом уже на задания Всесоюзной заочной математической школы, куда более сложные и привлекательные для него, куда более интересные. По такой же точно схеме он решил учиться и тут.
Отлаженная дома метода, однако ж, для Москвы не годилась совсем, была в корне порочной и ущербной. Потому как задачи, предлагавшиеся в интернате на дом, простыми и лёгкими не были, и с наскока прежнего, кавалеристского, их было уже не решить. Для них серьёзная теоретическая подготовка требовалась, которой не давали новые учителя, или – почти не давали. Требовались знания учебников Фихтенгольца и Куроша, Моденова и Мальцева и многих-многих других солидных и мудрых авторов и их книг, по которым не один десяток лет закладывали мощный фундамент универсальной математической культуры студенты Московского Университета, и которые, в свою очередь, обязан был теперь изучить и Вадик. Без этого учёба в колмогоровской школе теряла всяческий смысл, потому как уже изначально на знание содержаний этих учебников и была настроена. По крайней мере – первых их глав…
Когда Стеблов это ясно понял, – он быстренько отложил в сторону приготовленные задачники и также быстро, ни сколько не расстраиваясь поначалу, на теорию внимание переключил, на изучение основ современной алгебры и анализа.
Фихтенгольц и Шилов со своими мудрёными курсами давались Вадику трудно; чуть легче давались Курош с Моденовым. А ведь им, по простоте душевной, были рекомендованы на уроках ещё и недавно переведённая (первая половина 1970-х) на русский язык "Алгебра" американца Лэнга, которую в Университете только-только пробовали ещё изучать студенты и аспиранты мехмата, специализировавшиеся по соответствующей кафедре, а также ходившие полулегально ротапринтно-изданные лекции академика Шафаревича.
От последних двух авторов-алгебраистов, равно как и от нескольких, в сентябре прочитанных лекций Колмогорова у Стеблова уже через пару десятков страниц голова начинала кружиться как у пьяного, потом гудеть начинала, болеть. И он, измученный неподъёмным чтивом, тяжело откидывался на стул, чтобы передохнуть и отдышаться немного, усталость, умственное перенапряжение снять. Он сидел так какое-то время, не двигался… и только посматривал безвольно и отрешённо на разложенные перед ним на столе стопки толстенных книг, увесистых и необъятных, которые ему все не только пролистать необходимо было, пыль со страниц смахнуть, но и прочесть, и понять как следует, и запомнить. И уже одно созерцание это повергало его в лёгкий шок, если не сказать в ужас…
«Порешать сегодня, наверное, я уже ничего не смогу – ни по анализу, ни по алгебре, – досадливо, но всё ещё спокойно пока начинал думать он ближе к отбою, к двадцати трём часам, окончательно выбиваясь из сил и не продвинувшись в штудиях ни на йоту. – Опять у меня день впустую прошёл, фактически, – уже какой по счёту?!… Ладно, завтра я постараюсь немножечко поплотней поработать, поинтенсивнее…»
Но назавтра картина в точности повторялась, как под копирку прямо. И он – уже торопящийся, за один раз мечтающий всё наверстать, всё осилить: и что по глупости ранее пропустил, и что им наперёд задавали, – он опять надолго и глубоко увязал в университетских теоретических курсах: тяжеловесных, мудрых, системообразующих, – которые не допускали по отношению к себе и малой толики поспешности и суеты, и малой толики легкомыслия, и о которые обломали зубы до самых корней не один десяток лихих нахрапистых удальцов, вдруг возомнивших себя непонятно с чего большими и серьёзными учёными…
К таким легкомысленным удальцам на первых порах, к сожалению, относился и наш юный герой, Вадик, совсем не умевший в интернате верно оценивать и распределять свои силёнки интеллектуальные, скромные, бережно к ним относиться, беречь. Молод он был тогда и неопытен, и очень искренен, очень страстен в душевных порывах своих, которые некому было проконтролировать, проследить; и если и не остановить совсем, то хотя бы чуть-чуть подправить и ослабить.
К тому же, он упустил в сентябре до обидного много драгоценного времени, которое неизменно с глубоким почтением воспринимал, которое не было для него даже и в детские годы предметом пустым, бесполезным. Стук настенных часов, например, что дома у них на видном месте висели, и которые батюшка с любовью всегда заводил, с неким трепетом внутренним и наслаждением, с каким обычно монах церковный обряд исполняет, – так вот этот таинственный стук Стеблов класса с пятого воспринимал уже как набат, или, попроще если, без пафоса, как этакий говор-намёк мистический, в котором отчётливо слышало ухо его: «быстрее, быстрее, быстрее, Вадик, а то можно и не успеть, не успеть, не успеть… и будет потом обидно, обидно, обидно… что чего-то не сделал, не посмотрел, не запомнил, что мимо себя пропустил…»
Оттого-то он, полу-монах, полу-мистик, и торопился очень, проваляв весь сентябрь дурака; оттого и бросался на книжки как лютый зверь, не зная меры и удержу…
Но и книги московские, гонористые, были не слабые совсем и не робкие, и уже выдерживали на своём веку и не такие наскоки. Все они очень спокойно и важно, по-царски солидно даже перед ним на столе лежали и, вероятно, только посмеивались меж собой, все-понимающе переглядывались и перешёптывались, – но не пропускали Вадика далеко в свои мудрёные кущи.
«Рановато тебе, юнец, нас изучать ещё, таскаться по интернату с нами, – будто бы говорили они ему, улыбаясь, всем своим видом подчёркнуто-гордым излучая достоинство внутреннее и красоту, вековечную мудрость и мощь. – Зелен ты, парень, зелен… и очень, извини уж за честность, глуп, чтобы на равных беседовать с нами, понимать и заучивать нас. Подрасти, поумней малость, – тогда, может, и поговорим…»
Ежевечерние бесплодные потуги и пробуксовки, топтания на месте на Стеблова действовали удручающе, и больше всего отнимали у него в интернате сил – больше самих классных занятий даже. Ощущая раз за разом свою беспомощность полную перед рекомендованной им на уроках литературой, он стал заметно нервничать, уставать и, как и всякий дилетант-новичок, – суетиться.
Увязнув, в очередной раз, в одном из новых учебников и не видя возможности быстро оттуда выбраться, Вадик, теряя терпение, менял этот учебник на другой; потом – на третий, четвёртый, стараясь найти для себя таким образом наиболее лёгкий из них и хотя бы в нём немного продвинуться и утешиться. Чуть-чуть успокоиться и отдохнуть, душевных сил победою почерпнуть, веры, надежды, здоровья.
Но учебники, как на грех, все были глубокомысленны и сложны и, как по команде, стояли насмерть в своём горделивом величии, в упорстве незыблемом, неприступном, не пуская Стеблова, повторимся, далее первых десяти-пятнадцати страниц, и первых же, самых общих понятий и определений… И оставалось ему, слабосильному, только лишь тупо тасовать их между собой как карты игральные, незнакомые, или билеты с экзамена, в которых не знаешь ни одного, и ни грамма не понимаешь…
Со стороны если бы подойти и взглянуть, он в точности походил в такие моменты на круглолицего мальчика-малыша: розовощёкого, плотного, хорошо сложенного, но очень и очень глупого, к сожалению, – которого на потеху будто бы лихие люди заманили в спортзал – к стальным неподъёмным гирям поближе, что предназначены были для мастеров.
«Ну-ка, малыш, давай покажи себя: утри им тут всем носы сопливые, – ухмыляясь, сказали они ему. – Ты же такой красивый и статный, посмотри. И такой здоровенный уже: мы таких крепышей никогда и не видели раньше… Да ты тут с силищей со своей минут через пять, играючи, заткнёшь всех за пояс, на обе лопатки положишь как пацанов! – точно тебе говорим! не обманываем!… Представляешь, как после этого зауважают здесь все тебя, как будут превозносить и славить! Королём тут будешь у них ходить – грозой всех местных авторитетов!… Так что давай, малыш, потрудись немного и поднапрягись – и потом только ходи и посвистывай, и загребай в охапку заслуженные похвалы и славу».
Они сказали так – и отошли с ехидной улыбкой в сторону в предвкушении весёлого зрелища. А глупый мальчик после того, сверх меры их похвалой и сладкими обещаниями раззадоренный, очумело начал метаться по залу, тужиться, животик себе тяжестями надрывать – и всё без толку. То одну железяку вверх рванёт что есть мочи, то другую, то к третьей подбежит с дуру: мучается, пыхтит, плачет с досады, жилы и мышцы рвёт, – всё впустую и всё напрасно. Они как вкопанные все стоят – гири-то те пудовые – и только посмеиваются про себя над сотворённой озорными дядями шуткой…
Похожими неподъёмными “гирями” для Стеблова оказались и новые учебники, настоятельно рекомендованные ему его московскими педагогами. Итог тех необдуманных рекомендаций был таков, что математикой в интернате, с октября-месяца начиная, Вадик занимался уже весь день – до отбоя! И всё равно он мало чего успевал – даже и по математическим дисциплинам.
А у него ведь были ещё и другие предметы, требовавшие к себе внимания. В их числе значились и профилирующая физика, и химия, и русский с литературой, история; и тот же английский язык, которым в интернате заменили Стеблову его прежний немецкий, и который необходимо было осваивать с нуля ускоренным темпом. Потому что английский традиционно был главным языком общения в современном научном мире: все мировые математические конгрессы, конференции и симпозиумы проводились на этом языке, печаталась вся солидная передовая литература.
А ещё Стеблов таскал с собой в читальные залы годовые подшивки журналов "Квант", "Наука и жизнь", "Знание – сила", о существовании которых узнал в Москве и которые сильно его тогда заинтересовали. Их тоже хотелось все прочитать: понять, заучить, запомнить, – и они требовали для себя немалого количества сил, и времени, главное, которого у Вадика не оставалось совсем, которое у него пролетало так, что становилось страшно… Не успевал он после обеда усесться в читальном зале и открыть там книгу какую-нибудь, не успевал по-настоящему углубиться в неё, вдуматься и вчитаться, – как уже нужно было подниматься и бежать на полдник за киселём; потом – на ужин за макаронами и чаем… После ужина до отбоя времени было побольше, но и оно пролетало как один миг: книжки мудрёные его быстро съедали…
Подобное положение дел, естественно, Стеблова совсем не устраивало. Не для того же он, в самом деле, приехал за триста километров в Москву, чтобы только есть здесь и спать, и бесславно транжирить время в аудиториях и читалках, корча из себя Бог знает кого: толи учёного молодого, толи потешника-клоуна; не для того так рано расстался с семьёй и родиной. Было ясно, что он должен учиться здесь куда лучше и продуктивнее, чем учился дома – хотя бы потому уже, что за его учёбу здешнюю родители немалые деньги платили. И в первую очередь, конечно же, он должен был хорошо учить математику. Для неё он просто обязан был находить время и силы, находить столько – сколько того потребуется.
Всё остальное – тлен и суета, всё остальное – лирика…
15
Так думал, печалился и рассуждал сам с собой наш молодой герой, когда в конце октября, в очередной раз расстроенный и неудовлетворенный, на отдых вечером возвращался в шумное школьное общежитие. Он ясно понял тогда, угрюмо и одиноко шествуя по длинному стеклянному переходу с огромным ворохом непрочитанных книг и журналов под мышкой, что ему катастрофически не хватает в интернате именно времени – “личного”, главным образом, послеобеденного и само-подготовительного, более важного даже, чем занятия в классе. И необходимо было срочно изыскивать его, каким-то способом удлинять – для увеличения продуктивности индивидуальных занятий… А вот как удлинять? за счёт чего? – тут уже нужно было прикидывать и решать самостоятельно, потому как помощников и подсказчиков в таких делах у него здесь не будет…
Первое – и очевидное – решение, которое пришло ему на ум, и которое в нём как-то само собой вызрело и оформилось, было: перестать ходить на уроки, отведённые под непрофилирующие предметы, пусть даже пока через раз. А вместо этого приходить лучше утречком в читальный зал и заниматься там всё это время любимым и действительно стоящим делом, математикой – понимай, ради которой, собственно, он и затеял всю эту с интернатом историю.
«Ну зачем мне, в самом деле, тратить по нескольку часов в неделю на какие-то географию с биологией? – резонно рассуждал он сам с собой перед сном. – Если я после школы собираюсь на мехмат поступать, профессиональным математиком становиться… А там, как рассказывают, кроме математики ничего больше и не преподают, там других предметов просто не знают… Там даже физики, говорят, нет в расписании, для которой отдельный факультет существует… Так и зачем, стало быть, мне пыхтеть тогда здесь по этим предметам, бездарно и тупо на них драгоценное время просиживать? Чтоб через год благополучно всё это забыть?!… Нет, глупо это, глупо и расточительно…»
«Десятиклассники, вон, вообще на занятия не ходят, по-моему, – продолжал далее думать он, готовя себе к вольной жизни почву. – Как ни пройдёшь утром мимо читального зала: за журналом ли классным когда пошлют или просто когда на урок опоздаешь, – всё они там сидят – занимаются… И не выгоняет их оттуда никто, никто не ругает… Они же работают все, стараются, математику учат, – чего их, стало быть, и ругать? За что?»
«…А в нашем классе что происходит, когда кто заболеет, к примеру, и на урок не придёт? – приводил он последний, самый весомый довод. – Кроме Димы со Славиком никто и не спросит, не поинтересуется даже: где этот человек и что с ним? Да и опроса-то никто не проводит перед уроками, в журнал почти не заглядывает. Хоть неделю не приходи, хоть месяц. А хочешь – вообще домой уезжай: никто и не потревожится твоим отсутствием. Всем это – до лампочки… Нас тут и в лицо-то ещё мало кто знает, – так что некому нас проверять и ругать…»
И однажды пасмурным октябрьским вечером рассудив таким хитрым образом, настроившись на такую радужную для себя волну, Вадик действительно стал пропускать географию и биологию неинтересные, которые вели у них молодые университетские аспирантки, совсем не следившие за посещаемостью и классом, которым, по-молодости, было на всё плевать… Потом он и химию стал “задвигать”, историю и обществоведение. И даже на физику иной раз не ходил, предпочитая семинары высокомерного Гринберга самостоятельным занятиям с книжкой.
Поначалу, правда, он прогуливал уроки не часто, с опаской некоторой за исход и годовые итоговые оценки. Но потом, к весне ближе, когда совсем уже осмелел и безнаказанность свою почувствовал, во вкус дела вошёл, – он географию с историей и биологией из собственной жизни вычеркнул окончательно – махнул на них совершенно рукой ввиду их полной ненужности.
И когда по расписанию в 9 "Б" очередь вышеперечисленных дисциплин подходила, – он с лёгким сердцем и совестью чистой (не в пивную же местную шёл!) покидал свою классную парту и прямиком направлялся в читальный зал на втором или третьем этаже, которые не закрывались и не контролировались, куда только уборщицы раз в неделю заглядывали – полы помыть. Там он с удовольствием предавался любимому делу – чтению математической литературы и решению положенных по программе задач. А за пропущенные предметы отдувались другие – кому они сильно нравились…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































