Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
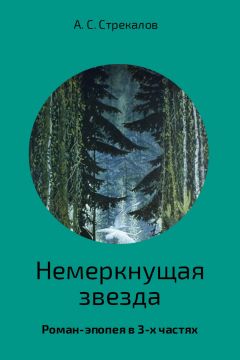
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
И как ни тяжело ему было весь день, ни грустно, как ни хотелось плакать порой, чего он сроду не делал, с далёкого Ташкента самого, – сынком своим старшим, как ни крути, он всё ж таки был доволен, понимая прекрасно, что тот за последний год совершил; как хорошо понимая и то, безусловно, что подобные приглашения в Москву не каждому ещё и получить случается… Збруеву Сашке, к примеру, приглашения не последовало. А Збруев, понимал отец, был сыну его не ровня. Даже и близко…
«Нет, как хотите думайте и судите, но Вадик наш – молодец! красавец-парень! умница! Сразу поступил, без сучков и задоринок! – всю ночь, как помешанный, тихо шептал он на полке пересохшими и потрескавшимися губами, мечтательно уставившись взглядом в чёрный, как смерть, потолок. – Может, и впрямь учёным станет, каким-нибудь академиком или профессором мировым, с такими же мировыми открытиями… А что?! Ломоносов-то, он рассказывал, тоже вроде бы из простых был, из мужиков северорусских, – а каких высот, в итоге, добился, чего наворотил!… Может, и Вадик наш поднатужится и дерзнёт, и достигнет в науке того же… Математиком станет большим, знаменитостью. Может, даже книжки мудрёные начнёт писать – на зависть родственникам и соседям. Всем им тогда носы утрёт, всех переплюнет, сук поганых… У нас ведь в городе-то, ежели разобраться, колотёсы одни да пьяницы-неудачники с незаконченным высшим образованием. И это, в лучшем случае. А гонору у всех – как у певца Кобзона! На сраной козе не подъедешь! Все – “гении”, ядрёна мать, все – с апломбом. Морды вверх задирают при встрече как на параде, высокомерно щурят глаза и как на букашку на тебя смотрят, ничего не значащую! Потешные клоуны-гордецы! Так хочется, чтобы Вадик их всех приземлил, на место подобающее поставил!… Может, и поставит, даст Бог! Он, вроде бы, загорелся наукой… И, кажется, – всерьёз. Так и зачем, стало быть, крылья ему подрезать на первом же самостоятельном шаге?! Не надо этого, не надо…»
Перспектива иметь в недалёком будущем учёного сына, сына-академика, грела душу отцу словно солнце весеннее, сердце его клокочущее успокаивала, студила кипевший мозг.
«Ладно, пусть учится сынок и веселее живёт, пускай осваивается в Москве побыстрее и поосновательнее, – с надежною думал отец под утро, когда за окном начало уже рассветать, а Москва опять далеко позади осталась – в воспоминаниях незабываемых. – Нам с женой не удалось пожить из-за войны проклятой, выучиться не удалось, в люди выбиться, – так хоть детки наши пускай поживут, как хотят, к чему имеют наклонности… А взять его оттуда можно в любой момент – хоть завтра!… Вот получим от него первое письмо, и если почувствуем с матерью, что плохо ему в Москве, тоскует парень, мается на чужбине – сразу поеду и заберу его: слово даю! клянусь всеми святыми на свете!…»
Глава 4
1
Во второй половине XVIII века, 15(26) декабря 1778 года, российский поэт, прозаик и драматург либерально-просветительского направления, густо сдобренного космополитической масонской белибердой про якобы ужасающие пороки монархии, порядка и патриотизма и, наоборот, про якобы идеальное устройство республики, основанной на парламенте, на конституции, Херасков Михаил Матвеевич, основал при Московском Университете, куратором которого являлся, Благородный пансион для отпрысков тех провинциальных дворянских семей, где не чурались светского образования и не считали его лишним бременем для своих подрастающих, изнеженных и избалованных чад, хозяев крещённой собственности, где думали о духовном, возвышенном, вечном… ну и о светской карьере, естественно, для которой всегда был нужен диплом. Событие это – открытие Пансиона – было знаменательно уже тем, что в Первопрестольной появилось новое учебное заведение для юношества “особого рода и статуса”, по образу и подобию которого создавался впоследствии императорский Лицей в Царском Селе под Петербургом швейцарским масоном Лагарпом, воспитателем Александра I, и русским иллюминатом М.Сперанским; равно как и все другие лицеи и пансионы – привилегированные средние или высшие учебные заведения Императорской России. А это что-то да значит… К тому же, университетский Пансион и его отец-основатель имеют косвенное отношение и к данному повествованию. Поэтому хочешь, не хочешь, а стоит про них пару слов рассказать – для лучшего понимания сюжетной линии.
Так вот, Михаил Матвеевич этот был сыном валашского боярина стольника Матея Хереску, переселившегося в Россию в начале восемнадцатого века, при Петре I. Матушка двухгодовалого Миши Анна Даниловна Хераскова, после смерти супруга в 1734 году, в ноябре 1735-го вторично вышла замуж за генерал-кригскомиссара Изюма князя Никиту Юрьевича Трубецкого, который и стал троим её малышам приёмным отцом и которого в сентябре 1740 года назначили генерал-прокурором Петербурга, куда он и переехал с семьёй на жительство.
Имея такого родовитого отчима, Михаил Матвеевич автоматически вошёл в круг высшей Российской аристократии и потому смог получить в Петербурге, в Сухопутном шляхетном корпусе, довольно-таки приличное по тем временам образование – настолько приличное, что умудрился за свою долгую 74-летнюю жизнь запечатлеть себя практически во всех литературных жанрах и течениях. И трагедии пописывал он с комедиями, и басни с одами и сатирами, и даже огромные по объёму эпические поэмы выходили из-под его пера. Всё смог объять и обдумать этот удивительный человек, везде испытать и приложить себя – и настолько успешно, надо заметить, настолько качественно и мастеровито, что даже и Пушкин потом без конца цитировал Хераскова в своей “Капитанской дочке”.
А ещё слыл Михаил Матвеевич деятельным масоном-романтиком, помешанным на пустых по сути своей, но крикливых и ярких по форме идейках “свободы, равенства и братства”, которые усердно стряпали на тайных политических кухнях и затем также усердно вдалбливали в наивные русские головы “вольные европейские каменщики” – Вольтер, Мирабо, Кондорсе, Сен-Мартен и им подобные искусители-хитрецы – похабники патентованные и словоблуды, послушные воины Князя мира сего. А Херасков смотрел им в рот, Херасков на них молился, Херасков топтался им вслед по проторенным стёжкам-дорожкам, на которые, по природной мягкости и слабоволию, завёл его сводный брат Н.Н.Трубецкой, вероятно, человек достаточно ушлый и волевой, масон матёрый, сознательный, который и заставил Михаила Матвеевича плясать под сладкоголосую вражью дудку.
Херасков не сопротивлялся, слепо повиновался брату и его тайным покровителям из Европы. Он покорно принял от них либерально-просветительскую эстафету в России, приведшую, как известно, через сто с лишним лет к Революции и Республике. Сделавшись активным деятелем “просвещения”, “гуманистом” на европейский лад и пламенным поэтом масонства, он совместно с Новиковым, Фонвизиным, Радищевым и Шварцем оказал громадное влияние на общественное мнение в среде российских дворян и выработку самосознания современной ему молодёжи, либерально-космополитического по преимуществу, задал, можно сказать, тон всей нашей “передовой”, “прогрессивной” литературе, сугубо подражательной в основе своей и пустопорожней, но которая сыграла исключительную роль в разрушении Национальной России, в осквернении её святынь, её самобытности и достоинства. Ему же принадлежит и известный масонский гимн “Коль славен наш Господь в Сионе”, который распевался на собраниях масонских лож как ритуальный.
Далее про Хераскова надо сказать, что вся его сознательная жизнь, начиная с двадцатидвухлетнего возраста, волей судьбы была связана с Московским Университетом, в который Михаила Матвеевича пригласили работать одним из первых ещё в 1756 году на должность асессора – смотрителя за студентами. Потом он поочерёдно возглавлял университетскую библиотеку, руководил университетским театром, был попечителем типографии, выпустившей, помимо прочего, и первое “Собрание сочинений” Ломоносова.
С 1763 года по 1770-й он – директор Университета, а с 1778-го по 1802 год – его четвёртый по счёту куратор. А поскольку первые три куратора – И.И.Шувалов, В.Е.Адодуров и И.И.Мелиссино – не проживали тогда в Москве, Херасков в течение 4 лет (1778-1782 гг.) являлся по сути единственным Московского Университета управителем (пока Мелиссино находился за границей) и многое чего успел натворить, отличиться, так сказать, по масонской части – преобразовал Университет кардинально.
Так, 15(26) декабря 1778 года он подписал Указ о создании упомянутого выше Благородного пансиона, хотя при Университете с первого дня существовала гимназия – и для детишек дворян, и для разночинцев. И пансион в образовательном плане (ежели тайные масонские виды и намерения исключить) был лишним к Университету довеском.
1 мая 1779 года он передал перебравшемуся в Первопрестольную иллюминату Н.И.Новикову в десятилетнюю аренду университетскую типографию под масонские нужды, где Николай Иванович, помимо прочего, официального и разрешённого, активно печатал подрывную “просветительскую” литературу.
1 августа 1779 года куратор Херасков вошёл в раж, освоился и осмелел – и принял в Университет на должность профессора немецкого языка махрового масона-мартиниста И.Г.Шварца, тёмную, гнилую личность непонятной национальности. И всё для того же – для морально-нравственного разложения студентов и пропаганды масонских идей.
Втроём они развили на удивление бурную и плодотворную деятельность по опутыванию Москвы стальными масонскими путами – открыли Педагогическую (1779) и Переводческую (1782) семинарии (молодёжные масонские центры по сути), организовали, начиная с 1779 года, Дружеское учёное общество – элитный масонский клуб, куда входили видные московские вольтерьянцы и мартинисты: князья Юрий и Николай Трубецкие, князь А.А.Черкасский, М.М.Херасков, В.В.Чулков, И.П.Тургенев, А.М.Кутузов и другие. Зачем это всё делалось? – спрашивается. Ответ очевидный и простой: для превращения патриархальной и православной Москвы, Духовного центра России и мира, в подобие развратного и холодного Петербурга, что стал со дня основания рассадником русофобии и безверия, антипатриотизма и космополитизма, очагом терроризма и мятежей, госпереворотов и революции.
Когда в 1782 году в Москву из загранкомандировки вернулся Иван Иванович Мелиссино, он пришёл в ужас от тех порядков и нововведений, что расцвели и господствовали в Университете при Хераскове с компанией. И первое, что он сделал – добился увольнения профессора Шварца, главного воротилу-растлителя, пропагандиста крамольных идей.
Но вернуть всё назад, как было до его отъезда, он не смог: масонство успело пустить в Москве и Университете через свои многочисленные организации и печатную подпольную литературу обильные и глубокие корни. Да ещё и имело могущественных покровителей при Дворе. Единственное, что он смог сделать за оставшееся до смерти время (умер 23 марта (3 апреля) 1795 года в Москве), что ему сделать позволили, – это завершить возведение Главного университетского корпуса на Моховой, в котором по давней мысли-мечте Ивана Ивановича была устроена домовая церковь святой мученицы Татианы (впоследствии ставшей покровительницей российского студенчества). Потому что «учащемуся юношеству ничего так к доброму воспитанию не нужно, – глубоко верил он, – как влагать в их сердца страх Божий, знание закона Христианского и его таинств»…
Закончить же начатый исторический экскурс – для полноты картины и правильного понимания прошлого – хочется вот чем. Хочется донести до читателей крайне важную, по мнению автора, мысль, которую необходимо знать каждому грамотному гражданину, но которую усиленно от русских людей скрывают на протяжении многих веков. А именно – что все высшие образовательные и культурные центры Императорской России – Петербургская (Российская) академия, Шляхетский корпус, Академия художеств и Московский Университет (со времён Хераскова) – находились под неусыпным и жёстким интернациональным контролем и бдительным интернациональным оком: там процветали либерализм и космополитизм, культ Запада и золотого тельца и совершеннейшее безверие. Все ключевые командные посты там занимали масоны – марионетки мировой “закулисы”, верные слуги тайного мирового правительства с берегов Темзы и Альпийских гор, что после правления Петра I (прозванного “великим” для отвода глаз) тотально хозяйничало в России, сосало из России кровь, мешало Россию с грязью. Оно через своих многочисленных ставленников при Дворе доводило до абсурда любое доброе начинание кого бы то ни было из верхних эшелонов власти, умело меняя задуманные ориентиры на прямо-противоположные: задумку М.В.Ломоносова, например, создать в Москве первый российский классический Университет, проникнутый державно-патриотическим Духом. Оно же, теневое правительство, превратило российские академии, университеты и лицеи в “помойку”, в источник духовной проказы и эпидемий, что поставляли Империи 200 лет озлобленных неврастеников в основном, убийц-террористов, диссидентов и лишних людей.
Поэтому не так уж и не прав был гениальнейший и прозорливейший В.В.Розанов, с грустью утверждавший однажды вперемешку с глубокой болью, что “вовсе не университеты вырастили доброго русского человека, а добрые, безграмотные няни”. Солидаризировался с ним в этом вопросе и бывший масон Жозеф де Местр, ещё при жизни Александра I предсказывавший, что Россию погубит “Пугачёв, который выйдет из Университета”. А лакей мировой закулисы Герцен, вспоминая университетские годы, писал: “Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдёт вслед за Пестелем и Рылеевым , и что мы будем в ней”.
Хорошенькая там у них, вероятно, собиралась компания, не правда ли – у Герцена с его закадычным дружком Огарёвым?! Русским патриотично-настроенным юнцам, во всяком случае, – таким, как М.Ю.Лермонтов, например, сбежавшим из Московского Университета, – там делать было совершенно точно нечего…{1}
Не избежали сей жалкой участи – разлагающего атеистическо-космополитического влияния – и Благородный пансион с Царскосельским Лицеем, увы. Лицей, например, задумывался в 1811 году как школа для “юношества особо предназначенного к важным частям службы государственной”. А в действительности, как и другие высшие учебные заведения после-петровской России, он превратился в рассадник масонских и вольтерьянских идей, в один из центров воспитания молодёжи в духе политического нигилизма и вольномыслия. Царскосельский лицей (Александровский после 1844 года) подготавливал лицеистов не столько к государственной службе на благо Родины, что прямо заявлялось в его уставе, сколько как бойцовых собак натаскивал их к вступлению в тайные противоправительственные общества и организации, конечной целью которых было: разрушить все троны и алтари, уничтожить все светские власти и Церковь, ниспровергнуть все госучреждения, сословия и состояния. То есть, под лозунгом свободы мыслей, убеждений и совести атомизировать народы России, как горох по стране рассыпать – и тем самым оставить русского человека один на один с холодным и хищным миром. Чтобы потом, одинокого и беззащитного, поработить его, заставить на лукавого дядю работать. Одинокий, он ведь не сможет никому дать отпор – ибо “один в поле не воин”. Это – общеизвестно! Вот какова была итоговая для каждого лицеиста цель, которая не высказывалась открыто, понятное дело. Приходится ли удивляться после этого, что многие воспитанники Лицея стали впоследствии декабристами.
Друг Пушкина декабрист-лицеист Кюхельбекер и вовсе был в эпицентре тех кровавых событий, стрелял в Великого Князя Михаила Павловича на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. И если бы не заступничество трёх матросов, успевших выбить из его рук пистолет, мог бы запросто брата Царя и убить не за что, то есть повторить “подвиг” подельника своего Каховского, в припадке ярости застрелившего генерал-губернатора Милорадовича, героя Отечественной войны.
Да и самого Пушкина обработали в Лицее в интернационально-разрушительном духе так основательно и умело, что потребовалась двухлетняя ссылка в Михайловское и последующая беседа с Императором Николаем I, чтобы Поэт (по молодецкой дурости и доверчивости вступивший в масоны) вернулся на великодержавные русские рельсы, сделался патриотом России и верным её слугой, каким и был по рождению и по духу.
В составленной позже по просьбе Николая докладной записке «О народном образовании», сугубо консервативной по содержанию, он уже самым решительным образом выступает против того, “чтобы в учебных заведениях существовали порядки, похожие на те, которые существовали в Царскосельском лицее, в котором он обучался”. В записке Поэт осуждает, что во “всех училищах дети занимаются литературою, составляют общества, даже печатают свои сочинения в светских журналах… Должно обратить серьёзное внимание, – пишет он, – на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание, за возмутительную – исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе”.
Похоже, в его родном Лицее подобной похабщины и крамолы было хоть пруд пруди. А иначе не стал бы он возводить на Alma Mater напраслины…
И с Пансионом та же была “петрушка”. Хоть это упорно теперь скрывается. Так, в сочинениях либеральных историков, в слащаво-вышелушенных биографиях из библиотеки Флорентия Павленкова, например, подвергшихся строгой масонской цензуре, все желающие могут прочесть этакую благостную картину, что Благородный пансион Хераскова со дня основания стал якобы заведение особенным и единственным в своём роде за всю историю существование Императорской России. Потому что задачи якобы были уж больно грандиозны и высоки – не много и не мало! Преподавателям и воспитателям Пансиона вменялось в обязанность не только-де вознести своих питомцев к вершинам гордого человеческого разума, научить их думать самостоятельно, самостоятельно жить и творить, но также и воспитать и просветить духовно, приоткрыть им тайну загадочной русской души – в лучших её проявлениях, разумеется, – тайну Божественной Доброты и Премудрости.
Это всё на бумаге и на словах, на которые либералы наши горазды. А на деле… на деле провинциальный молодой вертопрах, попадавший и обучавшийся в Пансионе, по свидетельству Н.К.Шильдера, биографа Императора Николая Первого, подвергался массированной идеологической обработке на протяжении всех годов обучения, после которой он с необходимостью “должен был порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском знать все дерзкие и возмутительные стихи и места из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться неверующим христианским догматам, а больше всего представляться Филантропом и русским филантропом”.
Вот и выходит, что на деле там упорно старались готовить саботажников будущих и нигилистов, завсегдатаев масонских лож и революционных партий; ну и сатириков-хохмачей безусловно, ниспровергателей народных обрядов, святынь и традиций… И не удивительно, опять-таки, что московский Пансион по количеству декабристов не уступил петербургскому Лицею, если не превзошёл его. Из его стен вышли, например, братья Н.С. и П.С.Бобрищевы-Пушкины, П.Г.Каховский, Н.М.Муравьёв, В.Ф.Раевский, С.П.Трубецкой, А.И.Якубович. И все эти люди были в момент восстания на первых ролях, все – из числа идейных и убеждённых. А.И.Якубовичу была и вовсе доверена “почётнейшая” и “ответственейшая” роль застрелить Николая I Павловича, с которой он, слава Богу, не справился…
Если же отвлечься от духа, царившего в пансионе Хераскова, обязанного рождать по задумке будущих революционеров в России и саму Революцию, во внутренней жизни и распорядке там всё было устроено достаточно разумно и грамотно – это правда. Тут Михаилу Матвеевичу должное нужно воздать: организовал он дело добротно, с размахом – на манер Шляхетского кадетского корпуса, в котором когда-то учился. Шесть классов наличествовало в Пансионе, тридцать шесть предметов преподавали в них. Познавательно-информационный диапазон – широчайший: от математики и артиллерии, ботаники и фортификации до Закона Божия, мифологии и сельского домоводства. Представляете себе – размах! А ведь ещё преподавались история, литература, различные языки; были и уроки искусства: музыки, живописи.
Особое внимание, как ни покажется странным, уделялось изучению русского языка – новаторство, прямо скажем, дерзкое и диковинное по тем лихим временам, когда в различных государственных учреждениях страны и даже и при Дворе постылую чужеземную речь можно было слышать куда громче и чаще, чем слово родное, русское. Это можно объяснить только тем, на скромный авторский взгляд, что и сам Михаил Матвеевич писал на русском, писали на русском и его собратья по убеждениям и перу, по принадлежности к тайным сектам и обществам – Татищев, Кантемир и Фонвизин, Радищев, Сумароков и Новиков; равно как и их многочисленные последователи-эпигоны – Эмин, Попов, Чулков, Захарьин, Львов, Николаев, Княжнин и другие. А всем им, естественно, как людям творческим, нужна была публика и аплодисменты, и грамотные читатели. Отсюда – и такое внимание к простонародному языку, сугубо меркантильное и корыстное, как кажется. И в Московском Университете благодаря Хераскову (в бытность его директором) лекции студентам с 1 января 1768 года велено было читать на русском языке – к большому неудовольствию немецкой профессуры, привыкшей читать на латыни.
Возвращаясь к Пансиону, скажем, что обилие и разнообразие предметов, по логике вещей, должно было бы сильно пугать и озадачивать юных воспитанников, что ежегодно приезжали учиться в Москву, образовательно напрягать их и даже перегружать. Однако ж в действительности никого это совсем не пугало и не перегружало, потому как каждому пансионеру предоставлялось право самолично выбрать для себя только те предметы, которые более всего соответствовали его внутренним наклонностям, и потом только на них одних и сосредоточиться: чтобы не распыляться понапрасну на всё, не пытаться объять необъятного.
И ещё одна в Пансионе существовала традиция, которая была введена уже в первый год и полностью себя оправдала. Родители зачисленного туда ребёнка имели возможность, по своему усмотрению, на полное попечение его отдать одному из многочисленных штатных воспитателей, который должен был после этого вести своего подопечного из класса в класс вплоть до дня выпуска, зорко за ним наблюдать, за его прилежанием и послушанием: чтобы чувствовали дети все шесть лет зоркий над собою догляд и чуткое подле себя сердце. Для них, оставшихся в Москве без родителей, это было крайне важно…
Итожа написанное про Пансион, напоследок скажем самое, может быть, главное: что как ни старались масоны-руководители убить у своих воспитанников любовь к Отечеству на корню, заменить её ненавистью с презрением, – не всегда это у них, холуёв лакействующих, получалось, далеко не всегда. Патриотизм пробивался сквозь университетский интернациональный бетон также лихо и споро, как былиночка пробивается неустанно сквозь тонкую скальную трещинку. Ибо патриотизм – это такое чувство могучее и естественное, сродни чувству жалости, чувству стыда, сродни человеческой совести, наконец, которые нельзя в человеке ни воспитать, ни убить, с которыми люди рождаются и умирают… которые идут от Бога.
А Бог, как известно давно, поругаем людьми не бывает.
Об этом, к слову, Лермонтов ещё писал в своём пророчески-гениальном стихотворении «Родина». «Люблю Отчизну я, – писал он, -…а за что? – не знаю сам». И это абсолютно правильно, стопроцентно точно и верно по сути, как и всё у него, великого русского писателя и поэта. Люблю, мол, – и всё тут: Родину свою люблю, родителей, детишек, женщину, – а за что? – убейте меня, не знаю. Люблю не за что-то там, а просто так: бескорыстно, бесцельно, бездумно. Но люблю до смерти, до самопожертвования, до сладкой боли в груди. И любовь эта моя к ним ко всем – глубинная, мистическая, коренная! – от меня совсем не зависит… Так именно Лермонтов всегда считал, об этом и писал на привале, отдыхая от битв. А он был Божьим Посланником, как известно, и слов не бросал на ветер. И вещие эти слова его всецело подтверждаются жизнью… Вот как ни боролись в Пансионе Хераскова и в Университете с патриотизмом русским, как ни пытались выбить из неокрепших юных голов и душ «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», – патриоты выходили оттуда всегда, и в немалом количестве…
Итак, патриотов не истребить. Они выходили из стен Пансиона обильно – чтобы отдать России весь свой талант, а заодно и здоровье с жизнью. И ведь кто-то же их там наставлял и воспитывал, кто-то как мог опекал. Значит, не все там были до одного масоны и интернационалисты прогнившие.
О патриотическом воспитании поздних пансионеров красноречиво свидетельствует такой, например, яркий факт. Когда однажды туда приехал навестить юного Мишу Лермонтова его родственник, А.П.Шан-Гирей, то в книжном шкафу у мальчика он с удивлением обнаружил систематическое собрание русских книг: сочинения Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова, Пушкина… Список перечисленных авторов говорит сам за себя… и хорошо атмосферу передаёт, что царила в Пансионе Хераскова уже после кончины самого Михаила Матвеевича – при Императоре Николае Первом, Великом русском Царе и патриоте великом!…
Но, всё равно, как бы критически ни оценивать личность Хераскова М.М. и ни относиться скептически к его необъятному творчеству, – одно здесь бесспорно и безусловно, и сомнению не подлежит: созданный им Пансион уже тем оправдал затраченные государством средства, что в разное время там воспитались, духовно выросли и окрепли, набрались ума и знаний немалых не один десяток деятельных и преданных России молодых людей. И первыми – самыми яркими! – среди них были Жуковский, Грибоедов, Тютчев, В.Ф.Одоевский и, конечно же, Михаил Юрьевич Лермонтов, – люди, могущие составить славу любой стране и любой – даже самой обильной на таланты – эпохе! В Пансионе несколько месяцев проучился и А.С.Кайсаров – автор уникальнейшей книжицы “Славянская и российская мифология”, которая выходила в дореволюционной России всего-то только два раза – в 1807 и в 1810 гг. – и которой зачитывались потом такие корифеи-кудесники слова как Батюшков и Карамзин, Дмитриев и Пушкин, братья Киреевские, Гоголь, Афанасьев и многие-многие другие, что были рангом пониже и попроще, но кто почитал Россию не меньше их…
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Ровно через двести лет после этого: в шестидесятых годах века ХХ-го, – другой университетский деятель, уже советский, Колмогоров Андрей Николаевич, организовал при Московском государственном Университете, профессором которого долгое время являлся, свой пансион, рабоче-крестьянский, который назвал, сообразуясь с духом времени, специализированной школой-интернатом физико-математического профиля.
Знал ли он про Пансион Хераскова и его всемирно известных выпускников? Или не знал? А может, истощив в науке последние силы, самовольно решил подвязаться Андрей Николаевич на закате жизни ещё и на просветительской ниве – чтобы и там успеть прославиться и прогреметь в качестве первооткрывателя и воспитателя юных советских дарований, войти в историю как те же Макаренко и Ушинский? Кто его знает, как там на самом деле было и что послужило толчком! Теперь уже тяжело судить и рядить, гадать на кофейной гуще!… Одно только можно сказать с уверенностью: что получилось это всё у него из рук вон плохо. И славы он себе особенной не добыл, и на новом поприще быстро заскучал и переутомился. А молодые дарования, в огромных количествах попадавшие в Интернат, оказывались там основательно и непоправимо загубленными.
Покрутился-покрутился Андрей Николаевич вокруг своего детища несколько лет, потешил старческое самолюбие первыми мимолетными успехами, скорее даже кажущимися, чем реальными, а потом благополучно плюнул на педагогику, на таланты, умыл ручки белые, академические – и исчез. Оставил свой Интернат и его несчастных питомцев на растерзание слетевшихся туда бездарей и проходимцев всех видов, родов и мастей, коими кишмя кишела Москва – столица Советского Социалистического государства…
2
Академика Колмогорова первый раз в жизни Стеблов увидел второго сентября – на лекции, которую Андрей Николаевич приехал читать зачисленным в его школу девятиклассникам, коих набралось тогда аж 150 человек, пять полноценных классов! А если учесть, что через год к этим пяти, уже имевшимся, в обязательном порядке должны были прибавиться ещё три, составленные из будущих учеников-одногодков, – “ежат”, как звали их в интернате из-за начальных букв: 10 классы “Е”,“Ж” и “И”, – то нетрудно сосчитать, что во времена Стеблова колмогоровский двухгодичный пансион ежегодно собирал под своей крышей около 400 воспитанников. Цифра огромная даже и для тех, богатых на рекорды и достижения, лет; и совсем уж фантастическая для школы, что изначально задумывалась, позиционировалась и претендовала на роль этакого факела-маяка в среднеобразовательной системе страны, или же её главного образцово-показательного форпоста. Большое количество времени, здоровья и сил нужно было тратить и академику-организатору, и преподавателям, чтобы обучить и воспитать (если они действительно совершенно искренне желали этого!) этакую ораву свалившихся на них подростков, коим, помимо замысловатых формул, передовых теорий и задач, любовь и ласка были нужны, и добрый душевный совет, что исходили дома от родителей.
Возвращаясь к лекции, скажем, что читалась она на последнем четвёртом этаже, в просторном актовом зале школы, который до отказа был заполнен в то утро загорелыми бодрыми ребятишками, одногодками Вадика, томившимися ожиданием важной встречи, тихонечко переговаривавшимися между собой, знакомившимися друг с другом. Позади них, на последнем от сцены ряду, сидели учителя школы, преподаватели математики по преимуществу, пришедшие послушать своего именитого патрона. Они с любопытством и пристрастием осматривали зал – каждую его часть и парту, – зорко приглядывались к новым ученикам, мало ещё им знакомым…
А.Н.Колмогоров появился ровно в девять, когда по школе ещё звенел весёлым металлическим звоном первый предупредительный звонок, три месяца, как и школьники, отдыхавший. Тихо и незаметно пройдя сквозь дверной проём заднего служебного входа, основатель школы твёрдым коротким шагом засеменил по боковому проходу через весь зал к стоявшей на сцене доске, смешно переставляя во время ходьбы свои маленькие косолапые ножки. Его совершенно седая, тяжёлая от дум голова, покрытая густой и коротко стриженой шевелюрой, была низко опущена на грудь, из-за чего казалось со стороны, что по дороге он всё время что-то тайком бубнит-вымаливает для себя как молодой монах или же высматривает под ногами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































