Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
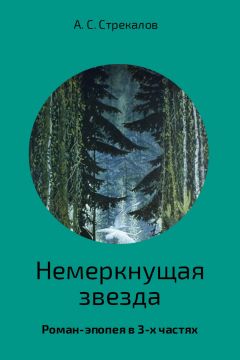
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
И смуглое крупное лицо Башлыкова с яркими, отчётливо выраженными чертами понравилось ему – гладкое, ухоженное, лоснящееся от бритья и крема и не изуродованное наростами кожными, прыщами и бородавками, которое украшали большие карие глаза, светившиеся праздником и жизнелюбием. Понравились губы тренера средней величины, плотно прижатые друг к другу и волю хозяйскую отлично передававшие; его широкие азиатские скулы, доходившие до мочек ушей, с ними почти сраставшиеся. Словом, это было красивое, приметное, волевое лицо целеустремлённого и себе цену знающего человека – Мужчины, Красавца и Воина! – излучавшего всем видом, манерами и уверенной и твёрдой походкой неистребимую силу внутреннюю, благородство душевное и простоту. Не ту, что хуже воровства любого – нет; а ту, как раз, что на природной доброжелательности основана, вере глубинной, русской, и на любви…
Неподалёку от гимнастической стенки, у которой притаился Стеблов, стоял пустой письменный стол, которым пользовались время от времени университетские физруки и тренеры центральной секции для заполнения студенческих зачёток и ведомостей; и для ведения протоколов легкоатлетических соревнований ещё, что регулярно тут проводились. К нему-то и направился Башлыков, возле него и остановился задумчиво, следя внимательно за бегавшими и прыгавшими по манежу студентами, недостатки и минусы подмечая их, чтобы высказать всё это потом при случае.
Неожиданно оказавшийся у него за спиной Вадик, храбрившийся и ярившийся всю дорогу, дававший себе не трусить зарок на подходе к манежу, не малодушничать, – наш Вадик вдруг замер испуганно, побледнел, при этом оробев и зажавшись настолько, что его от страха намертво придавило к земле, к полу будто бы привязало.
“Подойти, что ли, пока он не отошёл?… или же постоять и подождать чуть-чуть, успокоиться и пообвыкнуть?” – стал быстро соображать он, сверля глазищами дикими затылок и спину тренера, и ещё крепче прирастая к месту, на котором стоял. И пока он так судорожно соображал, душою робел и трясся, Башлыков под воздействием его горящего взора вдруг обернулся резко, словно ужаленный, и прищуренным взглядом почти в упор столкнулся с его глазами, направленными на него.
–…Ты ни меня ли ждёшь? – спросил он просто и прямо, поворачиваясь всем корпусом к позеленевшему от страха парню и делая к нему навстречу шаг; и потом, запнувшись на полуслове, добавил: – Постой… а тебя, случаем, ни Исаак-ли Берзин прислал?
– Да, он, – утвердительно кивнул головою Вадик, едва губы разодрать сумев, от волнения ссохшиеся и слипшиеся. – Я – Стеблов, из интерната колмогоровского.
– А-а-а, вон оно что. Всё понятно, – широко улыбнулся Юрий Иванович, отчётливо показывая собеседнику оба ряда крепких своих зубов, ровных и крупных, как и у Исаака Ароновича, но только ещё и белых на удивление, при этом пристально с головы до ног Стеблова разглядывая, будто оценивая беговую силу его, физические возможности и способности. – Он мне звонил насчёт тебя, очень тебя нахваливал: просил, чтобы я присмотрелся к тебе, с тобой познакомился и позанимался…
И голос Башлыкова – приятный густой баритон, не испорченный табаком и водкой и вполне соответствовавший его фактуре и мощи, – очень понравился Вадику, не испугал и не покоробил его, не изменил ни сколько о тренере первого восторженного впечатления.
– А что же ты стоишь-то тут, в стороне? – не подходишь, не даёшь о себе знать? – опять спросил Башлыков предполагаемого своего воспитанника. – А если б я сюда не подошёл, – ты так бы и стоял тут один весь вечер?!
Ничего не ответил Вадик на второй вопрос: только глаза виновато потупил, – но Башлыков и не стал его более мучить и укорять.
– Ладно, – дружелюбно сказал он тогда предельно мягким и ласковым голосом, – пойдём сейчас с тобой в раздевалку пока: покажу тебе, где у нас тут переодеться можно, помыться после тренировки, душ принять, – и по дороге ты всё мне про себя расскажешь…
19
Так вот достаточно просто и буднично и познакомился наш юный герой Стеблов с Башлыковым Юрием Ивановичем, главным тренером всех университетских спринтеров тех лет – человеком красивым во всех отношениях, душевно широким, прямым; в общении же на удивление лёгким, покладистым и очень добрым. И добротой своей безграничной, безмерной превосходившим даже и свою наружную красоту, тоже, как казалось, безмерную.
Пока они шли вдвоём в раздевалку, расположенную на втором этаже вестибюля, Вадик представился по всей форме, передал новому наставнику устный привет от интернатовского учителя, встречу ту и организовавшего; потом рассказал про себя самого немного: про родину свою далёкую и дом родной, про родителей… и про то ещё, как поступил весной в интернат, экзамены сдав успешно… Рассказывать Юрию Ивановичу было одно удовольствие, потому как слушать он молодых парней как никто умел: слушал Вадика молча, очень внимательно и заинтересованно, не оборвал и не остановил ни разу, – так что под конец рассказа оробевший было юнец в чувства быстро пришёл, успокоился и просветлел лицом, душою взбодрился. После чего стал испытывать к широко шагавшему рядом тренеру самое дружеское расположение и симпатию.
Когда они оказались, наконец, в вестибюле и поднялись там по лестнице на второй этаж, в раздевалку правую, мужскую, плотно заставленную в два этажа массивными дубовыми шкафами, для вещей студенческих предназначенных, Башлыков подвёл Вадика к одному из них с распахнутой настежь дверкой, сигнализировавшей, что шкаф – пустой, и рассказал как пользоваться им, закрывать, как лучше складывать вещи.
Потом он повёл Вадика в душ, там же, в раздевалке, и расположенный.
– Мыться после тренировок – обязательно! слышишь меня?! – сказал он ему там строго. – Это и усталость с тебя как рукой снимет, и кожу твою вычистит до бела от пота и грязи манежной… А не будешь мыться – пропадёшь: прыщами и струпьями покроешься как пёс бездомный, как бомж самый худой запаршивеешь. Никакая тренировка потом в радость не будет… Ну ладно, – почесал он напоследок затылок, из душевой комнаты выходя и на ходу усиленно вспоминая что-то, – всё самое главное тебе я вроде бы объяснил: переодеваться и мыться теперь уже сам будешь – без моей подсказки и помощи. Давай, облачайся тут, не спеша, в спортивную форму и спускайся потом вниз: начнём там с тобой занятие.
Сказав это всё, он ушёл, а Вадик, подойдя к шкафу, где его дожидалась сумка, стал переодеваться шустро в принесённый с собой спортивный костюм, несколько раз всего и одетый. Переодеваясь, он постоянно держал в уме красавца-тренера, улыбку его лучезарную, солнечную, напутственные слова, которые стали для него, одинокого паренька, настоящим бальзамом на душу.
И ничего такого особенного вроде бы и не сделал ещё Башлыков – кроме того, что встретил по-доброму и самолично в раздевалку отвёл, ничем перед ним не выделился и не отличился. А Стеблов, между тем, был уже очарован этим замечательным человеком предельно! душой потянулся к нему как стебелёк к свету! И кроме тренера нового с того памятного сентябрьского дня никого в Москве уже не любил так крепко и искренне, и не воспринимал всерьёз – даже и учителей интернатовских, шибко образованных и высоколобых, почему-то вдруг показавшихся на фоне блистательного Юрия Ивановича на удивление мелкими и непривлекательными, как пигмеи. И какими-то даже фальшивыми и убогими – именно так! По сердцу, не по уму…
Переодевшись, он захлопнул наглухо шкаф, спустился обратно в манеж – уже в надлежащем виде, – и у него началась там после этого первая полноценная тренировка, настоящим тренером проводившаяся, которую он бросился выполнять так яро и так очумело, помнится, что уже минут через двадцать Башлыков был вынужден его осадить.
– Ты чего так носишься-то, дружок?! – строго, но добро стал выговаривать он ему на середине манежа. – Хочешь за один день мастером спорта стать, да?! мировым рекордсменом?!… Давай, сбавляй обороты и начинай тренироваться спокойно – без этого показного рвения твоего, никому здесь не нужного.
– Ты пойми, дурачок, – по-мужски крепко прижав к себе задохнувшегося новичка, некоторое время спустя наставлял его именитый тренер с жаром, разгуливая с ним вдвоём, на глазах у всех, по беговой дорожке, – пойми – и запомни, и другим передай, что тренироваться нужно всегда с удовольствием, с радостью даже. Так, чтобы назавтра тебе опять захотелось прийти сюда, в манеж этот, встретиться здесь со мной, надеть форму свою, кроссовки; чтобы бегать и прыгать вместе со всеми, мои указания выполнять. Чтобы тренировочный процесс, одним словом, был непрерывным. Тогда и результаты пойдут, и секунды быстрые, и мировые рекорды! – куда они от нас денутся-то!… А такими рывками и нагрузками запредельными, самоистязанием и ухарством показным, от дури твоей молодой и неопытности идущими, ты загонишь себя через месяц – и возненавидишь спорт. На тренировки будешь ходить как на каторгу, от меня станешь бегать и прятаться как от врага, занятия начнёшь пропускать, тренироваться из-под палки. И потом бросишь всё, в итоге, ничего не достигнув и не показав, как многие уже на моей памяти бросили… Хочешь ты всего этого, скажи?
– Нет, конечно, – последовал быстрый ответ.
– Правильно, что не хочешь, молодец, – одобрительно усмехнулся Юрий Иванович, ещё крепче обхватывая новичка, сильнее прижимая его к себе жилистой правой рукою. – А раз так, – то и делать всё будешь отныне по моей указке: безо всякой самодеятельности и инициативы… И всё у нас будет нормально тогда: как молодой олень будешь у меня бегать или как заяц по лесу, когда за ним волки гонятся. Это я тебе говорю, Башлыков Юрий! – неоднократный чемпион и рекордсмен страны, заслуженный мастер спорта…
Та беседа первая, задушевная, тренера с учеником не прошла для ученика даром, не превратилась в звук бесполезный, пустой: обороты свои тренировочные он после этого сбавил немного – но не сильно, не так, как просил, как требовал того Башлыков. Уж очень ему, всё равно, хотелось перед финалистом Мельбурна отличиться, прилежным отношением к делу и трудолюбием запредельным понравиться-приглянуться ему! У великих тренеров и бегунов, как-то сразу подумал он, по манежу носясь очумело, должны быть и ученики великие…
– Ты, я слышал, лыжами у себя на родине занимался? – спросил его Юрий Иванович ещё, когда они заканчивали уже то первое своё занятие, когда проводили заминку.
– Да, – кивнул в ответ Вадик, багровый и раздувшийся как пузырь от подзабытых спортивных нагрузок, явно перетренировавшийся в тот день.
– Это заметно, – тренер понимающе покачал головой, задумался на секунду. – Силища в тебе – немереная!… Из тебя, я думаю, не спринтер, а хороший средневик получиться может: у тебя и скоростёнка приличная, и мышцы на ногах крепенькие, и функциональная выносливость есть… А для спринтера ты мелковат, мне кажется: спринтеры, они помощнее все, телосложением покрупнее… Ладно, – махнул он рукой добродушно, надежду на будущее глазами дав, – тренируйся пока спокойно, а потом подумаем, на какие дистанции тебя настраивать…
С первой своей тренировки Стеблов возвращался настолько усталым, больным и разбитым, целиком, без остатка, выжитым, – будто бы перекидал в манеже целый вагон с мукой, или сахаром тем же, соревнуясь в разгрузке с кем-то. Всё у него ныло, гудело, болело кругом, стенало, просило об отдыхе. Хотелось соку лимонного выпить целый стакан, или виноградного, на худой конец, много-много хотелось ему в тот вечер соку.
Зато на душе было на удивление празднично и светло – прямо как на горе высокой в полдень в солнечную погоду. И дивным внутренним светом этим, тихой сердечной радостью он был целиком обязан своему новому тренеру, безусловно, с которым его свела судьба.
Всю дорогу до общежития в памяти Вадика раз за разом возникали то скуластое тренерское лицо – волевое, целеустремлённое и предельно-мужественное, – то его белозубая обезоруживающая улыбка; а в ушах звучали его доброжелательные, полные искренности слова и такие же искренние наставления, предостережения и прогнозы, в которых невозможно было обнаружить, сколько ни ищи, ни единой фальшивой нотки. Они убаюкивали пятнадцатилетнего паренька, чудом в Москву попавшего, сердечко его как материнские руки ласкали и обволакивали, заставляли всё на свете забыть – даже и свою спецшколу. Ни разу ещё не встречал в своей прежней жизни Вадик таких безоговорочно-сильных, красивых, мужественных и добрых людей! Оттого-то и восторгу его душевному не было удержу и границ; как не было и конца его большому сердечному празднику…
Покружив по Москве минут сорок на наземном общественном транспорте, очень медленном в часы пик, и вернувшись в интернат в половине десятого вечера только, он остался без ужина, в итоге, который у них без пятнадцати минут девять заканчивался, а часто и раньше. Закрытые двери столовой, однако ж, и погашенный там полностью свет не испортили Стеблову праздника, и он неприятностью этой расстроился тогда не сильно, как не расстраивался он потом никогда из-за куска не съеденного хлеба. Вселившийся в него в тот вечер Дух Святой, Дух Божий значил для него куда больше пищи презренной, плотской: ведь с Ним он теперь так высоко летал и так прекрасно себя на той Божественной высоте чувствовал.
«Надо будет в следующий раз сказать ребятам, предупредить, чтобы брали мне ужин в комнату, когда я на тренировку уеду», – только и подумал он без энтузиазма, отходя от закрытых дверей общепитовских и тут же вспоминая опять – в который уже раз за вечер! – своего университетского тренера.
«…Хороший он всё-таки человек, – улыбаясь, подумал про него, в комнату к себе с пустым животом направляясь, – знающий, красивый, добрый. Настоящий Мастер!… Хорошо, что Исаак Аронович познакомил меня с ним: мог бы ведь и не познакомить…»
20
Тренировался у Башлыкова Стеблов три дня в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, – и длились те его тренировки ровно два часа: с восемнадцати до двадцати. Тренируясь, он по-прежнему не сводил с Юрия Ивановича влюблено-восторженных глаз, привязывался к нему как к родному.
Всё в этом человеке нравилось Вадику, импонировало и глубоко по сердцу было: его характер неунывающий, неагрессивно-покладистый, умение общаться с людьми – с учениками, в первую очередь. Нравилось даже и просто смотреть на него всякий раз: как он заинтересовано, с душой объясняется со студентами, чему-то наставляет их, что-то с жаром показывает.
Подкупал Вадика врождённый демократизм Башлыкова и на удивление бережное отношение к детям, учившимся бегать у него, тренироваться и побеждать. Если какой-то парень, к примеру, пришедший в манеж, не имел желания тренироваться, Юрий Иванович не бранил его никогда, не подгонял насильно. Он просто переставал его замечать – и всё. Ходил мимо сидящего на матах или скамейке ленивца так, будто бы того в тот день на тренировке вовсе не было, не видит будто он его.
Такое могло продолжаться и день, и два… и даже неделю. Но как только парень приходил в себя, как только поднималось у него настроение, бегать появлялось желание и кураж, и он, поднявшись с мат, робко подходил за заданием к тренеру, ощущая вину перед ним, – Юрий Иванович преображался тотчас же, в момент расцветал душой.
– Что мы там с тобой последний раз делали, не помнишь? – спрашивал он загулявшего и заленившегося паренька, будто бы между ними и не было ничего – никаких недельных загулов. И когда студент рассказывал ему вкратце комплекс упражнений, проделанных неделю назад, Юрий Иванович быстренько в уме прикидывал что-то, что-то подсчитывал и планировал мысленно – и потом, выработав стратегию с учётом пропущенного, давал указания на сегодняшний день. – Давай-ка, дружок, бери сейчас штангу потяжелей и дуй с ней яму с поролоном топтать, – делово говорил он студенту-гуляке. – А то у тебя, я заметил, икроножные мышцы совсем ослабли: по дистанции бежишь, топаешь – будто рюкзак с песком на плечах тащишь.
– А ты одевайся потеплее и – на улицу: кросс бегать, – говорил он другому ученику. – С твоими лёгкими и сердцем ты уже скоро и стометровку не будешь вытягивать – на половине задохнёшься и остановишься.
– А с тобой, мой дорогой, мы пойдём сейчас старт отрабатывать, – обращался он к третьему. – Стартуешь – как только одни беременные женщины с земли поднимаются: ни резкости, ни быстроты, ни силы!…
Разогнав по разным местам воспитанников, указания им всем раздав, он шёл после этого в угол манежа, где располагался старт, уставленный толчковыми колодками, и битый час настойчиво и терпеливо тренировал там срываться с места, как следует стартовать "обабившегося" бегуна… И когда тот, к примеру, обильно покрывшись потом и из последних выбившись сил, всё же не мог сорваться как надо, не мог на дистанцию как положено убежать, Юрий Иванович, поморщившись недовольно, подходил тогда сам к знакомой черте, сам припадал к земле, ставил ноги в колодки.
Проходила секунда, другая, – и он, предварительно напрягшись и выпрямившись на руках, как камень из пращи вылетал из колодок или как стрела из лука, срывался с места мощно и красиво очень, уверенно и легко не по возрасту, – и стремительно нёсся потом по дистанции безо всяких топаний и потуг, надвое рассекая широкой грудью воздух… И чудилось наблюдавшим за ним в тот момент – Стеблову Вадику чудилось, – что, приложи он усилий и поднапрягись чуток, чуть-чуть ещё прибавь скоростёнки, – то и оторвётся он с лёгкостью от земли, взовьётся ввысь ясным соколом… И полетит по манежу вперёд – будто бы в сапогах-скороходах! – широко и изящно размахивая при этом своими крепкими жилистыми ножищами…
Он и Стеблова учил всегда также – напористо, энергично, грамотно: как правильно разминаться, к занятию себя готовить; как подводить организм к пику наилучшей формы; как внимания не обращать на старте и на дистанции на борзых соперников своих; как, наконец, отключаться от мира в этот момент, от зрителей. Но не этим, главным образом, запомнился он Стеблову – не тренерскими наставлениями и советами. Он крепко запомнился Вадику разговором одним, произошедшим у них в ноябре – через месяц, приблизительно, после начала занятий.
– Ты, я гляжу, паренёк заводной, горячий, – говорил ему тогда Юрий Иванович с глазу на глаз, когда никого из ребят не было рядом. – Я думаю, ты не только здесь, в манеже, такой, но, наверное, и у себя в школе тоже… По этому поводу что я тебе хочу сказать, посоветовать по-товарищески, – он прямо и просто поглядел тогда в глаза Вадику, как ещё ни разу до этого не смотрел, и потом продолжил через паузу достаточно длительную, стараясь будто бы точные слова подобрать, полезные, искренние и для ученика не обидные. -…Я хочу сказать… что если ты такой горячий и неуёмный в жизни и тратишь ежедневно столько сил везде – и на уроках, и на тренировках, – то тебе силёнки эти обязательно нужно пополнять, восстанавливать их в организме в полном объёме. Понимаешь меня, к чему я клоню?… А иначе тебя в Москве надолго не хватит – поверь мне. Измотаешь себя здесь до нитки, изведёшь, подцепишь душевную болезнь какую-нибудь или дистрофию элементарную – и всё: поминай как звали!
–…Ты в общежитии живёшь, казёнными харчами питаешься, которые и без того, небось, пустые да обезжиренные, – говорил он тогда ещё стоявшему перед ним навытяжку ученику, не то в форме напутствия, не то совета. – Поэтому хотя бы кушай там побольше, добавки себе проси, не стесняйся… Твои родители за эту еду деньги регулярно платят: целую стипендию университетскую, как ты говоришь! – поэтому смело требуй себе двойную порцию!… Скажи им, тем поварам вашим, что вечерами ты ещё ездишь в манеж, что занимаешься спортом усиленно, и пусть поэтому и кормят тебя соответствующе – побольше, чем остальных! Проси у них, требуй! – не бойся их, обжор и ворюг наглючих, объесть добавкой своей копеечной: там у них всё с запасом готовится… А надо будет – к директору сходи, с ним поговори как следует! пожалуйся! Пусть он им команду даст!… А заодно и отучит их, куркулей толстомордых, ваши порции домой таскать, да собак и кошек собственных ими выкармливать! Лучше пусть вас посытнее кормят! не жадничают!… Ты понял меня, Вадик?! мы договорились с тобой?!… Коль уж остался ты здесь один, без родителей, – так и учись, значит, сам за себя стоять! о себе печься-заботиться! Если хочешь благополучно до конца доучиться и получить здесь для себя хоть какую-то маломальскую пользу…
Улыбнувшийся и порозовевший Вадик в ответ утвердительно кивнул головой, благодарно посмотрел на тренера искрящимися преданными глазами и, польщённый, побежал тренироваться далее, цепко удерживая в памяти последний его с Юрием Ивановичем разговор, накрепко запоминая, наматывая на ус каждое в том разговоре слово. Ведь никто потом в интернате не говорил ему подобных слов: из тех, кто был бы обязан, как кажется, их сказать по долгу службы, – никто не напутствовал его так искренне и так горячо, с такой заинтересованностью и теплотой душевной.
Оттого-то и запомнились Стеблову эти слова на долгие-долгие годы, потому-то и полюбил он крепко университетского тренера – редкой красоты и доброты человека. Все его рекомендации мудрые, собственной жизнью проверенные, советы ежедневные и подсказки он стремился выполнять всякий раз максимально точно и правильно, всегда – с душой. И только одну его рекомендацию – насчёт сытной и полной еды, – ему выполнить никак не удавалось…
С едой этой, надо сказать, на которой так упорно настаивал Башлыков, о которой несколько раз с ним беседовал, у Вадика сразу, в первый же тренировочный день, возникли серьёзные проблемы, главная из которых заключалась в том, что время окончания тренировок – восемь часов вечера – совпадало в точности с временем начала ужина в интернате, длившегося сорок пять минут.
Окончание тренировки, понятное дело, не означало немедленного попадания Вадика в школу. Туда, в лучшем случае, он приезжал в начале десятого вечера, когда их краснощёкие повара успевали переодеться и разъехаться по домам, предварительно перевернув вверх дном вымытые котлы и кастрюли.
Такое положение дел, как уже отмечалось, огорчило Вадика после первой же тренировки, – но сильно не расстроило и трагедией большой не стало. Он просто постоял возле закрытых дверей столовой и подумал с грустью, что как бы ни подгонял он сам себя вечером, как бы ни спешил домой, – на ужин он не успеет никак: два столичных автобуса, соединявшие манеж со школой, не дадут ему этого сделать в принципе.
«…Ладно, – решил он, в конце концов, уже и после второго пропущенного ужина. – Тут думай – не думай, а всё равно путного ничего не придумаешь: ужина из-за меня одного переносить не будут; и повара не будут сидеть до половины десятого возле котлов, меня дожидаться… Да и Юрий Иванович не станет из-за меня на час раньше в манеж приезжать, со мной одним нянчиться – нужен был я ему, “пряник тульский”!… Единственное, что здесь можно сделать реально, – это и вправду пойти и договориться с ребятами, чтобы таскали мне ужин в комнату те три дня, когда я на тренировках буду. Не охота, конечно же, их утруждать, кланяться перед ними и унижаться, – но другого выхода нет. Не просматривается… Я всё же надеюсь, что их это не сильно обременит и большой обузой не станет…»
Но думал он так, как выяснилось, опрометчиво, и таскать ему по вечерам еду для его школьных товарищей оказалось непосильной задачей. Они принесли ему из столовой компот и кашу раз, принесли два, а на третий день принести забыли: поленились, или, элементарно, не захотели – кто знает! И Вадик, вернувшийся вечером из Университета, ужина на своей тумбочке не обнаружил, увы.
В комнате в тот момент – словно в насмешку (а, может, и по уговору тайному) – никого из ребят не было. И апеллировать или претензии предъявлять не к кому было. Да и не хотелось, по правде сказать: ведь товарищи и не обязаны были, если уж строго их начать разбирать, таскать ему тот злополучный ужин, не обязаны были нянчиться с ним, помогать. У них о самих себе голова болела. И правильно.
Вадик всё это тогда быстро понял, принял к сведению, переварил в душе, а, поняв и переварив, настроил себя на то – не расстраиваясь особо и ни на кого не злясь, – что более не станет обращаться за помощью ни к кому. И что три дня в неделю теперь, когда он в Университете будет, вечернюю кашу с чаем он хлебом чёрным заменит, с обеда и завтрака припасённым, божественный вкус которого в те вечера он, может, впервые по-настоящему и почувствовал…
21
Легкоатлетические занятия в секции поставили перед Стебловым и другую нешуточную проблему, куда более важную и острую для него, чем даже и регулярные пропуски ужина. Проблема эта в том состояла, что, возвратившись с утомительных тренировок вечером, в которых он выкладывался по максимуму, стараясь не ударить в грязь лицом и не отстать от занимавшихся рядом студентов, Вадик потом уже не мог заставить себя, как ни пытался, полноценно работать умственно: читать, решать, конспектировать и анализировать. Какие конспекты и книги, какие задачи! – когда у него по приезде домой всё ныло и болело так, что порою тяжело было даже и с койки лишний разок подняться, даже и присесть на ней, в коридор выйти умыться!… Хотелось только вытянуться на кровати в струну, одеревенелые ноги задравши кверху, прикрыть глаза полотенцем – и задремать в таком положении до утра: дать отдохнуть и расслабиться натруженному за день телу.
Заставить же себя после этого встать и отправиться в читальный зал, сесть там за письменный стол, за книги и задачи какие-то было мукою для него, малолетки, серьёзным волевым испытанием.
И хотя он, всё ж таки, делал это через какое-то время – поднимался с постели со стоном, гримасами страшными на лице, набирал тетрадей и книг под мышку и уныло брёл потом с ними на гудящих сбитых ногах в учебный корпус, место там занимал как порядочный, учебники перед собой делово раскладывал и конспекты. Но вот настроить себя на занятия в душных читалках, на полноценную работу творческую он уже не мог, как ни пытался: воля ему здесь отказывала.
В такие дни и часы он только перелистывал тупо пухлые книжки из конца в конец, теребил без толку конспекты и на голове волосы, зевал, вздыхал тяжело… и украдкой посматривал на часы раз за разом – дожидался заветной “отбойной” отметки, официальной команды ко сну. Запомнить что-нибудь из прочитанного, порешать или же заучить он был решительно не в состоянии. Физических сил на это у него уже не имелось в наличие…
«Получается, что я сюда не учиться, а лёгкой атлетикой заниматься приехал; не в математический, а в спортивный интернат поступил, – под конец первой четверти с горькой иронией принялся он сам над собой шутить, когда в очередной раз возвращался ни с чем из читального зала перед отбоем и пусть робко, но сознавал уже в те минуты тягостные всю абсурдность и нелепицу создавшегося положения. – То тренируюсь в манеже до одури, то отлёживаюсь потом, прихожу в себя, готовлюсь к следующим тренировкам. А до всего остального руки уже не доходят… И на уроках утром соображать перестал: как пень за партой сижу, – и вечером мозги не работают… Так я совсем скоро учёбу заброшу, на спорт переключусь…»
Мысли такие нелицеприятные впервые посетили Вадика в конце октября. В ноябре они укрепились только. А в декабре Вадик уже отчётливо осознал, ощутил это всем телом, всем существом уставшим, что большого он дурака свалял, ввязавшись в авантюрную затею со спортом. Он ясно понял, проучившись в интернате две четверти, что регулярные тренировки здорово мешают ему, становятся для него обузой, ношей тяжёлой, почти ломовой, которую нести достойно сил уже не хватает; понял, что нужно прекращать их, приостанавливать побыстрей, уходить с головой в учёбу.
Но прекратить тренироваться означало бы для него сдаться, прилюдно поднять руки вверх и показать всем – и в школе, и в Университете, – что слабак он оказался, дерьмо собачье на проверку, презренный слизняк и мокрица; что предложенных нагрузок не выдержал – именно так! – и надежд и доверия не оправдал, возложенных на него учителем физкультуры и тренером… А это было для него выше сил, было противно всему естеству и всему его складу внутреннему…
Было и ещё одно обстоятельство, которое останавливало его от резких движений, невидимой нитью к манежу привязывало, а то и целым жгутом. Прекращение тренировок автоматически расторгало бы установившиеся у него добрые отношения с Башлыковым – замечательным человеком, спортсменом и тренером, которого Вадик, быть может, более всех уважал и ценил в ту пору в Москве, крепко успел полюбить за несколько месяцев, к которому искренне привязался. Расстаться с ним было Вадику тяжело, – но тяжело было и не расстаться.
Ездить к Юрию Ивановичу просто так раз или два в неделю, без тренировок, – чтобы посидеть пять минут в сторонке да посмотреть на него, по душам с ним поговорить-потрепаться при случае, желания жить и учиться от него почерпнуть, – нет, это было бы пошло и глупо, и совсем по-детски, как ни крути. Но ещё глупее, преступнее во сто крат было бы продолжать изводить себя еженедельно на беговой дорожке, бездарно транжирить время и силы там, имея конечной целью вступительные через полтора года экзамены на мехмате…
Получался заколдованный круг у Стеблова – болезненный и бестолковый, – из которого он не видел выхода…
На свои места всё расставил тогда наступивший Новый год и последовавшие сразу за ним двухнедельные школьные каникулы.
Перед Новым годом Стеблов заехал в манеж и, не раздеваясь, тепло простился там с Башлыковым, сказал, что уезжает домой, на отдых к родителям.
«Правильно делаешь, молодец! Отдохнуть надо! – похвалил его тогда Юрий Иванович. – Езжай, отоспись там как следует, погуляй, отъешься на домашних харчах, – а то вон как тут исхудал за две четверти… А потом мы с тобой опять работать начнём: дел впереди много. Весна уже не за горами – самое для нас, бегунов, время!… На улицу все переберёмся: там – хорошо, там – солнышко!» – добавил он напоследок и на прощание крепко, от всей души, пожал протянутую Вадиком руку.
Они расстались вечером 30-го декабря, а уже на следующее утро Вадик покинул Москву, держа путь на родину, к дому родительскому, к семье, по которой он ужасно соскучился… Дома, однако, он полноценно и безмятежно всего только одну неделю и отдыхал, семь коротеньких дней январских. Вторую же половину отпущенных зимних четырнадцатидневных каникул он заметно занервничал и напрягся душой: перестал спать крепко, есть сытно, спокойно с родственниками общаться, по парку гулять с удовольствием, что очень всегда любил. Все эти домашние прелести и семейный комфорт, и уют как палкой дубовой перешибали ежедневные и ежевечерние мысли, каруселью огненной в его голове закрутившиеся. Москва уже виделась и снилась ему: интернат, манеж, красавец-тренер московский…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































