Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
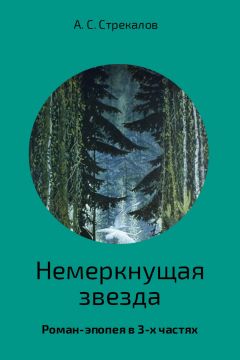
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
6
Третьего московского учителя Вадика, Веселова Андрея Александровича, не взялся бы живописать, наверное, ни один даже самый грамотный и искусный рассказчик – настолько тот был неуловим, непредсказуем и импульсивен. Характером своим взрывным, неуправляемо-буйным он напоминал ураган или смерч филиппинский, что огромными тёмными грозовыми массами появляется вдруг на небе и уже в следующий миг страшной мощью своей сметает всё на пути. Пошумит, покуражится над землёй такая силища разрушительная, ветряная, наведёт страху на всех, наломает дров, строений и крыш жилищных, воды повсюду намутит, – а через секунду умчится прочь, как ни в чём не бывало, оставляя по себе лишь жуткие, но чрезвычайно уважительные воспоминания.
Так же вот точно “налетал” на девятый “Б” и ураганистый Веселов, так же крушил и сметал установившуюся там без него идиллию… И так же озорно и самодовольно уносился потом по своим делам в не ведомом никому направлении, никому не докладываясь и не отчитываясь ни перед кем, провожаемый смущёнными взорами учителей и восхищёнными детскими взглядами…
Личную жизнь Веселова и его биографию в интернате Колмогорова доподлинно не знал никто, включая сюда и директора – маленького серого человечка, тихоню, угодника и труса, сильно его, пронырливого еврея со связями, побаивавшегося и потому с ним почти не общавшегося. Как, впрочем, мало общался малообразованный директор и с другими преподавателями-математиками, на которых он как на богов смотрел… Да и сам Веселов, из-за возраста, почти ни с кем из молодых коллег-преподавателей не дружил, пищи для пересудов и сплетен им не давал. И те скудные и редкие о нём сведения, что всё же просачивались по разным каналам в спецшколу, картину являли отрывочную и поверхностную.
Что было известно про него наверняка, о чём написать можно? Что закончил Андрей Александрович мехмат – являлся профессиональным математиком, то есть; там же, на мехмате, был потом аспирантом, диссертацию защитил, стал кандидатом наук; что было ему в то время, когда Стеблов поступил, далеко за тридцать, был он давно женат и работал в интернате со дня основания, с осени 1963 года… Ещё о нём знали доподлинно, что интернат не являлся единственным его местом службы: работал он также и в ВЗМШ, и в популярных научно-познавательных советских журналах “Квант” (для юношества) и “Математическое просвещение” (для учителей); состоял в оргкомитетах и жюри Московской городской и Всесоюзной математической олимпиад, проводившихся в столице и других городах страны ежегодно; в Москве – в несколько туров… Числился он, кроме этого, и ещё в двух-трёх блатных каких-то местах – теплых, хлебных, необременительных, – все их регулярно “пятого и двадцатого” оббегал, везде получал зарплату – и нигде, ни в одном из них, не работал толком: так умел выгодно поставить себя, шельмец, таким был скользким и ловким на удивление.
В “Кванте”, между прочим, он занимал должность заведующего математическим отделом со дня основания (с января 1970 года) и члена редакционной коллегии, что давало ему беспрепятственную возможность регулярно печатать там разного рода статейки про Евклида с Архимедом и Гаусса, про удивительные свойства чисел е и Пи. Статейки те незатейливыми и мало-утомительными для автора были, никого и ни к чему не обязывающими, можно сказать – смешными. Зато оплачивались, по-видимому, хорошо (ещё бы! ведь Андрей Александрович сам себе там зарплату платил и навряд ли себя обсчитывал!), регулярно принося Веселову в карман приличные дивиденды…
Но главное, что его в интернате из толпы выделяло и выгодно возвышало над всеми – и учениками, и преподавателями, и администрацией школьной, – так это какая-то по-особому близкая и доверительная с академиком Колмогоровым связь, что многое ему позволяла делать такого, что не дозволялось более никому. Даже и Гордиевскому. Андрей Александрович так вольно и бесшабашно, и так безответственно себя в интернате вёл, по-хозяйски прямо-таки, по-барски, что создавалось впечатление со стороны, что это не он, учитель простой и безвестный, зависит от основателя школы и её куратора, всесильного советского учёного-просветителя, – а пожилой Андрей Николаевич, тёзка его, висит у него на крючке по какой-то непонятной причине. И позволяет ему ввиду этого вытворять в школе всё, что заблагорассудится…
Что ещё можно было бы про Веселова сказать, добавить к его обрывочному и до обидного скудному описанию-портрету? Что был он толстеньким, кругленьким, шустреньким мужичком с густой кучерявой шапкой каштановых волос на голове, носил очки роговые с толстыми стёклами. А ещё он был оптимист прирождённый, законченный, большой весельчак и балагур. Может быть – и кутилка. Любил народные анекдоты, знал их бессчётное множество, собирал везде и мог рассказывать, не стесняясь, даже и на уроках. Рассказывая анекдот, он так самозабвенно и так искренне, порой, хохотал, что одним только смехом своим заражал весь класс, заставлял всех радоваться и веселиться.
Вот, пожалуй, и всё, что было известно про третьего учителя математики девятого класса "Б", что можно было бы рассказать про него, как на духу поведать: ничего другого про этого человека в памяти авторской не сохранилось. Так что придётся нам с Вами, читатель, здесь остановиться вынужденно и, обречённо вздохнув, жирную точку в рассказе поставить. И довольствоваться в дальнейшем повествовании только лишь этими сведениями, до смешного скудными и короткими…
7
Система преподавания математических дисциплин в классе Стеблова сложилась и оформилась ещё до Вадика – из опыта прежней совместной работы Гордиевского и Мишулина, к которым Веселов лишь изредка примыкал, внося бардак и сумятицу. Без особых споров и разногласий оформленная, она, система, повторялась потом изо дня в день, из месяца в месяц, из четверти в четверть – и никогда, практически, не менялась.
Происходило всё это так. После второго предупредительного звонка в аудиторию Дима со Славиком важно вваливались, здоровались с учениками по очереди, уже с порога придирчиво осматривали класс на предмет отсутствия кого-либо, выясняли причину отсутствия (скорее – любопытства ради, нежели для принятия административных мер), после чего Мишулин, пройдя к окну, портфель положив на подоконник, почтительно становился возле задней стены, а Гордиевский вразвалочку, не торопясь, направлялся на преподавательский подиум – открывать очередное занятие. Проведя урок-полтора у доски и наговорившись всласть, по-колмогоровски густо мелом вымазавшись, он уступал место заждавшемуся товарищу, а сам в это время, засунув руки в задние карманы джинсов или техасов, начинал вальяжно прохаживаться по классу – отдыхать и перед молоденькими ученицами форсить-козыриться, при этом по-художнически цепко впиваясь глазами в каждую, как потенциальных моделей-натурщиц их оценивая и изучая, точно так. Ходит, бывало, глубокомысленно усмехается себе под нос, девочкам глазки строит, а то и рожицы, и, одновременно, чутко прислушивается к корявым объяснениям Славика, изредка поправляет и уточняет их, вносит по ходу какие-то коррективы… Когда же и Славик, в свою очередь, после проведённого у доски урока, слова начинал “глотать”, хрипеть и кашлять, запинаться на каждом слове, пену с губ вытирать, Гордиевский менял его, раскрасневшегося, возвращался на своё излюбленное место на подиуме – и уже не отходил от доски потом до окончания занятий.
Между двумя этими людьми, по-видимому, уже с первых дней существовала устная договорённость по вопросу разделения преподаваемых в классе предметов, которая на памяти Вадика никогда не нарушалась. По договорённости той Гордиевский отвечал за математический анализ и элементарную математику, Мишулин же, как будущий учёный-алгебраист, – за алгебру и геометрию, что было естественно и понятно.
Так они всю дорогу потом и работали: если у доски стоял Дима – значит, с уверенностью можно было сказать, что преподавались воспитанникам спецшколы либо элементы дифференциального и интегрального исчисления, либо какая-нибудь тригонометрия школьная; если же на подиум выходил Славик – то, наоборот, доска покрывалась сплошь символами высшей алгебры или аналитической геометрии: всевозможными матрицами и определителями, и многомерными квадратичными формами, задающими метрики математических поверхностей и пространств.
В целом же, если говорить о самом качестве преподавания, то было оно у обоих, увы, совсем-совсем невысокое. Даже и притом, что Гордиевский, в силу возраста своего и опыта, а также в силу природных артистических способностей, и смотрелся у доски куда выгоднее и предпочтительнее Славика, куда основательнее и подготовленнее того. Но даже и он, коли уж судить по большому счёту, преподавателем был слабеньким, если не сказать – плохим. Хотя и брался всегда за вещи тяжёлые, неподъёмные, требовавшие и знаний немалых, и кругозора математического, таланта; а также полной мобилизации внимания внутреннего, способностей, сил…
В основании математического анализа, для справки, который имел честь преподавать в интернате Дима, в котором он большим специалистом считался, лежит фундаментальное понятие предела, непростое и неочевидное совсем. Которое опирается, в свою очередь, на аксиомы Дедекинда и Кантора… или методы, как их ещё называют (тоже, кстати сказать, неочевидные), для определения континуума действительных чисел. Числовой же континуум, или непрерывность математическая, “движение”, – это основа основ математики, вещи невероятно сложные, тонкие, мало кому по-настоящему открывающиеся и поддающиеся. Ещё со времён Зенона и его парадоксов древних все попытки дать точную математическую формулировку интуитивному физическому понятию непрерывного движения были и беспомощными и безуспешными, потому как на числовой оси точки расположены всюду плотно, и не существует точки, “следующей” за данной. Попробуй опиши поэтому или грамотно растолкуй, логически безупречно то есть, что какая-то переменная “х” к чему-то там “непрерывно стремится”. Людей, кто в полной мере всё это осознал – всю глубину и важность для математики подобных краеугольных фундаментальных вопросов, – на Земле можно легко перечесть по пальцам: они в анналы исторические все вошли… И не случайно, наверное, Д.Гильберт, обобщив на рубеже XIX и XX веков весь тысячелетний путь развития мировой математической мысли, выделив в нём наиболее ключевые, наиболее уязвимые и значимые проблемы, как шпалы лежащие поперёк естественнонаучной магистрали прогресса и препятствующие дальнейшему победоносному математическому шествию к вершинам мирового Духа, на первое место в списке своих знаменитых проблем поставил именно проблему континуума, которая не решена до сих пор и навряд ли будет решена в обозримом будущем…
В Московском Университете, всенепременно отметим здесь, анализ бесконечно малых для будущих профессиональных математиков всегда преподавали люди талантливые, знающие и многоопытные, обязательно – профессора! То есть люди, которые знали прекрасно все наиболее тонкие, логически уязвимые места своего предмета – “собаку на этом съели”, – и которые умели грамотно их обходить, доходчиво объяснять слушателям всё их коварство скрытое, их невероятную глубину и сложность. Они посвящали этому делу всю свою жизнь – без остатка! – всё время свободное, силы, знания богатейшие, опыт. И зарплату получали не даром, не зря назывались профессорами механико-математического ф-та МГУ. Они были настоящими доками!
Поэтому-то, доходя в своих лекциях до основ анализа, они “не плавали”, не путались в них, “не буксовали” сами – и не заставляли плавать и путаться, и паниковать других, безусых студентов, в первую очередь, студентов-первокурсников. И лекции выходили у них без преувеличения сказочные – доходчивые и увлекательные, в высшей степени аргументированные и качественные…
Гордиевский Дмитрий профессором не был, как не был он уже давным-давно и просто математиком – человеком то есть, полностью живущим в мире чисел и знаков, абстрактных образов, формул и теорем, замысловатых математических понятий, определений и аксиом, плоскостных и пространственных кривых, фигур и объектов. И, соответственно, не был тому миру фанатично предан, всё больше и больше переключаясь с годами на художественное ремесло. То, что он смог ухватить и запомнить когда-то на университетских общеобразовательных лекциях, было поверхностно, неясно, неглубоко, было ему не близко уже, не родно, не дорого. А с годами в нём это всё и вовсе притупилось, перепуталось и потускнело.
И вот эту мешанину тусклую и непотребную, ещё оставшуюся в голове, ещё не стёртую окончательно из его памяти художественными задумками и фантазиями, он и выплёскивал всякий раз с грехом пополам на бедных учеников, их головы и нервы перегружая, детскую память и психику; забивая их молодые и неокрепшие ещё мозги своим потускневшим от времени дилетантским хламом.
О-малые, О-большие, бесконечно близкие приближения и бесконечно малые величины; окрестности ε, δ, предельные точки последовательностей – эти и многие-многие другие не менее диковинные математические понятия беспрерывно сыпались на головы дуревших с непривычки учеников, производя в них жуткий переполох, смятения чувств немалые. А если принять во внимание, что рассказывались все эти тонкости на языке предикатов и кванторов – новом и ещё непривычном для Вадика и его московских товарищей языке, – то станет более или менее понятным, что творилось в душах и умах приехавших в интернат за мудростью провинциальных пятнадцатилетних пансионеров…
Здесь попутно скажем ещё, время у читателей отнимая, что современное ε-δ-определение предела, данное миру Коши, при помощи которого только и могут быть определены такие важнейшие понятия анализа как производная и интеграл, – определение это есть результат многовековых блужданий, вся сложность которого уже в том состоит, что оно – статическое, и переменные в нём физически ни к чему не стремятся. Это тяжело понять без предварительной подготовки, но только таким хитрым образом, таким подходом диковинным и стало возможным многие естественнонаучные парадоксы разрешить, примирить интуицию с логикой, непрерывность математическую и физическую, мир реальный, естественный, с миром абстрактным, миром образов и идей, как примирил в своё время физиков принцип дополнительности Нильса Бора…
Глубина понимания Гордиевским данных фундаментальных вопросов была, скорое всего, незначительной, потому как он, до предметных тонкостей доходя, до основ, без конца спотыкался там, “плавал”, путался безнадежно, лазил за помощью в свои конспекты на глазах всего класса. Но, как и всякий дилетант, раз за разом непроизвольно попадался на один и тот же “крючок”, наступал на “старые грабли” – очертя голову, в основания математики лез, в бездонное нутро анализа, куда ему носа совать не следовало бы. И уж тем более, категорически не следовало заводить туда, как проводнику-вредителю, своих учеников – незрелых, не подготовленных предварительно, до таких вещей в основной массе своей не доросших.
Увязнув в очередной раз в непролазных математических дебрях, не умея логически непротиворечиво выбраться из них без посторонней помощи, он густо краснел и нервничал, начинал у доски пошло дёргаться и суетиться и, оконфуженный, за помощью к Славику обращался: давай, мол, помогай, ядрёна мать! Чего стоишь и молчишь, ухмыляешься?! Ведь ты же как-никак аспирант: какой год уже за партой сидишь безвылазно, за учебниками, штаны протираешь… Но тот тоже краснел как девушка, не умея быстро соображать, да и в анализе сильно не разбираясь; экспромтом в ответ что-то мямлил невразумительное – и неубедительное, естественно, что положения не спасало.
И тогда преподавателю-дилетанту Диме ничего не оставалось другого, предварительно выругавшись про себя, как доставать из портфеля толстую, потрёпанную временем тетрадь с давнишними университетскими лекциями и прямо у доски, наспех, пытаться разыскать в ней спасительную для себя подсказку.
Но подсказки нужные на виду не валялись, естественно: быстро он их, как правило, не находил. И оттого он краснел ещё больше, больше прежнего нервничал, суетился.
И, в итоге, кончалась у него такая “комедия”, такая “потеха” весёлая тем, что он махал на проблему рукой безнадежно, быстро стирал с доски написанные там каракули, после чего с чистым сердцем и облегчением отсылал обескураженных и ошалелых воспитанников к Фихтенгольцу – автору фундаментального университетского учебника по дифференциальному и интегральному исчислению, состоящему из трёх довольно-таки пухлых томов.
«Почитайте начало первого тома сами: там об этом обо всём хорошо написано, – было неизменной его отговоркой. – Вам это нужно больше, чем мне, – так что изучайте и пыхтите самостоятельно, ежели учёными собираетесь стать – как наш Славик…»
Но не только уважаемого Фихтенгольца рекомендовал регулярно почитывать воспитанникам интерната Дима, – он рекомендовал им ещё и Шилова – автора крайне-сложного и путанного, трудно даже и студентами МГУ усвояемого, и Понтрягина с Курантом, Зорича. Да ещё и сборник задач Демидовича всенепременно советовал приобрести и прорешать на досуге, по которому не один десяток лет занимался, набирался практического опыта весь мехмат. А Мишулин Вячеслав, не желая отставать от него, диктовал ребятам и своих любимых и уважаемых авторов. Он называл им учебники Мальцева, Куроша, Александрова, книги Шафаревича и Ленга, входившие тогда в моду в научных кругах; а к ним добавлял ещё и Моденова с Поспеловым, и Погорелова с Постниковым, и того же академика Понтрягина (преуспевшего, несмотря на свою слепоту, практически во всех областях, след там заметный оставившего). Рекомендовал всё сплошь авторов мудрых, высокообразованных и крутолобых, стоявших на передовых рубежах, на недосягаемых научных позициях… Они и книги писали соответствующие, необъятные и неподъёмные новичкам, которые брался изучать ещё и не каждый студент, не каждый аспирант мехмата.
А воспитанники интерната брались. Брались с жаром, брались за всё! Буквально! Они ведь были ещё очень молоды тогда, наивны, доверчивы и глупы… и очень жадные были – до знаний новых, до книг. Потому что мечтали стать академиками через одного! учёными настоящими!
А ещё у них было в ту пору много-много сил и детского нерастраченного задора, который звал их вперёд неумолчно, толкал на самые отчаянные, самые необдуманные свершения и поступки, как комсомольцев 1930-х и 40-х годов. Они готовы были штудировать что угодно и сколько угодно! Готовы в небо были взлететь безоглядно и безрассудно! – только команду дай, позови, предложи, сагитируй!
Преподаватели интерната видели это, ежедневно воочию могли наблюдать не прекращавшийся ни на минуту своих питомцев душевный страстный порыв; дивились ему про себя, втайне очень завидовали – и безжалостно эксплуатировали его, безбожно на нём выезжали…
Про Мишулина Вячеслава и его уроки алгебры и геометрии долго нам говорить не придётся, потому как были они и невыразительными и неинтересными. Совсем. Славик, повторимся, выступать только ещё учился, только ещё постигал азы непростого преподавательского ремесла, как и основы алгебры самой под началом И.Р.Шафаревича. И потому рассчитывать при его объяснениях на что-то крайне-полезное и значимое на будущее ученикам спецшколы не приходилось… Наш герой Стеблов, во всяком случае, Славика вообще не понимал, ни единой из его выступлений мыслишки не схватывал – настолько Мишулин тихо, невнятно и неуверенно, а порой и вовсе сумбурно и путанно преподносил материал.
Записав необходимые главы поэтому из названных и рекомендованных им на уроках книг, алгоритмы решений типовых задач старательно законспектировав, он потом только дожидался вечера, чтобы уже самому, в спокойной, так сказать, обстановке, сидеть и разбираться в предложенном материале, без посторонней помощи постигать его – если ума хватало. А если нет – материал так и оставался непонятым и непознанным. Увы. Обращаться за помощью было не к кому. Консультации внеурочные Славик давал, – но основывались они, в основном, на его личных к ученикам симпатиях. И только симпатиями определялось количество и качество их.
Стеблову Славик не симпатизировал никогда. И потому и не замечал его в классе и школе. И не помогал, соответственно…
С домашними заданиями по математике картина в классе Вадика была следующая. Задавали в конце уроков Гордиевский с Мишулиным ученикам список задач по соответствующим темам из Демидовича или того же Моденова, а в начале следующего учебного дня они, не начиная занятий, проводили беглый опрос по поводу возникших при решении домашних задач трудностей. Понимай: копировали точь-в-точь университетскую семинарную систему, работали по ней оба. Товарищи Вадика наперебой называли не получившиеся у них номера из учебников, после чего весь 9 "Б" вместе с преподавателями пытался общими усилиями отыскать решение. Или хотя бы только наметить пути к нему, что тоже было порою не просто.
В классе Стеблова, надо сказать, достаточно собралось в ту пору на удивление ярких и талантливых ребятишек, хватавших всё на лету, задачи как семечки щёлкавших. Были среди них и призёры, и даже победители Всесоюзной математической олимпиады – скороспелые и стопроцентные гении-самородки, бесценный творческий генофонд страны. Они-то, как правило, и трудились за всех: искали, подсказывали, решали. И в первую очередь, конечно же, они трудились за никудышных своих педагогов, осиливая иногда такие задачи, к которым ни Гордиевский, ни даже аспирант-Мишулин и близко подойти-подступиться не могли, не имея на то элементарных природных способностей. Они, юные гении класса, частенько выручали своих учителей, спасали их от стыда и позора великого, были надёжей и опорой обоим в ежедневных утомительных в интернате трудах, к которым у Димы со Славиком не было особой тяги… Именно они объясняли и разрешали, в итоге, менее даровитым товарищам и подругам многие сомнения и вопросы попутные, возникавшие у тех в процессе обучения; именно они задавали в классе высочайший образовательный уровень, тон.
Не будь их – добровольных и бескорыстных помощников и подсказчиков! – учебные дела в интернате были бы, наверное, и вовсе плохи…
8
Вторым профилирующим предметом в спецшколе была, как нетрудно догадаться, физика, которая преподавалась в интернате два дня в неделю по два урока в день: в начале недели – двухчасовая лекция, в конце – закрепляющий её двухчасовой семинар; система – в точности университетская.
Лекции приезжал читать тридцатитрёхлетний доцент физического факультета МГУ по фамилии Скрынников – тихий, интеллигентный, благообразного вида мужчина в огромных роговых очках, закрывавших половину лица его, излишне-полноватый, медлительный и уже заметно лысеющий. И читал он лекции для новобранцев интересным образом – так, будто бы перед ним сидели не желторотые пятнадцатилетние юнцы, только-только ещё начавшие знакомиться в стенах новой школы с мудрёной университетской математической грамотой, лежащей в основе классической физики, а уже полноправные оперившиеся студенты, с успехом прошедшие в Университете начальный курс исчисления бесконечно малых. Современные физические теории: будь то механика или гидродинамика, теория упругости или статика, – уже с первого дня излагались им, как и на родном физфаке, с полномасштабным использованием дифференциалов и интегралов, суть и значение которых тогда только начали объяснять вновь набранным в интернат девятиклассникам школьные педагоги-математики, до которых они в первой четверти ещё даже и не дошли – на пределах застряли… Лектор, таким образом, разговаривал на языке, слушателям не знакомом, что было недопустимо с его стороны – и в высшей степени некорректно. Формализмом веяло от этого всего – и безразличием полным. И наплевательским отношением к делу ещё, о котором не болит душа, к которому не лежит сердце.
Не удивительно поэтому, что большую часть физических лекций Стеблов с товарищами просиживали, выпучивши глаза и в жутком перенапряжении головного мозга, механически занося в тетрадки мудрёные формулы и знаки, значение которых в тот момент они понимали смутно, если понимали вообще… Пользы от таких выступлений, понятное дело, даже если они и делались доцентом МГУ, было мало, а то и не было совсем. И потому они не оставили в памяти Вадика ни малейшего следа, за исключением, может быть, нескольких громких фамилий да не менее громких изобретений прошлого, полные знания о которых впоследствии Стеблов добывал и вырабатывал уже самостоятельно – без чьей-либо сторонней помощи…
Физические семинары в новом классе Вадика проходили ещё более «увлекательно», чем даже сами лекции, потому как призваны были, по замыслу их ведущих, готовить исключительно одних лишь гениев – не больше, но и не меньше того. Других учащихся в рассмотрение они не брали и рассчитаны на них, убогих и сирых, не были: “посредственность” могла на физику не ходить, время не отнимать у преподавателей.
Вёл семинары в девятом "Б" пожилой высокомерный еврей по фамилии Гринберг – огромного роста седой представительный мужчина с печатью усталой скуки и избранности на лице (по виду очень похожий на поэта-песенника И.Резника), которому помогала некрасивая прыщавая девушка-аспирантка с полными на ногах бёдрами и икрами, и холодными водянистыми глазами на лице, тоже еврейка по виду, учившаяся в то время (первая половина 1970-х) на физическом факультете Московского областного пединститута. Про Гринберга этого скажем вкратце, по причине отсутствия информации, что был он из породы людей, чьё выпирающее отовсюду высокомерие, помноженное на его природную патологическую брезгливость, больно стебали по глазам и самолюбию каждого, входившего с ним в сношения, даже и мимолётно-краткие, вызывали в людях немую ответную агрессию вперемешку с яростью, как и устойчивую и плохо скрываемую неприязнь. Всю жизнь проработав учителем в средней школе (в молодости, по слухам, он закончил какой-то пединститут, только-то и всего, как говорится) и ничего не добившись там, ничего из себя, в сущности, не представляя ни в творческом, ни в педагогическом, ни в научном планах, этот человек, однако ж, держался со всеми так, будто бы именно он – и никто другой! – нёс на своих плечах всю славную советскую физическую науку. И будто бы ему одному – единственному и неповторимому! – принадлежат все свершённые в физике в советский период истории наработки и изобретения. Академики Басов с Прохоровым, во всяком случае, – нобелевские лауреаты! – ему и в подмётки бы драные “не годились”, Курчатов с Капицей и Сахаровым! Так он себя самого высоко и важно всегда держал! Так круто себя оценивал!
Он и занятия строил именно так: я, дескать, – гений, я – титан, я – пуп Вселенной и самый большой прыщ на заднице! Кто видит это и верит, кто в этом не сомневается, тот – за мной, к вершинам мудрости и славы человеческой. Такого человека я буду учить, буду помогать и опекать всемерно. Остальные же не получат от меня ничего, остальным – презрение полное и под нос кукиш с маслом…
Такое поведение вызывающе-гротесковое было непонятно и неприемлемо никому: даже и учеников-первогодков оно коробило и оскорбляло!… Про коллег-преподавателей и говорить не приходится: Гринберга они переносили с трудом и по возможности старались с ним не общаться. Как и он с ними…
Ещё про Гринберга надо сказать, что, помимо работы в колмогоровском интернате, он являлся также деятельным членом Оргкомитета по подготовке и проведению Всесоюзных физических олимпиад (был в близких отношениях с академиком И.К.Кикоином, их отцом-основателем) и потому был хорошо знаком, естественно, с предлагавшимися на тех олимпиадах задачами. Автором их он, безусловно, не был: “калибр” его был не тот, масштаб личности, не смотря на саморекламу. Их придумывали и присылали в Оргкомитет другие – безымянные студенты и аспиранты, как правило, элитных московских вузов, для которых физика не была профессией, для которых физика была судьбой. Но он умел так лихо и быстро сродняться с чужими, блистательно поставленными и сформулированными задачами, так красочно их потом описывать и так живо рассказывать всем про них, то и дело вставляя в рассказы местоимение "я": “по механике я предложил Оргкомитету вынести на конкурс в прошлом году такую-то, мол, задачу, по электричеству – такую-то”, или, наоборот: “я подумал-подумал… и решил такую-то задачу по статике на прошлой олимпиаде десятиклассникам не предлагать, потому как посчитал её слишком уж сложной”, – что непосвящённому человеку казалось со стороны, что заинтересованный и пламенный представитель всех этих диковинных задачек-головоломок, товарищ Гринберг то есть, и впрямь является их единственным автором и разработчиком.
Задачи Всесоюзных олимпиад, будь то физических или математических, были традиционно сложны, глубокомысленны и неприступны – и поддавались не многим (недаром же десятиклассников-победителей в советские годы зачисляли в МГУ, МФТИ и МИФИ без экзаменов, делали это с радостью и не разочаровывались потом). Они, задачи, всенепременно требовали кругозора широкого, прозорливости, смекалки научной; плюс к этому, требовали специальной усиленной подготовки и специфически устроенных мозгов. Уже одними постановками своими они выводили приобщавшихся к ним людей на передовые научные рубежи, на вершину современной физической (как и математической) науки, где они и рождались, собственно, откуда и сходили в мир.
Поэтому-то знание подобного рода задач, близкое знакомство с ними сильно кружило голову таким вот самовлюблённым и тщеславным личностям, как Гринберг, создавало иллюзию у них у всех собственной значимости и избранности, которую они и без того так яростно всю жизнь культивировали и пропагандировали…
Семинары-уроки Гринберга проходили так, ни разу не меняясь по сути за всё время его работы: он выходил к доске с неохотой, лениво писал на ней каллиграфическим почерком условие какой-нибудь олимпиадной задачи – не самой простой, как правило, которая, наоборот, самые жаркие споры вызвала и оказалась по силам, в итоге, лишь немногим школьникам страны. После чего, хитро прищурившись и ухмыльнувшись, он в любимое кресло у ближайшего к доске окна садился и начинал царствовать-изгаляться.
– Ну что? – самодовольно спрашивал он, обращая мутный старческий взор в притихшую аудиторию.– У кого будут какие мысли-идеи по поводу возможного решения?
Ни мыслей, ни идей в девятом "Б", как правило, не было – ни у кого. Тем более – сразу, навскидку, как требовал того учитель. Как не водилось в новом классе Стеблова и настоящих физиков – парней и девчат понимай, безгранично влюблённых в окружающий материальный мир, в его законы внутренние и устройство; и потому готовых изучать и исследовать его без отдыха и перерыва по 24 часа, ему всего себя целиком отдавать, без остатка!… Математики подобного рода были, и много – почитай что весь класс: набор-то в спецшколу, вспомните, после областных математических олимпиад проходил. Физиков – нет, не было.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































