Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
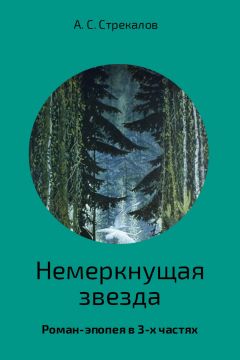
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 36 страниц)
–…И давно он её основал?
– Не знаю. Лет десять назад, по-моему.
– А почему школа интернатом называется? Словом каким-то ужасно-плохим.
– Мы же там и учимся и живём круглосуточно. Как в интернате.
–…А как ты туда попал-то из нашего захолустья, никак не пойму? Экзамены что ли туда сдавать ездил? – допытывался врач хмуро, при этом продолжая напряжённо о чём-то думать-соображать, по ходу беседы что-то в уме прикидывать, может – уже и курс лечения намечать, по дням расписывать и планировать; и видно было по его лицу – волевому, мужественному, предельно суровому, – что слова Стеблова про Университет, про академика московского мало трогали его, и, уж точно, не восхищали.
– Да, ездил и сдавал! – ответил Вадик. – Прошлой весной сдавал в Туле, в институте усовершенствования учителей, – сразу после областной математической олимпиады.
– Так ты что, в областной олимпиаде участвовал?!
– Участвовал.
–…Молодец! – искренне похвалил врач, уважительно покачав головой при этом и даже и лицом как будто чуть-чуть просветлев. – Математику любишь значит?
– Люблю!
– Молодец! – ещё раз похвалил невропатолог. – А мне вот математика всегда тяжело давалась… Я хотя и имел по ней пятёрку в школе, – но пыхтеть по алгебре и по геометрии приходилось много… А в институте я с ней и вовсе “забуксовал”, с высшей-то: плохо уже понимал все эти интегралы и производные. Хорошо, что там её у нас мало было…
Ухмыльнувшись краями губ, он задумался ненадолго, в себя ушёл, умные глаза сощурив, необычайно сочные и выразительные глаза, по которым так сохли, наверное, его подруги-обожательницы, по которым сходили с ума… и потом спросил как бы между прочим, памятью по молодости пробежав и на скромно сидевшего перед ним пациента взглянув внимательно: – А в каком районе находится ваша школа?
– В Давыдково, – простодушно ответил Вадик.
– Это-о-о рядом с Кунцево, кажется?
– Да.
– Слышал про такой район, хотя и не был там никогда за те шесть лет, что в Москве проучился; только проездом, на электричке, – затряс он головой утвердительно, памятью в прошлое вновь убегая и расцветая от такой пробежки душой. – При мне-то Кунцево только-только застраивалось, только ещё обживалось, и там всё перекопано было, перегорожено; туда, помнится, только ещё метро вели. А твоё Давыдково при мне вообще подмосковной деревней было… Живёте все в общежитии, говоришь? – спросил он ещё.
– Да.
– Хорошее общежитие-то? Хулиганства там … или драк не бывает?
– Нет! – что Вы?! Никогда!…
После этого врач, растроганный воспоминаниями и, одновременно, некоторым уважением к юному пациенту проникшись, ровню себе почувствовав в нём и ещё больше подобрев от этого, казёнщину с себя стряхнув, чванливость, кичливость, высокомерие, – врач про сам интернат поподробнее расспросил, порядки его и количество классов, про систему отбора и попадания туда, что ему, как бывшему московскому студенту, студенту-медику, видимо сильно интересно было. Вадик ему всё рассказал без утайки, как на духу.
– Как много народу-то там у вас учится! – удивился доктор, когда услышал названные Стебловым цифры. – Ведь вас же надо где-то всех разместить, такую ораву-то, жилые корпуса построить, всем необходимым их оснастить… Сколько ж вас всего человек живёт в комнате? – прикинув, спросил он с интересом.
– Шесть, – последовал ответ.
– Ше-е-есть?!!! – невропатолог вытаращился на пациента так, будто бы пациент на его глазах в девушку вдруг превратился. – Вот это да-а-а!!! – Он засмеялся натужно, притворно, обнажая жёлтые от табака зубы. – Да это не общежитие уже – а казарма настоящая! Или общага рабочая, проходная! Представляю, что у вас там по вечерам делается.
–…Ну а кормят-то вас там хоть нормально? – всё допытывался он, собирая для себя информацию.
– Нормально, вроде бы, – ответил обескураженный пациент… и потом добавил тихо, вроде как прячась от матери: – Маловато только.
– Понятное дело, что маловато! Голодные там, небось, целыми сутками бегаете, – врач во второй раз ухмыльнулся недобро, большой головой всепонимающе покачав и оценивающе посмотрев на Стеблова, в Москве совсем отощавшего. – И не высыпаетесь там, я уверен: в такой-то давке и тесноте. Вот тебя и перекосило за год от недосыпания и недоедания… Учёба-то эта твоя, я надеюсь, бесплатная?
– Платная.
– Платная?! – хозяин кабинета пуще прежнего вытаращился. – И сколько же платите, если не секрет?!
– Сорок рублей.
–…Это – за год?… или – ежемесячно? – не понял врач.
– Ежемесячно, – вмешалась в разговор Антонина Николаевна, молчавшая до того и сообразившая быстро, что коль уж разговор о деньгах зашёл, то правильней будет ей тот разговор продолжить…
Сообщённая матерью цифра так поразила врача, так на него тогда подействовала ошеломляюще, что он растерялся даже, сразу и не найдясь что сказать, что спросить, чем беседу заполнить. По напряжённому и недовольно-ухмылявшемуся лицу его, по его игравшим на щеках желвакам можно было судить только, что очень ему не нравилось всё то, что рассказывал про свою столичную школу юный его пациент, что не одобрял он, не принимал совсем сии восторженные рассказы.
–…И чему же учат вас там за такие деньги, интересно? – наконец спросил он Вадика полушутя-полусерьезно, задумчиво замерев на стуле, весь во внимание обратясь.
– Высшей математике учат, – с гордостью ответил Вадик, всё время именно такого вопроса и ждавший, желавший ответом гордым в невропатологе уважение вызвать к своей новой школе, а вместе с нею, естественно, и к себе. – Математический анализ весь год нам преподавали, высшую алгебру, аналитическую и проективную геометрии… Лекции по математике сам Андрей Николаевич Колмогоров, академик известный, советский, что наш интернат основал, приезжал нам читать; по физике – доцент физического факультета МГУ читает… Спецкурсов много было: по дифференциальной геометрии и топологии, по теории вероятности; по тензорному исчислению даже был спецкурс, но почему-то быстро закрылся… Можно было даже и в Университет ездить – на мехматовские спецкурсы. Ребята некоторые ездили.
Но как ни старался он расписывать интернат, восхвалять и превозносить его до небес, и безосновательно приукрашивать, – восторженный его рассказ, однако ж, произвёл на врача-невропатолога обратный эффект, и ничего кроме совершеннейшего уныния и скуки в нём не вызвал.
–…В институте-то потом что будете делать, ежели через год поступите туда? – сказал врач задумчиво, вроде бы и не обращаясь конкретно к Вадику, вроде как сам с собой разговаривая. – Заново всё проходить? – по второму разу?
Насмешливая гримаса пробежала по его скривлённым губам и лицу, и он даже и не пытался скрыть своего холодного – от услышанного только что – сарказма…
– Почему: заново?! – искренне удивился Вадик такому полному непониманию со стороны своего учёного собеседника. – В институте мы дальше пойдём: вперёд.
– Чтобы вперёд идти, – последовал быстрый ответ, предельно сухой и жёсткий, – силы нужны и здоровье хорошее. А у тебя уже сейчас, в твои-то шестнадцать лет, нет ни того, ни другого. Руки вон трясутся как у алкаша, худющий как глист, лицо всё перекошено; говорить нормально – и то разучился… Что же с тобой через год-то будет, дружок, если ты там ещё год проучишься? Вообще в инвалида превратишься? ко мне за группой придёшь?… И все вы, небось, там такие, если провести в вашей школе даже и беглый осмотр: чахоточные да трясущиеся! – вас всех скопом лечить надо, на витамины и глюкозу сажать, на усиленное питание! А ты говоришь: дальше пойдёте, вперёд! Ха-ха-ха! (невропатолога это слово более всего рассмешило: он более всего потешался над ним, хотя глаза его в это время были совсем не весёлыми)… Ты вспомни, каким ты раньше-то был, – когда лечился у меня позапрошлым летом, – отсмеявшись, сказал он уже предельно серьёзно, как на взрослого на Вадика глядя. – Да, дёргалась щека, был нерв застужен! Но парень-то ты был крепкий – я же помню тебя! Кругленький такой был, румяный, ладно сложенный! Атлет настоящий! А теперь подойди к зеркалу и посмотрись на себя: в кого ты теперь превратился! Жёлтый, худой, дёрганный весь! – в гроб кладут и то краше…
Последние слова врачебные сильно покоробили Стебловых, болью отозвались в них. Больно обоим было уже оттого только, что и тот и другой понимали смутно правоту тех колючих слов, беспощадно рушивших в их сердцах наивно сложенные год назад иллюзии…
– Удивляюсь я на них – этих плешивых академиков наших, – продолжал, межу тем, распаляться далее двухметровый красавец-доктор, которого задел за живое простодушный детский рассказ, как и сама та печальная, в целом, история. – Выживут из ума под старость, выдохнутся на работе, иссякнут – и начинают потом чудить-куролесить: морочить головы всем своими бредовыми идеями и затеями. Затейники хреновы! Идиоты!… А в итоге, в итоге вот что получается из их затей: здоровьем платят люди за их маразм замшелый… Математический анализ! теория вероятности! тензорное исчисление! дифференциальная геометрия и топология! Во-о-о дают, дядьки! Это детям-то! в девятом классе!… Они что, производство гениев там у вас хотят на поток поставить: как кур инкубаторских в жизнь выпускать? Чтобы прославиться на весь мир? да премию лишнюю хапнуть? Смешно, ей-Богу, и, одновременно, грустно… Они там тешутся от безделья, экспериментируют – чего не экспериментировать-то за государственный счёт? – а потехи их старческие, маразматические, потом мы, врачи, расхлёбываем… Ведь было же у тебя в позапрошлый год всё нормально – я же хорошо помню! У тебя и в карточке вот написано: я собственноручно писал, – что те симптомы первые заглушены полностью, что всё успокоилось, в норму вошло, и при правильном образе жизни повторных рецидивов нечего опасаться. А теперь посмотри, что с тобой в Москве твои профессора-академики сделали! Подойди к зеркалу и посмотри, полюбуйся! Попробуй вот, вылечи теперь тебя – такого!… Тебя там гробят на корню твои педагоги столичные, яйцеголовые, за твои же собственные денежки гробят, а ты мне тут про академика этого да про школу его с таким восторгом глупым рассказываешь-сидишь! предметы мудрые перечисляешь, в которых не понимаешь, небось, ни хрена и никогда не поймёшь!… Студентам за учёбу стипендию регулярно платят, те же самые сорок рублей – студентам! которые за диплом учатся! за специальность будущую! престижную профессию на всю жизнь! А с вас, дурачков неграмотных, наоборот – берут, за школу обыкновенную среднюю, которую дома можно спокойно закончить – бесплатно и безболезненно. Это ж прямо анекдот какой-то, или – афера в чистом виде, лохотрон псевдо-педагогический! У вас что в семье, денег миллион что ли, что вы по сорок рублей ежемесячно непонятно на что отстёгиваете – и ни ухом, ни рылом не ведёте?! – зло зыркнул он на понуро стоявшую перед ним мать. – Не похоже, вроде… А осенью, небось, опять в Москву собираетесь? – ребёнка и дальше гробить? И за угробление то узаконенное продолжать покорно платить?
– Да нам бы с ним только эту школу закончить, коль уж начали; а там, глядишь, полегче будет, и поспокойнее, – слезливо ответила ему вконец расстроенная матушка, притулившаяся позади сына; настроение и высказывания доктора, которого любили в городе как очень хорошего человека и специалиста, который многим уже помог, совсем добивали её.
– Это как – полегче? – с ухмылкой злой и суровой спросил невропатолог. – После этой школы что, его сразу в Кремль возьмут? в бывший кабинет ленинский?… И будут там кормить всю жизнь медовыми булками да икрой?!… После школы ему нужно будет ещё и в институт поступать: нервы себе помотать на вступительных экзаменах, – а потом проучиться там пять лет – и тоже одни сплошные нервы!… А уж как на работу выйдет – всё: беспрерывные стрессовые ситуации до самой пенсии я ему гарантирую… Полегче! Взрослая женщина, а рассуждаете как ребёнок!
Отвернувшись презрительно от матери пациента, не на шутку разошедшийся доктор, задетый за живое, видимо, вторично перевёл тогда взгляд на Вадика и как шилом острым взглядом его пронзил, до самых потаённых глубин добрался, откуда нервные окончания и растут. После чего с жаром и дотошно так и напористо про интернат опять стал расспрашивать: про его распорядки внутренние, отдых и питание. Всё это были такие вопросы, на которые было больно и тяжело отвечать, от которых побыстрее уйти хотелось. Правду-то Вадик ответить не мог, как всё у него там в Москве на самом деле невесело складывалось: матушка его стояла рядом и каждое слово ловила и запоминала, чтобы потом передать отцу. А красоваться, юлить и хорохориться перед всё видевшим и всё понимавшим врачом тоже не очень-то и хотелось. Сил у него на такое кривляние никаких не осталось: все забрал интернат… Поэтому он хоть и начал было что-то про новую школу врать, что-то на ходу сочинять-придумывать, – но тут же и запутался в собственном вранье, расстроился, разволновался, задёргался на крутящемся стуле. Отчего его лицо перекосило так, что даже и видавший и не такие виды врач не выдержал – отвернулся брезгливо.
Заметивший это – брезгливость эту людскую, его всегда унижавшую и убивавшую, – Вадик быстро лицо руками закрыл и чуть было не заплакал при всех – от горя и от тоски, от обиды жгучей. Он таким маленьким и беспомощным в ту минуту стал, предельно несчастным и жалким, что даже и у врача заблестели глаза и ком подступил к горлу от жалости.
– Ладно, Бог с ней совсем, с твоей школой этой, – сказал он как можно спокойнее, жалея разволновавшегося пациента и не желая его более мучить. – И так всё более-менее ясно. Ты мне только одно скажи: ты ведь дальше учиться собираешься, да? – ну-у-у, после школы, я имею в виду?
– Собираюсь, – утвердительно кивнул Стеблов головою, рук от лица не отнимая, слёзы сдерживая на глазах, стеной уже там стоявшие.
– В Университет собираешься поступать, как я понял? профессиональным математиком становиться?
– Да.
– Понятно…Теперь ты мне вот что ещё скажи: эта школа твоя расчудесная, она что-нибудь даёт при поступлении? – ну там льготы какие-нибудь? преимущества перед другими абитуриентами?
– Нет, не даёт.
– Совсем ничего?! – удивился врач; искренне, помнится, удивился.
– Совсем, – чуть слышный ответ последовал.
–…То есть ты хочешь сказать, что вам через год аттестаты вручат, выпихнут вас на улицу – и забудут про вас? И никто о вашей дальнейшей судьбе не позаботится? – ты должен будешь заботиться о себе сам? Те деньги, которые вы им туда платите, совсем не маленькие, прямо скажем, – они что, в расчёт не пойдут?
–…Н-нет, не пойдут.
– И ты можешь, в принципе, не дай Бог, конечно, вообще никуда не поступить, если всё для тебя, допустим, плохо на вступительных экзаменах сложится: экзаменаторам там не понравишься, допустим, своим внешним видом или ещё чего? – ты можешь тогда вообще с длинным носом остаться, что ли? И в армию загреметь?
–…Могу, наверное…
От услышанного как предгрозовая туча нахмурился врач, губы на бок скривил презрительно, громко носом зашмыгал, головой недовольно затряс: «да-а-а, дела-а-а!» – произнёс с ухмылкою.
–…Послушай меня, малыш, – от’ухмылявшись, сказал он ему доверительно, как родному сыну сказал, с таким же приблизительно чувством. – Ты хороший парень – я это вижу: целеустремлённый, живой, увлекающийся. Идеалист стопроцентный, мечтатель, святая душа. Таким особенно тяжело жить, по себе знаю: такие шеи в два счёта ломают, буйны головы в землю за здорово живёшь кладут – дуриком, что называется. Поэтому я и хочу помочь тебе, пока не поздно, пока тебе нужны ещё мои советы и помощь, и ты окончательно не угробил себя в Москве, не самоисточился до нитки… Скажу по секрету: ты мне ещё и в прошлый, первый приход понравился; не знаю даже – за что. Потому и лечил тебя тогда с удовольствием, душу в тебя вложил. А оно видишь как всё, в итоге, вышло: об мою душу, в итоге, люди ноги вытерли; да и об твою тоже… Но ты не расстраивайся, малыш, и не переживай: я тебя и на этот раз вылечу, под свой личный контроль возьму, всю поликлинику нашу заставлю на тебя одного работать. Ты только верь мне пожалуйста, слушай меня, и, главное, не совершай по дурости и по незнанию тех роковых ошибок, на которых уже столько лихих удальцов-молодцов до тебя обожглись и сломались в два счёта, которым ты не чета; не гоняйся за призраками, за миражами красочными – прошу тебя, – не трать здоровье и силы на них, которые тебе в будущем ох-как ещё пригодятся! Это я тебе и как врач, и как взрослый и бывалый человек говорю с похожей в прошлом судьбой, который тоже по-молодости за идеалами всё носился как ошпаренный, за смыслом жизненным, за мечтой. Пока наконец не понял, что обман всё это, чистой воды иллюзии, или пустышки пропагандистские, пошлые, которые нам вдалбливают с младенческих лет глупые дяди и тёти, школьные педагоги наши, с пути нас правильного сбивают, но которые ничего на самом-то деле не стоят, которым – грош цена. Ей-богу!…
– Хочешь, я тебе про себя расскажу? Ну так, коротенько, в двух-трёх словах, чтобы тебе глаза пошире открыть на “тихую” и “безоблачную” научную жизнь, в которую ты так стремишься, которая тебя в будущем ожидает, – вдруг озорно спросил он Вадика ни с того ни с сего через длинную паузу; и, видя, как доверчиво паренёк посмотрел на него, и глаза мальчишеские в ответ широко раскрылись и загорелись от удивления, невропатолог, не дожидаясь согласия и кивка головы, торопливо рассказ свой начал, при этом сам весь так жаром душевным и пыхая, так и кипя, от чувств налетевших словно факел зажжённый пылая.
– Мне вот почти сорок лет уже, половина жизни прошла; по возрасту я – отец тебе, – улыбаясь, стал рассказывать он, при этом в глаза пациенту пристально глядя и будто бы наслаждаясь даже чистотой и блеском карих мальчишеских глаз, той жизнью юной и свежей, в первую очередь, что в них пока что играла. – Но я ведь тоже когда-то был молодым: в Москве, во Втором медицинском институте учился, – и тоже, как и ты сейчас, мечтал о кренделях научных, о карьере профессорско-преподавательской, академической стезе. Мечтал! – точно тебе говорю! Не вру ни капли!… И учился вроде бы хорошо, и оценки в зачётке всегда хорошие были, и научной работой старательно занимался на старших курсах, и даже и общественник крепкий был, комсомолец ярый – всё, как положено то есть, как того требовалось для карьеры. Но в аспирантуру, когда срок подошёл и куда я очень хотел поступить, меня всё равно не взяли – потому что безродный я, “мохнатой лапы” у меня в Москве не было. Бездарей всяких брали – блатных коренных москвичей в основном или на богатых москвичках женатых, – а меня, провинциала, – нет, от ворот поворот показали, кукиш с маслом. Там у нас в институте, как выяснилось, такая мафия процветает и заправляет всем, что и подумать страшно! И чужаков туда, случайных людей, и на пушечный выстрел не подпускают! Там кланы семейные ещё от дедов и прадедов по цепочке идут и внуками и правнуками заканчиваются, включая туда и зятьёв со снохами, племянников и племянниц, шуринов и кумовьев, и прочих всех дальних и ближних родственников, которым несть числа. Все – пристроены, все – при деле, все непонятно чем занимаются, гниды пронырливые и бездарные; левые диссертации штампуют пачками каждый год, защищаются на “ура”, без проблем, и потом за учёные звания и профессорско-преподавательские должности шальные деньги всю жизнь лопатой гребут от государства и населения, дачи, загородные дома себе строят, на машинах дорогих ездят: студенток-первокурсниц в них, дурочек глупеньких и беззащитных, за зачёты и стипендию трахают – прости меня, парень, за эту грязь, которую не я придумал!… А лечить как следует не могут, и о науке рассуждают на уровне журналистов, одними общими фразами и цитатами! Какая наука и какое лечение! – когда они уже изначально об этом не думают, не готовят себя ни лечить, ни учить. А думают ежедневно и ежечасно об одном только – о “делах”. Как им повернее и половчее в медицине “большие денежные дела” проворачивать: потуже мошну набивать, да потом насыщать и холить свою утробу подлую и поганую. А Богу и Мамоне одновременно служить нельзя – это закон вековечный, незыблемый…
– Они и не служат Богу, не служат науке, не служат больным! Понахватались терминологии, жаргону псевдонаучного, два-три рецепта выучили – и всё: это и есть все их, так сказать, “достижения”, которыми они так кичатся. Ходят, треплют потом языком всю жизнь, как дворники помелом машут – “образованность” свою народу показывают, клиентов глупых отлавливают языком по столичным стационарам и клиникам, готовых им бешеные гонорары платить. Вот и вся их “научная деятельность” так называемая, вся врачебная практика. Послушаешь их со стороны – так и вправду голова кругом пойдёт от высоких и светлых чувств, их беззастенчивой трепотнёй навеянных; особенно – у человека незнающего, человека больного, страждущего. Люди таким “светилам” последнюю рубаху готовы отдать – лишь бы к ним, трепачам-ловкачам, попасть на лечение и от боли ежедневной избавиться… Только лечения-то от таких упырей не дождёшься – вот в чём главный секрет и главная опасность кроются. Золотых гор и чудес наобещают, до нитки тебя оберут – это правда, это, пожалуйста, этого сколько угодно. А вот вылечить так и не вылечат – угробят только. «Мы же не боги», – скажут с ухмылкою под конец – но денег назад не вернут: на это нечего даже и надеяться. Деньги, полученные от больных, они ловко и умело тратят… Это не люди уже. И не врачи – чудовища! Таких за версту обходить надо – простых докторов искать, у кого ещё совесть есть, и кто за копейки лечит, годами безвылазно в стационарах вкалывает за гроши; и не ропщет.
–…Короче, Вадик, когда с аспирантурою всё более-менее ясно стало: что путь мне туда и в большую науку заказан, что уж больно тернистый он и унизительный, лично для меня неприемлемый и непотребный, – пошёл я работать врачом, на практике знания применять, с великим трудом добытые, – облизав пересохшие губы и переведя дух, продолжил невропатолог дальше рассказывать. – Распределился после института в подмосковную Электросталь, начал трудиться в местной больнице. Думал там всех врачей и больных сразу же покорить своими стараниями и заботой, а главное – знаниями глубокими, свежими, из самой Москвы привезёнными, – чтобы хоть там чего-то добиться, в практической, так сказать, плоскости… Но и там у меня, увы, полный облом получился, и там от моих знаний и трудов толку оказалось мало: помогать и продвигать меня там по службе никто абсолютно не собирался. Там, как и в Москве, своя мафия правила… и свои кланы. Кланы еврейские, армянские, кавказские и закавказские – всех и не сосчитать! Русских кланов вот только не было – ни разу таких не встречал нигде, хотя мест сменил много. Русский Ванюшка, – он всю жизнь в одиночку бьётся, и помочь ему, сиротинушке, некому… Так что будь ты хоть семи пядей во лбу: хоть Сеченовым, хоть Пироговым, хоть Мечниковым! хоть академиком Павловым самим! – всё равно ты будешь всегда в дерьме, на самом дне ковыряться; будешь всю жизнь горбатиться как вол, всю чёрную работу делать – и при этом лапу сосать, крохи жалкие получать, нищенские. А деньги твои заработанные будут другим обильно в карманы течь: руководителям этих самых кланов, их родственникам и прихлебателям… И ничего ты с ними не сделаешь в одиночку, не переборешь их, как клопов вонючих не передавишь; даже и не скажешь-то ничего в собственную защиту, не предъявишь справедливых претензий: чего, мол, меня не цените, не уважаете, в бесправных рабах держите столько времени, за мой счёт живёте? Потому что разговор у них будет один… и короткий: не нравится, скажут они тебе, умный и грамотный шибко – уходи, скажут, на все четыре стороны, ищи себе другую клинику. На твоё место, добавят, желающих много найдётся. А куда идти, Вадик, подумай?! – ежели везде то же самое – та же мафия всемогущая и всепожирающая, и круговая порука; и тотальное лизание начальственных задниц ещё, чего я в принципе делать никогда не желал, что мне ещё и в институте претило… В общем, плюнул я тогда на всё: на мечты, на наполеоновские планы прежние, на амбиции студенческие, непомерные, – и успокоился уже окончательно к тридцати годам: с аспирантурой, наукой, крутой карьерой врачебной. Понял, что не для меня они – все эти житейские радости и вершины, не для моего свиного рыла, как говорится.
–…И семейная жизнь у меня не сложилась, увы, – невесело улыбнулся врач, вторично переведя дух и быстро вытерев крепкими пальцами спёкшуюся в уголках рта слюну, белой ставшую от волнения. – Потому что собственного угла у меня в Электростали не было. Я ведь примаком жил в чужом дому, где тёща всем верховодила, которая и меня захотела скрутить. Да не вышло… С первого дня с ней и женой ругался, авторитет свой и право жить как хочу отстаивал. И всё – из-за денег проклятых, которых им мало было, которые я мешками, видите ли, обязан был им таскать, больных отрясать как груши… Терпел я терпел десять лет их каждодневные надо мной издевательства, а потом плюнул на всё – когда совсем уже невмоготу стало, когда запилили и заели обе, – разругался вдрызг с бабами своими и послал их обеих куда подальше. Пришёл с работы однажды, вещи собрал, что в чемодан небольшой уместились, – и домой подался: к родителям. С чем уехал от них в институт когда-то – с тем и назад вернулся… И вот уже шестой год здесь живу, в поликлинике этой работаю. Ни семьи теперь, ни друзей, ни перспектив на будущее. Так – случайные связи одни, случайные встречи. Всё здесь – случайное и несерьёзное, всё – ерунда. Запить ещё с горя осталось – тогда полный букет будет… А ведь я “Второй мед” закончил – лучший медицинский вуз страны, что не хуже твоего Университета котируется. Туда в наше время, помнится, было ой-как непросто поступить! Да и сейчас, как говорят, – тоже! Мне, когда я ещё в Москве-то учился, такое будущее все пророчили… А я просыпаюсь теперь каждое утро и спрашиваю себя: зачем живу? для какой такой цели? – непонятно! Непонятно: зачем я вообще-то появился на свет? Может, лучше бы и не появляться?.. Вот так-то вот, мой дорогой, – улыбнулся устало доктор, громко воздуха набирая в грудь, плечи широкие расправляя. – Такая вот она – будущая “лёгкая жизнь”, которая тебя ожидает. Вот где тебе нервы-то понадобятся: толстые – как канаты!…
Заметив, наконец, по почерневшему лицу пациента, какое мрачное впечатление он произвёл на него своим рассказом долгим и не особо радостным, совсем недетским к тому же, что тяжела была для больного парня сия суровая правда, может и неприятна даже; вспомнив, что у него, у Стеблова, и собственная правда есть – и тоже, как видно, не лёгкая, – тридцативосьмилетний невропатолог, вдруг спохватившись, замолк, извиняющее посмотрел на всех, волосы на голове поправил.
–…Я, может, лишнего чего наговорил, не знаю, – с улыбкою сказал он, на Вадика ласково поглядывая. – Ты уж прости меня, малыш, за горячность мою, за несдержанность. Увидел тебя – и себя самого узнал. Свою молодость давнюю вспомнил, как в воду канувшую, свои увядшие и так и не сбывшиеся мечты приехать и покорить Москву и весь мир врачебно-научный… Я ведь к чему тебе всё это рассказывал так длинно и путано? – обратился он опять к сидевшему перед ним с опущенными плечами Вадику, усталому, красному, очумелому! – Уж не для того, конечно же, чтобы поплакаться перед тобой, на судьбу свою безрадостную пожаловаться, или: чтобы напугать тебя, посеять панику – избави Бог! Я просто хочу тебе совершенно искренне объяснить, что вся твоя жизнь – ещё впереди, ещё только-только начинается, по сути, и что она – страшно жестокая и страшно подлая штука! Никто тебе в ней своего куска колбасы не отдаст и места насиженного не уступит. За это бороться нужно будет, насмерть стоять, как наши отцы и деды под Сталинградом стояли или на Курской дуге, на полях Бородинском и Куликовом. Не будешь бороться – голым останешься: как я теперь, – сколько бы пядей во лбу у тебя изначально ни было и какими бы способностями выдающимися к математике тебя Создатель ни наградил…
– Поэтому я и говорю тебе, – уже совсем по-отечески стал наставлять Стеблова разуверившийся в жизни врач, – береги здоровье и нервы, силы копи. Всё это тебе в дальнейшем ох-как понадобится: попомнишь меня! За здоровье люди миллионы готовы платить, перед врачами и донорами на коленках ползать, – да уж поздно бывает! Не купишь его – здоровье хорошее, никакими посулами и подачками не приобретёшь. Здоровье – вещь Божественная, бесценная… Тебе сейчас шестнадцать лет – самый ответственный возраст, самый, может быть, важный из всех. Это я тебе как врач говорю, знающий физиологию человека. В это время активно формируются психика, вся структура душевная, наша физика и физиология. Нервы в этот момент бывают особенно чувствительны и возбуждены: их беречь нужно, не перенапрягать, не расстраивать глупостями разными, проблемами. Нужна забота родительская, домашний, привычный тебе микроклимат – семья, короче, нужна, а не интернат какой-то с его казёнщиной и безразличием… Влюбляться, наконец, надо, влюбляться по уши – и это требуется сейчас, когда чувств у тебя внутри столько, что и на десятерых хватит… А ты себя на чужбине изводишь непонятно зачем, нервы себе там треплешь, интегралы с производными учишь, теорию вероятности. На кой ляд они пока тебе? Надорвёшься с малолетства – что потом будешь делать?! как, надорванный, будешь жить?! Родителей с ложкой у тебя всю жизнь под боком не будет, и кормить и поить тебя будет некому… А высшую математику ты и в институте прекрасно изучишь, когда поступишь туда. Всему своё время должно прийти: и для высшей математики черёд настанет…
– Дело, конечно, ваше, и выбор – ваш, – устало закончил врач, глаза ладонями протирая, и видно было, что беседа эта и его уже утомлять начала. – Но если вы хотите знать моё мнение, – то я против ранней специализации, категорически против того, чтобы производство гениев на поток ставили. Гении – цветы Божии, со своею миссией земной, своими целями и задачами, и со своими же сугубо индивидуальными программами умственного и творческого развития, внутренним планом роста и возмужания. Кому-то рано удаётся развиться и “выстрелить” – как Лермонтову и Есенину, например. А кто-то, как Гёте тот же, только к старости, к 80-ти годам, мощи и творческой зрелости достигает. Каждому – своё, как говорится. И не нужно вмешиваться в Божий процесс, ускорять его, искусственно моделировать. Тем более – в казарме, как происходит у вас, в этой вашей спецшколе. Эти ускорения казарменные, интернатовские, как вы уже, я надеюсь, поняли, на собственной шкуре вон убедились, очень и очень плохо кончаются. Человек всегда расплачивается за них по самому большому счёту – здоровьем и жизнью своей…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































