Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
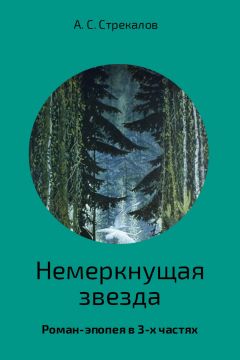
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
С самим Вадиком на эту тему старались не говорить: берегли его молодые нервы, за последний год перегруженные. И только отец Стеблов, довольно равнодушный прежде к образованию и школьным делам детей, в этот раз не на шутку разволновался и стал проявлять к судьбе старшего сына невиданный интерес: нет-нет, да и пристанет к нему с томившими душу вопросами, которые один только Вадик и мог разрешить, мог его, малограмотного мужика, хоть чуточку утешить и успокоить.
–…Ну что, сынок, как думаешь: пришлют тебе приглашение в Москву или не пришлют? – выждав момент, когда дома жены не было, запрещавшей ему на эту тему с Вадиком разговаривать, неуверенно и как можно ласковее обращался он к первенцу.
– Не знаю, отец, не знаю! – что об этом заранее распаляться?! – неохотно и всегда чуть-чуть раздражаясь, отвечал старший сын, заметно при этом брови хмуря. – Может – пришлют, может – нет… Во всяком случае, на автоматическое зачисление надеяться точно не надо… При лучшем исходе могут пригласить только в летний подготовительный лагерь. А там придётся экзамены опять сдавать, опять волноваться и напрягаться…
Разговор останавливался, затихал, долгим молчанием оборачивался, во время которого старший Стеблов, набычась, перемалывал и переваривал в голове сообщённую информацию.
–…А что это за лагерь такой, про который ты говоришь? – наконец прерывал он молчание, всё ранее сказанное поняв, при этом участливо и подобострастно Вадику в глаза заглядывая.
Делать было нечего: хочешь, не хочешь, а надо было отцу всё растолковывать-разъяснять. Уж больно у него взгляд был заискивающий и просительный. Волновался батюшка, переживал: это было видно…
И, набравшись терпения, родительское состояние по достоинству оценив, Вадик холодно и неохотно рассказывал отцу всё, что вычитал и понял сам из присланной ему брошюры, или что узнал от дружка своего, Збруева Сашки. Он говорил, по сторонам рассеянно глядя, что школьники, успешно сдавшие оба экзамена, попадут в интернат сразу и будут всё лето, соответственно, отдыхать. Но таких счастливчиков, тут же уточнял он, будет совсем не много… Те же, рассказывал он батюшке далее, правила приёма на память цитируя, кто не очень хорошо себя показал на каком-то одном предмете, будут приглашаться в летний подготовительный лагерь на месяц, где их будут усиленно готовить – доводить, так сказать, до ума, до требуемого в спецшколе уровня. После чего все участники сборов должны будут повторно сдавать вступительные экзамены, по результатам которых и произойдёт уже их окончательное зачисление.
– Вот такие вот пироги, отец, – невесёлой улыбкой заканчивал он свой рассказ, беспомощно разводя руками. – Так что даже и в лучшем случае всё ещё впереди. И сказать что-либо определённое я тебе сейчас не могу. Понимаешь?
–…Да-а-а! – сочувственно вздыхал отец, головой тяжело качая. – История долгая. И канительная… А сразу-то что, не поступишь думаешь? – улыбнувшись непонятно чему, он озорно вдруг сынишку спрашивал, будто бы подзадоривая того.
– Да нет! что ты! – махал на него руками Вадик, пуще прежнего хмурившийся. – Я же физику плохо сдал, вспомни! Я рассказывал… Математику-то вроде бы нормально, и проблем с ней не будет, думаю. А вот с физикой так дёшево опростоволосился! – до сих пор себе этого простить не могу!… Так что, хотя бы на летние сборы пригласили – и то прекрасно будет. Там-то уж я постараюсь не подкачать…
И опять отец с сыном замолкали, надолго уходили в себя; опять о чем-то усиленно поодиночке соображали-думали…
–…Ну а Сашка-то Збруев сразу поступит? как считаешь? – через какое-то время вкрадчиво спрашивал отец. – Он-то как экзамены сдал?
– Да Бог его знает! – нервный сыновий ответ следовал. – Говорит, что математику не очень хорошо решал, а физику, наоборот, сдал отлично… Может, ему тоже придётся в летний лагерь ехать: сразу-то его, наверное, вряд ли примут… Не знаю, короче: это его дела…
Постояв с родителем молча ещё пару-тройку минут, сильно устав и от вопросов тяжёлых, и от самой беседы, сын хотел уже было разворачиваться и уходить, – но отец, непонятно зачем, вдруг спросил его про летнюю школу:
– А в каком месте проходят эти их сборы-то, не знаешь?
– В книжке написано, что на Оке где-то… В Пущино, по-моему, – ответил сын, удивлённые глаза на отца устремив.
–…Не бывал, – отец, сощурившись, поглядел вдаль, словно желая увидеть там названное сыном место. -…Наверное, хорошо на Оке летом? как думаешь? – добавил, чуть погодя, с любовью посмотрев на Вадика, как, может, с рождения на того не смотрел.
– Не знаю, – пожал плечами смущённый Вадик, с толку совсем сбитый. – Хорошо, наверное…
17
Две первые недели июня восьмиклассник Стеблов сдавал общегосударственные выпускные экзамены; и делал это легко и играючи всем на удивление, билеты как семечки щёлкал, за что и был награждён в своей школе одними отличными отметками. Только Старыкина по русскому языку поставила ему четвёрку, но Вадик не обиделся на неё: филологом он становиться не собирался.
Порадовалась семья за него, порадовался за себя сам герой. После чего все дружно, с приподнятым настроением, стали дожидаться весточки из Москвы, которая была для Стебловых на тот момент куда значительнее и дороже.
“Хуже нет ничего на свете, чем ждать и догонять”, – справедливо утверждает пословица, которая, как известно, никогда не врёт, наоборот – самую суть выражает. Любое ожидание тяжело уже тем, что человек бессильным и бесправным становится по отношению к собственной судьбе, вершащейся неизвестно где, без его прямого влияния и участия… И как бы он ни хотел, ни старался, сколько б ни думал и ни переживал, – он не может вмешаться, увы, в этот наиважнейший процесс, собственноручно ускорить его, убыстрить, сделать для себя более выгодным и благоприятным.
Такое бессилие собственное и бесправие действует на психику человека самым негативным образом. Оно вдвойне тяжело для человека пылкого и горячего, энергией внутренней переполненного, жаждой жизни, ревнивой ответственностью за судьбу, каковым и был с рождения наш молодой герой, наш Вадик. Ждать он совсем не умел, не умел отключаться и расслабляться, переходить на что-то другое в такой тяжёлый момент, менее для себя важное и болезненное. Оттого и страдал больше других, больше других мучился и изводился. То о плохом вдруг думать начнёт, негативно-провальном, себя нещадно чихвостить и материть, экзамен прокручивать в голове, на котором так дёшево “лопухнулся”. А то вдруг надеждой крохотной себя оживит – что не всё-де у него, недотёпы, потеряно, не всё так ужасно; что, может, и сложится у него с интернатом, и всё, пусть не сразу, получится.
И так – каждый Божий день – без перерыва и отдыха, без расслаблений. Кошмар да и только!
Даже и спорт не отвлекал его, которым всё лето он без устали занимался. Играя в футбол, баскетбол, на пруду часами купаясь, он всё равно про интернат, не переставая, думал – всё шансы прикидывал свои, вероятность своего туда поступления…
Остальным Стебловым было намного легче: про это нечего и говорить. Родители его, тоже люди горячие и нетерпеливые, спасались работой и ежедневными домашними делами, которых было у них всегда непочатый край, которые не кончались. Брат и сестра были ещё очень маленькие, чтобы всё до конца понимать, происходящее по-настоящему чувствовать… Хотя и они, как могли, поддерживали старшего брата, словом добрым, вниманием и заботой помогали ему, отвлекали от мыслей чёрных в течение летних каникул… и по нескольку раз на дню бегали почтовый ящик смотреть, проверять его содержимое.
Чаще других заглядывала туда десятилетняя сестрёнка Вадика, перешедшая в четвёртый класс. Уж очень ей хотелось, пигалице, первой обрадовать всех долгожданной московской весточкой, первой обнять и поздравить брата, плясать, по традиции, заставить его… Но весточка всё не шла и не шла, будто забыла дорогу. Весь июнь издевался над бедной девочкой бесчувственный металлический ящик, показывая ей, словно кукиш, пустое и ржавое нутро…
Всё мрачнее и тише от этого становилось в доме Стебловых, всё черней, всё безрадостней делались его насельников глаза. И более всех мрачнел и чернел, конечно же, сам Вадик… К началу июля-месяца – последнему по их со Збруевым Сашкой прикидкам сроку присылки сообщения из Москвы о результатах мартовских испытаний – он так изменился явственно: напрягся, осунулся, в себя с головой ушёл, – что со стороны уже впечатление не вполне здорового человека производил, нуждавшегося в медосмотре и лечении.
Не отставала от него и мать, Антонина Николаевна, вместе с сыном изменившаяся до неузнаваемости, интерес к жизни как-то незаметно утратившая…
В десятых числах июля, когда уже прошли, казалось, все мыслимые и немыслимые сроки и когда семья психологически погрузилась уже в полный мрак, отец Стеблов не выдержал, сказал за ужином:
– Ну что, сынок, видать не позовут тебя даже и в ту, летнюю, как ты говоришь, школу?
– Видать, не позовут, – тихо и сухо ответил Вадик, ни на кого не взглянув, лишь краской стыда заливаясь.
–…А про Збруева-то Сашку что слышно? – сурово спросил отец. – Ты у него узнаёшь чего-нибудь, разговариваешь по этому поводу?
– Узнаю. Ему тоже пока ничего не прислали.
– И не пришлют! И очень хорошо сделают, я тебе скажу! И чёрт с ней тогда, с этой школой грёбаной! – выругался в сердцах старший Стеблов, не менее других измотанный июльским бесплодным ожиданием, осунувшийся и почерневший вместе со всеми. – Пусть в ней тогда сам этот твой академик и учится! а мы обойдёмся и так! Дома лучше с тобой последние два года побудем: поспим подольше! покушаем повкусней! силёнок перед выпускными экзаменами наберёмся!… Нервы ещё будешь себе мотать в пятнадцать-то лет, и нам всем заодно: поступишь – не поступишь! пришлют – не пришлют! выгорит это дело – не выгорит! Надо нам и тебе всё это, скажи, – такая головоломка и нервотрёпка?!… Уж если Збруева твоего туда не зовут – с его-то блатными родителями! – то нам, убогим, туда и вовсе соваться нечего! нас, лапотников неумытых, туда тем более не позовут!
– Не прислали приглашение – и хрен с ним! И хорошо! и славу Богу, как говорится! – разошедшийся, шумел на всю кухню отец, истомлённому сердцу роздых давая. – Радоваться надо и Господа денно и нощно славить, что огородил нас, пустоголовых, от этакой напасти! спас из милости от неё! Школа какая-то непонятная, да ещё и платная, толком про которую тут у нас никто ничего не знает! Интернат, к тому же! казёнщина! Мне сразу это всё не понравилось! сразу хотел тебя от этого дела отговорить! – сказать, что мы не дурочки лопоухие и не миллионеры!… Съездил туда весной, подурачился с Сашкой на пару, время убил – и ладно! и пусть! От тебя не убудет! А теперь забудь побыстрей про это, как про лыжи свои забыл! Тем более, что и денег с нас за ту поездку ни копейки не взяли: не обидной была езда!
–…Неужели ж ты думаешь, дурья твоя голова, – откашлявшись, натужно смеялся батюшка, старшего сына увещевая, – что мы бы и вправду тебя туда отпустили, даже если б ты поступил?! Да что на нас с матерью креста, что ли, нет?! – живыми и здоровыми родного чадушку в казённый дом отдавать! на казённые харчи пустые! Никогда б мы этого не сделали, ни при каком условии! – точно тебе говорю!… Мы вон с ней, – кивнул он головой в сторону притихшей жены, – без отцов своих пожили в детстве – знаем, что это такое – доля сиротская. Никому б её никогда не знать и не пережить, и уж тем более тебе – сыночку нашему… В заочной школе учишься – и хорошо, учись на здоровье. С тебя и одной заочной достаточно. И дома с нами живёшь, и денег за неё платить не надо. Красота, да и только!…
Выговорившись о наболевшем, выплеснув из себя одним махом всю изъевшую душу хмарь, гнойник из души будто бы собственноручно выдавив и одновременно будто бы – как топором тяжёлым – отрубив от себя Москву и надежды тайные, сокровенные, что с нею и колмогоровской школой связывал, улыбнувшийся отец впервые, может, за последний месяц, вечностью для них обернувшийся, глубоко и привольно вздохнул, плечи свои широко, по-молодецки, расправил.
– Так что, Вадик, – чрезвычайно довольный вдруг наступившему выздоровлению, весело и даже чуть-чуть развязно потрепал он сына по голове, – давай оставляй побыстрее ты дурь эту, которую ты сам себе и внушил по-молодости, и давай с тобой начинать жить, как раньше жили, – тихо и спокойно. Поживёшь с нами вместе ещё пару годков – хуже тебе от этого не станет. Да и нам всем – тоже… Рано тебе ещё из дома своего уезжать, нервы начинать мотать на чужбине, рано. У тебя вся жизнь впереди. И нервы крепкие и здоровье тебе ещё ох-как понадобятся! Уж поверь, сынок, мне – отцу твоему…
Те нравоучения родительские, долгие, сын, помнится, слушал молча и вроде как внимательно даже, не перебивал и не возражал отцу. Но потом сказал, из-за стола вылезая, – как отрезал сказал, как что-то давно решённое:
– Я всё равно буду учиться в этой школе: не в этом году, так в следующем. Вот только подготовлюсь получше, поеду опять – и поступлю: мне это по силам… Просто в этом году всё как-то неожиданно быстро произошло: брошюру эту в феврале прислали, а в марте уже экзамены. Я, если честно, на экзаменах как в бреду был: не соображал ничего, волновался здорово, торопился получше и побыстрей ответить… А торопливость эта вон приводит к чему. Жалко… Ладно! Чего теперь говорить и руками размахивать после драки. В следующем году такого не будет – это уж точно.
Произнеся всё это тихо, но твёрдо, словно программу жизни перед родственниками прочитав, клятву самую главную вслух будто бы перед ними выговорив, он вышел решительно из-за стола и, не глядя ни на кого, сознательно никого с собой не приглашая, пошёл гулять на улицу – душу мятущуюся лечить, очень уставшую от ожидания.
Ноги автоматически понесли его в парк любимый. И там он долго-долго одиноко бродил по его прохладным аллеям, усталость и… чувство заметного облегчения в одно время испытывая, виною которому, как ни странно, стал отец. Который и сам, истомившийся, успокоился, выговорившись за столом, и его, пацана, успокоил, одним махом сказавши то, что все боялись сказать: что сын его в этом году не поступит.
«Да, он прав, наверное: не поступлю, – устало, но без истерики итожил гулявший Вадик суровый отцовский вердикт. – В этом году я, судя по всему, действительно пролетел, и ждать уже чего-то положительного из Москвы не стоит. Хотели б меня в летний лагерь позвать – позвали бы… Ну и ладно: нет – так нет. И хорошо, значит. Значит, надо взять себя в руки немедленно, успокоиться побыстрей и потихонечку начинать уже на следующий год настраиваться: чтобы опять не попасть впросак, идиотом полным не выглядеть… Опыт теперь у меня есть, большущий опыт! А опыт в таких делах – великое дело… И систему с экзаменами я хорошо изучил, и ОблОНО знаю уже где находится. Так что в следующем году могу туда и один, если что, поехать – если Сашка, к примеру, закочевряжится. Скажет, что не хочу, мол, и точка… Ничего, не пропадём! В другой раз только злее будем! Мы, слава Богу, сами в силе пока: с руками, ногами и головой! – и провожатые нам не нужны, как не нужны нам и няньки…»
Так и ходил он тогда по парку часа два, с такими вот точно мыслями, успокаиваясь и настраиваясь понемногу уже на следующий календарный год, на первую его половину, когда в марте-месяце должны будут проводиться опять очередные в интернат экзамены, которые он всенепременно намеревался ехать сдавать – и сдавать успешно.
Новые трудности не пугали его – они его раззадоривали…
18
Письмо с ответом из Москвы семья Стебловых только в середине августа получила, когда ответа этого уже никто из них и не ждал, когда все про него забыли.
Тот день по красоте изумительным был, очень тёплым и тихим, – одним из тех благодатных и редких дней, что качеством своим и струящимся с небес благолепием могут составить славу целой поре, а то и целому году. Солнце отчаянно бушевало на небе, природа не отставала от него на земле. Всё было мощно, величественно и прекрасно, всё утопало в солнечном свете, зелени, неге, тепле и плодах…
С утра пораньше находившийся в отпуске отец, Сергей Дмитриевич Стеблов, увёз своих детишек в лес – чтобы отдохнули те перед школой, надышались воздухом, сил набрались, а заодно и грибов с орехами пособирали, от которых трещали и ломились дубравы, которыми изобиловал лес, так что люди не знали, что с теми грибами и орехами делать: горожане мешками таскали их… Вот и Стебловы за лесным урожаем уехали и вернулись назад часов в пять пополудни. После чего дружно показывать матери лесные дары бросились, которая с работы только-только вернулась и сидела и дома поджидала всех.
– Мам! Посмотри сколько грибов мы тебе привезли! и все, в основном, белые! – хором тогда закричали дети вышедшей на крыльцо матушке, наперебой ей пытаясь пересказать подробности прошедшей поездки.
Но всегда такая чуткая и внимательная к детским рассказам мать на этот раз их совсем не слушала. Рассеянная стояла она на крыльце, лицо болезненно морщила – и только подходящего момента ждала, чтобы сообщить что-то очень важное.
– Вадик, – не выдержав, наконец, оборвала она десятилетнюю дочку на полуслове. -Тебе в обед заказное письмо принесли – ну, из школы той, в какую ты весной поступал… из интерната. Нас никого дома не было, и почтальонша соседям его отдала, а они мне, когда я с работы пришла.
Сказавши это, она замерла, пытливо посматривая на сына, реакции от него ожидая; замерла вслед за ней и семья, поражённая известием…
Вадик тоже замер, меняясь в лице. Куда только делись сразу его румянец лесной, лесная весёлость.
–…Ну и что там написано? – задрожавшим голосом не сразу спросил он мать, как в подвале сыром холодом вдруг покрываясь.
– Не знаю, сынок, – извиняясь будто, ответила растерянная Антонина Николаевна. – Без тебя я побоялась его вскрывать. – И, подумав, добавила, пряча глаза от сына: – Мало ли что они тебе там прислали…
– Где письмо? – Вадик сорвался с места и почти бегом направился в дом.
– В большой комнате, на столе, – услышал он за спиной торопливые слова матери, бросившейся ему вдогонку.
За ней, не говоря ни слова, последовала вся семья…
Письмо Вадик увидел сразу, как только порог комнаты переступил, посредине которой у них обеденный стол был поставлен. На этом-то столе, на краю его, как раз и лежал присланный из Москвы конверт с наклеенными на него дорогими марками.
«Наверное, не поступил, – было первое, что решил тогда наш герой побледневший, беря трясущимися руками послание из Москвы, оказавшееся очень тонким на ощупь. – Потому и прислали так поздно, потому и конверт почти пуст. Для отказа долгих объяснений не требуется».
И так тоскливо сделалось ему от подобного заключения, так невыносимо горько и тяжело на душе, что впору было слёзы лить начинать, как в детстве, от разрывавшей сердце обиды…
– Ну что там, Вадик? – послышался сзади голос отца, вбежавшего последним в комнату, – что они пишут?
Вадик вздрогнул, поморщился, губы сжал, горько взглянул на родителя тоской наполненными глазами; после чего, не спеша, разорвал конверт, заглянул в него осторожно. Внутри конверта лежал сложенный вчетверо лист серовато-голубой бумаги невысокого качества, сквозь которую просматривался кое-где машинописный текст.
“Уважаемый товарищ Стеблов, – было напечатано на внутренней стороне листа. – Приёмная комиссия специализированной школы-интерната №18 физико-математического профиля при Московском государственном Университете им.Ломоносова сообщает Вам, что по результатам конкурсных экзаменов, состоявшихся в марте этого года, Вы зачислены в девятый класс нашей школы…”
Прочитав последнее, ошалевший Вадик вспыхнул и зарумянился так, будто его из ведра краской алой облили. Кровь ударила ему в голову мощным потоком, щеки, шею, глаза залила. И показалось даже в первый момент, что лопнет, не выдержит голова такого внутреннего напора.
«Зачислен! зачислен! зачислен!» – громовым многократным эхом разносилось по жилам его и радостью вспыхнувшему сознанию такое заветное и такое желанное слово, которого он целых полгода ждал, о котором одном только всеми днями и ночами грезил. И которое при каждом новом повторе теперь доставляло радость ему неописуемую, счастье непередаваемое.
– Я зачислен, – оторвав от бумаги голову, удивлённым голосом тихо произнёс он, до конца ещё не веря сказанному, после чего ещё раз – уже вслух и достаточно громко, откашлявшись предварительно, – зачитал всем присутствующим членам семьи первый – самый важный – абзац депеши, проверяя будто на родственниках – в уме ли он, не ошибся ли.
Потом, переведя дух и убедившись воочию, что всё правильно, и не ошибся он, не поехал умом от долгого и бесплодного ожидания, Вадик с жаром стал зачитывать домочадцам вторую половину московского послания, не менее для него важную. Там говорилось про желательные сроки прибытия в Москву, необходимые вещи и документы, которые требовалось взять с собой каждому новобранцу школы. И ещё там подробно расписывался столичный транспортный маршрут, которым ребята-первогодки могли без труда добраться до места учёбы. Он читал всё это громко и с выражением, чуть ли не по складам, и во время того чтения памятного, незабываемого, не единожды останавливался на полуслове, силясь получше смысл напечатанного понять, а заодно и губы слипавшиеся языком промочить, ему читать и говорить мешавшие.
Дочитав письмо до конца – сияющий, возбуждённый, дикий! – он опять тогда поднял голову и сразу же посмотрел на отца, ожидая именно от него – кормильца и работяги, и самого большого скептика из всех Стебловых, – похвалы себе и объятий, и восторга бурного, бурной реакции наподобие той, какую он видел уже год назад – после положительного из ВЗМШ известия.
Но реакции на этот раз не последовало – никакой. А было всё с точностью до наоборот: сумрачный и серьёзный стоял отец посредине комнаты, напряжённо вслушиваясь только в то, что ему зачитывал сын. И услышанное – это было по лицу его видно – радости ему не доставляло.
Такими же сумрачными и растерянными, как ни странно, были матушка Вадика, его младшие брат и сестра…
– Да вы что, не рады, что ли?! – широко улыбнувшись, спросил родных удивлённый их настроением Вадик. – Я же в Москву, в интернат колмогоровский поступил!…
Но никто не ответил ему, голоса не подал; никто даже звука не проронил на его вопрос торжественный. В комнате установилась гробовая тишина, нарушаемая только шумом проезжавших мимо окон машин, да тиканьем часов настенных, купленных прошлым летом… Все присутствовавшие только теперь поняли – отчётливо, зримо, по-настоящему! – реальную цену известию, которое ещё месяц назад ожидалось ими с таким нетерпением и таким жаром. Почувствовали, что за известием этим уже замаячили, застучали в дверь скорый из дома уход и нешуточная длительная разлука, о которой до этого так мало и так несерьёзно думалось, которую плотно закрывали собой и “неудачно сданные” в областном центре экзамены, и большой в интернат конкурс.
Да! Стебловы ждали ответа из Москвы, всё лето как оглашенные ждали, встречая почтальона по очереди, – но ждали, скорее, как голого факта, как полезной высококвалифицированной и высококачественной оценки их старшему сыну и брату за проведённые в марте-месяце интеллектуальные испытания, за первое участие в них. Никто и не думал воспринимать тот ответ как реальный сигнал к такому же реальному действию, с отъездом из дома связанному: это казалось всем чем-то несбыточным и несерьёзным.
«Вряд ли поступит туда наш Вадик, – думали домочадцы промеж собой. – Жидковат он для Москвы и для школы этой».
Мысль эта крамольная, для сына и брата обидная, служила Стебловым неким барьером защитным, позволявшим им всем так долго и так чудесно сохранять желанный в душе комфорт, желанное внутри равновесие. Она с весны защищала семью, делала семью беспечной…
Теперь же барьер рухнул – письмо разрушило его! И всем вдруг сделалось страшно, сделалось не по себе: разлука была на пороге…
– Ну и что делать думаешь? – наконец спросил отец, первым справившийся тогда с волнением.
– Поеду учиться, – спокойно и твёрдо, без малейшего колебания ответил Вадик, уверенным тоном своим не оставлявший уже никому никакой надежды; отчего ещё горше сделалось всем, ещё тоскливее и страшнее. Разлука с порога зашла уже в дом, уже дразнила-показывала Стебловым свой оскал леденящий.
–…Ну ладно, – сказал тогда побледневший и посуровевший отец, желваками на щеках играя. – До первого сентября ещё далеко, ещё поговорим об этом. А теперь надо идти разбирать грибы, а то с ними до вечера не управимся…
Вадик на улицу не пошёл: не до грибов ему уже было. И отец, видя настроение сына, настаивать не стал – освободил его от возни домашней.
Оставшийся один, безумно счастливый и гордый, сын ещё раз внимательно пробежал глазами письмо, уже в одиночку порадовался его драгоценному содержанию, поцеловал письмо даже, как ни мать, ни сестрёнку не целовал; после чего, распираемый счастьем, подошёл к телефону и позвонил дружку своему, которого со вчерашнего дня не видел.
– Сань! – почти закричал в трубку. – Ты сегодня почтовый ящик смотрел?!
– Нет. А что? – послышался на другом конце провода заспанный голос.
– Как – что?! – выпалил шальной от счастья Вадик. – Я же сегодня письмо из Москвы получил! – из спецшколы колмогоровской! У тебя в ящике наверняка такое же точно лежит, а ты на диване валяешься! Давай, поднимайся быстрее и дуй на улицу – смотри свой ящик, а я сейчас к тебе забегу: обсудим такое дело!
Сказав всё это, дружка квёлого растормошив, Вадик положил трубку на место, переоделся наскоро и бросился со всех ног к Збруеву, прихватив с собой драгоценный конверт, аккуратно в газету завёрнутый…
– Ну что, получил?! – спросил он, едва открылась Сашкина дверь и на пороге показался невесёлый товарищ.
Ничего не ответил Сашка, а только отрицательно замотал головой, густо краснея при этом.
– Как?! – опешил Вадик. – Вообще ничего?!
– Вообще, вообще, – невесело ухмыльнулся Збруев, недовольно взглянув на Стеблова, и потом, помявшись, спросил: – А ты сам-то что получил? – давай, показывай.
– Вот, – протянул Вадик Сашке газетный свёрток, и тот, развернув газету небрежно, вытащил из неё конверт, повертел его, осмотрел придирчиво, каждую марку пальцем погладил (он был заядлый филателист), после чего, достав из конверта письмо, стал внимательно вчитываться в его содержание.
–…Значит, поступил всё-таки, – сквозь зубы холодно процедил он через минуту, дочитав письмо до конца и, подумав, добавил: – Как поздно они ответ прислали – перед первым сентября фактически.
– Конечно поздно! конечно! – с готовностью подтвердил Вадик, счастьем и гордостью опять воспылав, счастье вокруг себя искрящимся живым фонтаном разбрызгивая. – Я уже и рукой давно махнул! Думал – всё, не поступлю в этот раз, думал – на следующий год поступать придётся!… А тут приезжаю сегодня из леса, ни сном, ни духом не ведаю, а мать мне и говорит испуганно, что мне-де письмо из Москвы прислали, которое она, дурочка, даже вскрыть побоялась! Мало ли, мол, чего!… Вот такие вот дела, Сань! такая петрушка чудесная получается. Я ж ответ этот, это их приглашение всё лето ждал! все три месяца только о нём одном и думал! А его мне только сегодня прислали, под самый, можно сказать, конец. Умеют, умеют они там, в Москве, людей на тугих держать, черти полосатые! С ума можно сойти от этого… или инфаркт получить!
Засмеявшийся Вадик и вправду схватился тогда левой рукой за грудь и начал дурашливо растирать её как при сердечной боли…
Крайнее возбуждение его, однако ж, Збруеву не передалось, и общего разговора и праздника у них не получилось. Сашка вообще плохо слушал Вадика: всё кривился и морщился, вертелся по сторонам, о чём-то своём стоял и упорно думал…
– Молодец, – только и сказал он холодно, взглянув на гостя пустыми глазами, и потом также холодно и равнодушно спросил: – Ну а в Москву-то теперь когда собираешься ехать?
– В конце августа, как здесь велено, – простодушно ответил Вадик, забирая назад письмо и бережно, как реликвию, его в конверт обратно пряча.
Упаковав конверт с письмом в газету, под мышку тот свёрток сунув и успокоившись немного, бурлившие чувства уняв, он, спохватившись, вдруг в упор на Сашку тогда посмотрел, на его лицо серое и безжизненное.
– Слушай, а чего тебе-то сегодня письма не принесли? – спросил его участливо, как можно добрее и проще стараясь при этом быть. – На почте задержали что ли?
– Это-о-о вряд ли, – расстроено замотал головой Збруев, от товарища своего отворачиваясь. – С какой стати им его там задерживать-то? В одном городе живём, одним узлом связи обслуживаемся. Если б получили, то и принесли бы сегодня – как тебе – и вручили бы: я дома был… Нет, мне вызова не пришлют: я это точно знаю, – грустно добавил он, вздохнув тяжело, стыдливо.
Настроение его портилось на глазах, и он уже перестал совсем следить за собою и как-то себя контролировать; перестал, приличия ради, на гостя внимание обращать. Наоборот – начал уже тяготиться гостем…
Справедливость Сашкиных слов почувствовал в тот момент и Вадик – и ему стыдно вдруг сделалось за свою весёлость, за счастье безмерное, неуместный восторг.
– Да брось ты, Сань, паниковать-то! – попробовал было утешить он раскисшего дружка. – Неужели ж ты хуже меня вступительные экзамены сдал?! Сомневаюсь я!… Вспомни, как я на экзаменах физику завалил так бездарно, третий закон динамики на память воспроизвести не смог – и то, вон, поступил, даже и без сборов летних. Значит и ты поступишь – уж поверь мне! По-другому здесь и быть не может… Ты когда, кстати, смотрел почтовый ящик-то? – вдруг спросил он.
– Когда, когда! Перед твоим приходом, – с раздражением ответил Збруев, разговором явно уже тяготясь, как и самим Стебловым.
Вадик потупился.
– Сейчас половина шестого, – посмотрев на висевшие в передней у Збруевых большие настенные часы, вслух стал прикидывать он. – Значит, сегодня почту уже разносить не будут. Её, я узнавал, два раза в день разносят: рано утром и в обед… Ну ничего страшного, – опять попытался утешить он Сашку. – Может, твоё письмо на почте застряло – случайно! Сам знаешь, какие порядки там, и люди какие работают. А завтра утром, с первым почтальоном, тебе его и доставят, себе не возьмут. Не расстраивайся, Сань, не вешай носа. Это самое последнее дело…
Ничего не сказал на это Сашка, а только нехотя как-то и неопределённо пожал плечами и при этом кисло и грустно под ноги себе посмотрел, будто бы что-то упорно там разыскать пытаясь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































