Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
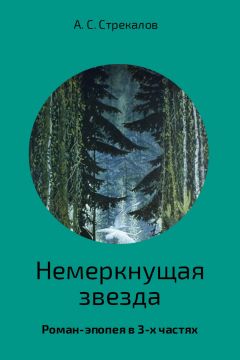
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Начиная с пятого класса, помнится, родители ежегодно летом отправляли Вадика в пионерский лагерь, что в десяти километрах от города располагался, в небольшом сосново-лиственном лесу, мимо которого проходила как раз федеральная автострада Воронеж-Москва, главная автомобильная артерия в области. И отдыхавший Вадик почти ежедневно в послеобеденные часы тайком выходил на дорогу, неприметно садился где-нибудь на обочине и подолгу смотрел прищуренным взглядом на уносившиеся в сторону Москвы машины, по-детски завидуя сидевшим в них водителям и пассажирам, обожая их.
О чём он думал в те памятные для него мгновения? на что настраивался? к чему готовился и мечтал? Зачем вообще выходил и сидел на обочине раз за разом? Какую преследовал цель?… Да никакую, собственно. Какая могла быть цель у ребёнка?! Просто хорошо ему было уже и тогда сознавать, что все эти легковушки и грузовики, что на огромных скоростях проносились мимо, через какое-то время будут в Москве – столице их великой и необъятной Родины. Будут ездить по улицам её бесконечным, проспектам широким, многочисленным скверам и площадям; может быть даже и к Красной площади колёсами резиновыми прикоснутся. Какими там будут счастливыми, вероятно, пассажиры этих машин, какими гордыми и важными! А значит, вместе с ними будет счастлив тогда и он, советский пионер Вадик Стеблов, житель Тульской области, маленький скромный человечек, неприметно сидевший на обочине и жадно смотревший им, появлявшимся и исчезавшим, вослед. Он через них будто весточку столице передавал, душою к жизни великого города прикасался… И разве ж мог он помыслить тогда, дорожные камешки в руках перебиравший, что далёкая заоблачная Москва окажется вдруг так близко – сама в седьмом классе примчится в гости к нему, плакатом белым, лощёным перед ним на столе разляжется, задачками диковинными к себе как ключиком золотым поманит?!
А ведь это именно и случилось – такое чудо чудное, небывалое! И школа заочная математическая сделалась, таким образом, неким символическим пропуском, путёвкой заветной, до боли желанной, в большую столичную жизнь… Пропуском и путёвкой стала автоматически и сама математика.
«Становись математиком – настоящим, большим, – научись все задачи решать правильно и без ошибок, – как бы негласно предлагалось ему незримыми и далёкими столичными руководителями. – И ты попадёшь в Москву, в Университет ломоносовский. Пусть пока и заочно…»
От такой перспективы радужной и чумовой у Вадика уже с первого дня, с вечера пятницы начиная, огнём горело нутро и голова кружилась как у влюблённого. Двенадцать присланных из Москвы задач завладели поэтому всем его существом, каждым порывом и вздохом, совершенно отгородили и отделили его тогда от остального мира. Они, как и любовь, были в точности на болезнь похожи, вирус страшный, испепеляющий, попадающий вдруг в организм человека по воле Судьбы и притягивающий к себе все жизненные силы его – без остатка!…
Особенно много сил отняла у Стеблова про братьев-хулиганов задача, над которою Вадик бился ровно неделю, день в день. Она, ввиду отсутствия в ней каких-либо формул аналитических и числовых соотношений, показалась ему тогда самой простой из списка, самой решаемой.
«Уж если с ней не справлюсь, – как-то сразу подумал он, – за остальные и браться не стоит: остальные на порядок сложнее…»
Но простота логической задачи оказалась обманчивой, и семь потраченных на её решение дней – убедительное тому свидетельство.
Всю неделю задача не отпускала Вадика, издевалась над ним, мучила, изводила коварством, хитростью и какой-то фантастической крепостью и неприступностью. Под её воздействием пагубным он перестал есть нормально, спать, отдыхать и гулять на улице. Он уже начал даже и по ночам с кровати ошалело вскакивать, стараясь зафиксировать на бумаге очередной свой “гениальный” подход, очередной, в огненной голове промелькнувший, способ решения.
Но ни один из них, в итоге, так и не устроил его – потому что ни один не давал даже близко ясного и чёткого алгоритма, способного приводить любого и в любой момент к однозначно-правильному ответу. Ответ всегда получался разным, – а задача была одна. И Стеблов вынужден был итожить с грустью, что очередной его вариант не верен, что нужно далее продолжать искать виновника происшествия…
Он извёлся за ту неделю, помрачнел, подурнел, исхудал; и под глазами у него не ведомые прежде фиолетово-жёлтые круги появились… Но сами глаза горели – да ещё как! И огонь тот внутренний до того ярким и страстным был, так неистово и напористо в мир изнутри прорывался, что его не выдерживали уже ни члены семьи, ни общавшиеся со Стебловым товарищи…
«Что же это такое-то, а?! – без конца восклицал про себя загоревшийся Москвой и Университетом Вадик, всё отчаянней тряся за столом распухшей огненной головой, будто пытаясь жар со лба как постылую повязку сбросить. – И задачка-то вроде бы пустяковая, и условие мне понятно, – а никак не решить её, ну просто никак! Хоть ты меня возьми и убей! хоть головою о стенку тресни!»
Он исписал горы бумаги показаниями братьев, как заправский следователь раз за разом тщательно изучая и взвешивая их, подробно анализируя. Он записывал имена братьев в столбец, одно под другим, и потом, читая показания одного из них, ставил против соответствующего имени: виноват – не виноват, разбил – не разбил, обманщик – не обманщик. Читая же показания другого брата, он зачёркивал свой приговор, неверный и скоропалительный, переправлял его на противоположный, – пока новые показания ни рушили беспощадно и эту никчёмную версию, в пыль превращая её, в напрасные и пустые хлопоты… И так продолжалось у него до бесконечности, до чёртиков и мути в глазах – такая вот карусель бестолковая.
Слова “виноват – не виноват”, “разбил – не разбил” некоторое время спустя он решил для удобства заменить знаками “плюс” и “минус”, которые легче было писать, легче было зачёркивать. Это давало некоторое облегчение в работе, бумагу здорово экономило, пасту из авторучки, время, – но к успеху это изобретение авторское не приблизило его ничуть, от бестолковщины и суеты не избавило. Плюсы после очередного показания переправлялись на минусы, минусы – на плюсы. Всё это безжалостным образом путалось: сначала – на бумаге, потом – что страшнее! – в голове его. Логические конструкции, стихийно возникавшие там, рушились безнадёжно, все “гениальные” версии рассыпались, в итоге. И ему в очередной раз приходилось начинать всё с нуля, как будто до этого никаких усилий с его стороны произведено не было…
Теряя последние силы, последнюю веру в себя и свои математические способности, Вадик попробовал было тогда подключить к решению задачи мать, с успехом прежде ему помогавшую… Но на этот раз, к стыду своему, и она оказалась бессильной и сыну старшему не помогла. Даже и путь к решению не подсказала, даже метод…
Несколько раз он обращался за помощью к Вовке Лапину – подскажи, мол, Володь, сделай милость; или хоть намекни – как? Чтобы я смог с места сдвинуться. Ведь ты же, мол, круглый отличник, всё знать и уметь обязан, и всё решать. Но тот, хитрюга лукавый, голубокровный, всякий раз отнекивался, утверждая твёрдо, как на духу, что и сам ещё якобы ничего не решил, ни одной задачи.
– А что же отец-то тебе не поможет? – дивился Вадик. – Ты же всегда хвастался, что он у тебя математик сильный, что решает абсолютно всё!
– Отцу сейчас некогда: он на работе с утра до вечера пропадает, – неохотно как-то и неуверенно отвечал на это его дружок, раздражаясь и пряча глаза, и Вадик чувствовал, что Вовка лукавит, что наверное просто ему помогать не хочет – один мечтает в Москву поступить…
Что было делать Стеблову? к кому обращаться? где помощь-подмогу просить, или хотя бы подсказку? Оставалась одна учительница, – но к ней Вадик не решался идти ни под каким видом: для него это было табу.
«Школьные-то задачи не можешь решать нормально, – прогнозировал он будущий её ответ, – а берёшься поступать в Москву, в Университет столичный! Нахальный же ты, скажет, парень, Стеблов! И очень пронырливый и ушлый, к тому же!…»
«А может я и впрямь всё это напрасно затеял? – вконец обессиленный и истощённый, находясь на грани нервного срыва, начал уже думать он на исходе первой недели февраля – месяца, отпущенного на решение присланных из Москвы задач. – Куда я, в самом-то деле, лезу? Для этого, наверное, особые способности нужны, талант… А у меня, по всему видать, нет ни того, ни другого…»
Психологически это был самый драматический момент в истории с ВЗМШ, самый со всех сторон напряжённый, когда Вадик реально готов был плюнуть уже на свою мальчишескую затею и другу Серёжке плакат обратно вернуть – соврать, что поступать передумал. «На что он, действительно, юнец самонадеянный, замахнулся и размечтался о чём? – лезли в голову чёрные мысли, – если он даже и в школе-то своей никогда не был первым учеником, если контрольные по алгебре и геометрии на четвёрку твёрдую всегда решал, редко когда на пятёрку… А тут – спецшкола математическая, Всесоюзная, при Московском Университете созданная; тут такая интеллектуальная мощь, широта, высота! А главное – тут столько всего, наверное, знать и уметь надобно!… Способен ли он был реально на подобную высоту, на задачи такого уровня? И – шире: способен ли он вообще к математике, к глубоким занятиям ею?»
Эти и подобные им вопросы, душу предельно изматывавшие и надрывавшие, и без того неудачами достаточно уже издёрганную и затюканную, то и дело лезли ему в голову по вечерам, на сон грядущий, как правило. Случалось это после очередного, впустую потраченного дня, когда с решениями полный крах получался. И стали они, вопросы, собою Москву потихонечку заслонять, спецшколу, задачи конкурсные, попутно отбирая веру, надежду, силы последние, отшибая к дальнейшей работе руки, приглушая страсть. В него незаметно страх утробный закрадывался, который принялся волю, способности скудные подавлять, перераставший, как снежный ком, в комплекс неполноценности…
Что удержало его тогда, дало силы не бросить всё, не сломаться, не похоронить навсегда свой первый икаровский порыв души? Что заставляло семиклассника Стеблова семь дней подряд по сотне раз на дню настойчиво искать виновника разбитого окна в запутанном деле о пяти братьях? – на это, читатель, Вам не ответит никто! Ибо такие действа-деяния из той предельно закрытой человеческой области происходят, что характером прозывается. Или судьбой. Или же вообще – роком… Как бы то ни было, и какие определения ни давай и ярлыки ни вешай, – но только на исходе недели те праведные его усилия были вознаграждены. И первое решение одной из двенадцати присланных из Москвы задач явилось ему, как по волшебству, в готовом и законченном виде!
Как и почему это произошло? – загадка, тайна Божественная, непостижимая, которую никому не дано разгадать, как никому не дано понять и вмешаться в Промысел Божий. Вадик и сам не понял тогда, как это всё у него так лихо срослось-получилось. Ошалелый и поражённый, и, одновременно, как лимон в чашке чая выжитый, он только мог бы повторить вслед за всеми первооткрывателями мира их единственные после каждого очередного открытия-прозрения слова, вырывающиеся из тощей груди помимо воли: “Я всё время об этом думал”… И всё. И ни слова больше. И только великий всеобъемлющий праздник в душе, равного которому ничего не бывает на свете!…
На вопросы “как” и “почему” мы с Вами ответить не сможем, читатель, – увы! – а вот поэтапно описать то знаменательное событие постараемся. Это будет по силам нам: при желании это по силам каждому.
Итак, в воскресенье, в последний день той судьбоносной недели, Вадик играл со своим младшим братом в крестики-нолики и, казалось, не думал совсем о измучившей его задаче. Детская игра эта была популярной в городе и в семье Стебловых, и дети частенько соревновались друг с другом в свободное от школьных занятий время: часами могли сидеть и бумагу попеременно переводить, убивать время… Когда игра только появилась в доме, дети выбрали для себя самую простенькую её разновидность: три на три. Освоившись, они решили перейти на более сложный вариант игры: пять на пять, – который с тех пор и прижился у них, вытеснив собой все другие варианты, включая сюда и совсем уж сложные.
Итак, сидя с братом в большой комнате за гостевым столом и попеременно заполняя с ним пустые клетки очередной расчерченной на тетрадном листе таблицы, которых за прошедшие полчаса с момента начала игры набралось уже добрый десяток, Вадик вдруг неожиданно вспомнил про братьев-хулиганов из задачи. Он вспомнил, как всю неделю судорожно выписывал на бумаге столбцы с их именами и потом подле каждого имени выводил плюсы и минусы, в зависимости от показаний, как бессчётное число раз переправлял один знак на другой и обратно. И как в результате подобных бездумных манипуляций показания безжалостно наваливались друг на друга, превращаясь под самый конец – на бумаге и в голове – в сплошное невообразимое месиво, которое невозможно было потом разобрать, с которым невозможно было работать; которое уйму сил у него отнимало, времени, и не приводило ни к каким результатам, кроме разве что головной боли и раздражения.
«…А что ежели… показания братьев расписать по столбцам такой вот таблицы? – подумал он вдруг, глядя на лежавший перед ним расчерченный на бумаге квадрат пять на пять, над которым склонился тогда его азартный братишка. – По строкам таблицы пусть будут имена пяти братьев, как я их раньше выписывал, а в столбцах – их показания друг на друга… Я, таким образом, как бы растащу по листу эти показания, сделаю их более осязаемыми, более разборчивыми и удобными для анализа… Тогда и путаницы никакой не будет…»
Подумав так, он вскочил со стула и, боясь мысль пришедшую потерять, бросился к своему портфелю, в котором был бережно спрятан Серёжкин драгоценный подарок. Вытащив вчетверо сложенный лист с условиями задач, он быстро вернулся назад к столу, решительно отодвинул прочь от себя лишние на столе бумаги.
– Ты что, не будешь больше играть? – спросил его брат, отрывая от таблицы голову.
– Подожди, – сухо отрезал Вадик, уже разворачивая и раскладывая на столе плакат московский. – Ты… это… поди, погуляй пока: мне сейчас некогда.
– Ну-у-у! Как всегда! – капризно захныкал младший Стеблов, недовольно из-за стола вылезая. – Как только начинаешь проигрывать вдрызг – так у тебя сразу же какие-то там дела объявляются! Так нечестно!
Выиграв несколько партий подряд, он только-только вошёл во вкус и не желал прерывать победную поступь…
Но Вадик уже не слушал брата, сидел и быстро на бумаге таблицу чертил пять на пять, столбцы и строки которой он озаглавил именами братьев из задачи – так, что каждый столбец и каждая строка в результате получили собственное своё имя… Когда таблица была готова и подписана, он, боясь упустить нечто важное, что зарождалось в его голове, что там как драгоценный плод вызревало, также быстро стал читать уже оскомину набившие показания и торопливо заносить их потом в соответствующий именной столбец знаками “+” и “-”… Показания, следовавшие одно за другим, быстро заполняли таблицу комбинациями знаков, сквозь которые всё ясней, всё чётче – точь-в-точь как зарождается фотография в баночке с проявителем – проглядывала картина описанного происшествия.
Когда в пятый столбец, над которым было выведено имя “Юра”, были внесены показания последнего брата, – решение задачи явилось само собой. Таблица очевидным образом высветила это решение. И сделала это чётко и однозначно, не допуская при этом никаких иных вариантов, что появлялись прежде…
– Надо же, как просто оказывается! – вслух тогда произнёс поражённый всем этим “фокусом” Вадик. – А я-то, дурачок, столько дней мучился понапрасну, бумагу, время переводил. – Мам! – уже в следующий момент закричал он на всю квартиру. – Иди быстрее сюда! Быстрее!
У готовившей на кухне матери тарелка полетела из рук и вдребезги об пол разбилась.
– Что тут у вас опять стряслось, Господи?! – испуганно спросила она, быстро вбегая в комнату и глазами по ней ошалело шаря; два сына по детской дурости частенько огорчали её своими ссорами и потасовками ежедневными, и ей приходилось поэтому всё время быть начеку.
– Я задачу решил, – сказал Вадик, глядя на мать сияющими счастьем глазами.
– Вадик! – с облегченьем и горечью одновременной в голосе и глазах выдохнула тогда мать, в бессилии опуская руки. – Ну что ты, в самом деле, а?! хочешь мать свою до инфаркта довести, что ли?! Я думала: у вас тут опять неладное что-то; опять, думала, подрались.
– Я задачу решил, мам! Только что решил! – за одну минуту!
– Какую задачу? – не сразу поняла мать, вплотную подходя к столу и на ходу вытирая тряпкой мокрые от воды и грязной посуды руки.
– Ну про братьев, помнишь? которые стекло разбили? – затараторил Вадик, что есть силы старавшийся подавить своё крайнее возбуждение. – Мы решали её с тобой – и не решили! Помнишь?… А я решил! только что решил!… Всю неделю над ней думал! мучился! – представляешь! – а решил за одну минуту! Тут всё просто оказалось: смотри.
И он стал быстро рассказывать матери про свою находку с таблицей, которая пришла ему в голову минуту назад – во время игры фактически. Рассказал, как здорово помогла ему эта замечательная таблица, так чётко и так красиво расставившая всё по местам, и также чётко и быстро показавшая единственно верный ответ на поставленный вопрос задачи.
– Толик разбил окно-то, мам! Толик! – вновь посмотрел он на матушку счастливыми, преданными глазами. – Вот она, таблица-то, – она не врёт! Здесь всё ясно видно!…
Ничего не сказала на это мать – только лишь машинально улыбнулась в ответ, со стороны блаженную напоминая, и головой седеющей туда-сюда потрясла, словно не веря глазам своим и ушам, чуду случившемуся не веря. После чего, спохватившись, обвила смышлёную головку Вадика худенькими руками, крепко-крепко прижала к груди – да так и застыла в объятии, словно окаменев, щекой и пальцами поглаживая пушистые сыновни волосы, губами тонкими, высохшими нежно целуя их и что-то неразборчивое при этом страстно шепча про любовь безграничную к Господу и к ним троим, милым её ребятишкам.
В тот момент, чрезвычайно для Стебловых памятный и желанный, первой интеллектуальной победой ознаменованный как-никак, пусть пока и не полной, не окончательной, не стопроцентной, бойко и страстно забилось её сердечко опять, законной материнской гордостью распираемое – и, одновременно, тайною верой в то, что не зря, определённо не зря рожала она и мучилась, и не спала по ночам; не зря пролила столько слёз в ежевечерних долгих молитвах; не доедала, не допивала, не досыпала не зря, отдавая детям лучший всегда кусок, душу целиком отдавая…
А у её Вадика после этого начался жар – естественное следствие переутомления, -сделавший его вялым каким-то, дурным, неработоспособным. За столом ему уже не сиделось – какой там! Его словно перегретый паровой котёл разрывало и пучило изнутри от давления высокого и температуры. Необходимо было срочно проветриться и размяться, “выпустить пар” – чтобы себя остудить, от мыслей и чувств нахлынувших успокоить. Его потянуло на воздух, на улицу, на природу, про которую он совсем почти позабыл с этой проклятой болезнью.
«Пойду, пройдусь немного, передохну, – счастливый и обессиленный, решил он минут через пять, когда чрезвычайно довольная матушка на кухню опять ушла, их с братом одних оставив. – А то у нас что-то душно сегодня; батареи топят как никогда – совсем там сдурели наверное».
Подумав так, он торжественно вылез из-за стола, прямо-таки как герой настоящий, сказал притихшему рядом брату, уважительно на него поглядывавшему, что очень устал и хочет пойти погулять, подышать свежим воздухом; после чего оделся и вышел во двор, где с удовольствием подставил разрумянившееся лицо под колючий февральский ветер… Но во дворе он стоять не стал – за ограду сразу же вышел; и там, позабывши про руку сломанную и гололёд, про зиму и пургу усилившуюся, побрёл от родного дома прочь, никого по пути не видя и мало чего из происходившего вокруг адекватно оценивая и соображая.
Он не ведал тогда, куда шёл, с трудом понимал, где в тот момент находился. Ему просто нужно было идти и идти, не останавливаясь ни на секунду, – сердцу уставшему, от счастья рвущемуся, движением помогать, напряжение сердечное потихонечку гасить и сбрасывать, не доводя “мотор” до беды… Вот он и шёл по улицам, не разбирая дороги, на ходу хватая раскрытым ртом февральский студёный ветер вперемешку со снегом, жадно его, как целебный коктейль, проглатывая. И всё равно не мог зимней морозной свежестью вволю насытиться и надышаться, как того очень хотел, нутро пылающее уличным снегом и холодом остудить; всё равно дурел и заходился от чувств, огромных, пресветлых и всеблагих, будто бы тучей густой вдруг на него нахлынувших после удачно найденного решения и его с головы до ног обуявших.
Такого восторга душевного, запредельного, и такого праздника он не испытывал ранее никогда! Даже и на победных соревнованиях под всеобщее ликование зрительское, или когда на пьедестале почёта стоял прошлый год под вспышками объективов. Спорт проигрывал математике, проигрывал по всем статьям. Хотя Вадик пока ещё и не осознавал этого…
22
Решение логической задачи, с таким трудом найденное, стало событием в жизни Стеблова, значение которого было трудно переоценить. Главный итог всей прошедшей недели безо всякой натяжки можно было бы озаглавить одним ёмким словом – победа! И прежде всего – над самим собой, прежним Вадиком Стебловым, шалопаем и непоседой ужасным, парнем воистину неуправляемым и заводным, тщеславным без меры, предельно амбициозным и дерзким. Молодым человеком, который лыжами был увлечён предельно, и только ими одними и жил, сделал огромную ставку на спорт, будущую жизнь в спорте, – и не очень-то высоко оценивал из-за этого свои интеллектуально-творческие возможности и умственные способности. Скорее даже, он недооценивал их, не придавал им должного значения ввиду их полной для себя ненадобности. И лежать бы им невостребованными ещё долгое-долгое время, которое вполне могло и не наступить, которое не для всех наступает.
Не будучи никогда математиком в школе по духу и настроению, не имея особенной страсти-стремления ни к алгебре, ни к геометрии, ни к презренной арифметике, тем паче (которую он и за науку-то не считал), никогда не насилуя, не напрягая себя по этим школьным предметам, не тренируя на них мозги, не имея в сложных и нестандартных решениях опыта, – он, ужасно перетрусивший поначалу и растерявшийся, самым чудеснейшим образом этот страх в себе поборол, что наводила на него все семь дней присланная из Москвы депеша, парализуя разум его, главным образом, творческий потенциал… И после этого он, новоявленный неофит-победитель, раскрылся самым чудесным образом, прямо-таки как цветок полевой на заре, – и полной грудью вздохнул с облегчением, груз сомнений и неуверенности с себя как мешок тяжеленный сбрасывая. Он вдруг почувствовал разбуженным и окрылённым нутром, к немалому своему удивлению и радости, что задачи-то московские, “многозвёздочные”, не такие уж и страшные на поверку, что их можно и должно решать – ему можно, Стеблову Вадику! – что они решаемы в принципе. Только не нужно кидаться на них сломя голову, как кидается тот молодой бык из пословицы на новые свежеструганные ворота; не нужно остервенело переводить горы бумаги в надежде случайным образом, случайным перебором фактов и известных из школьных программ алгоритмов угадать решение. Такие вещи тупые, дешёвые, здесь не пройдут: это не те задачи, к которым их с первого дня приучали в классе.
А ещё он интуитивно понял, что в каждой из двенадцати задач, что выставили в тот год на конкурс, была глубоко спрятана, наподобие иглы Кощеевой, своя похожая “таблица”, отыскав которую, ты получаешь на руки заветный к задаче ключ и полную власть над нею. Найди такую “таблицу”, распознай её, – сам собою высветился в сознании его универсальный алгоритм-метод, которым он пользовался потом всю жизнь. – И задача, страшная до того своей новизной, нерешаемостью и неприступностью, рушится на глазах – как карточный, сложенный наспех, домик!
Таков был тот главный вывод – или урок, – что сделал для себя наш окрылённый герой из первой самостоятельно решённой задачи. Урок этот, к чести его, не прошёл для Вадика даром: воспринят был самым серьёзным образом! И за оставшиеся до первого марта три календарные недели он смог решить ещё восемь присланных на конкурс задач.
Потом, в спокойной уже обстановке – и с подсказкой учительской, если совсем уж начистоту, – он решил и три оставшиеся, которые ему в феврале не поддались, которые он осилить не смог. Но в Москву, к великому сожалению, ему пришлось отсылать только девять готовых решений – итог тридцатидневной напряжённой работы и связанных с нею волнений нешуточных, бессонных ночей!
Впереди у Стеблова были пять долгих месяцев ожидания ответа из Москвы – месяцев нервных для него и тревожных, когда возникавшие вдруг сомнения по поводу количества и качества решённых задач сменялись в нём надеждами на успех, а надежды – всё теми же, изводящими душу, сомнениями…
23
В середине февраля, когда работа над задачами была в полном разгаре, с Вадика наконец-таки сняли гипс к неописуемой радости его самого и всех его домочадцев. Выходя в тот день из больницы и разминая побелевшую и исхудавшую за полтора месяца руку, он вспомнил про лыжную секцию сразу же, в которой не занимался аж с конца декабря, с прошлого года то есть. Выздоровление обязывало его, по всем правилам, уже со следующего дня вновь приступить к тренировкам: навёрстывать упущенное из-за болезни время, силы утраченные восстанавливать, спортивную форму.
Но начинать тренироваться не хотелось. Совсем… Москва, Университет и школа заочная, математическая заслонили собой это всё – и лыжи, и секцию, и прежнюю жизнь, пустую и безалаберную по сути. Какою-то жалкою и ничтожною на их фоне она уже стала казаться, почти что смешной; в пародию превратилась, в забавный детский кружок – весёлый и увлекательный на первых порах, но уж больно наивный и глупый.
«…Нет, сначала надо решить и отослать задачи! – твёрдо тогда он подумал после некоторого замешательства. – Это сейчас важней…»
«Никто ведь не знает в секции, что с меня уже сняли гипс, – по дороге домой подумал он ещё, перед тренерами своими мысленно будто бы оправдываясь и извиняясь. – Двумя неделями раньше приду, двумя неделями позже – какая, в сущности, разница? когда и так уже полтора месяца пропустил… Всё равно надо будет сначала всё там начинать. С чистого листа по сути – как новобранцу».
Но, подумав так, приняв такое решение, отсрочку самовольную продлив, Вадик вдруг поймал себя самого на мысли, что не чувствовал он в отношении лыж былого безудержного энтузиазма и страсти. И начинать всё сначала в спорте ему, по правде сказать, уже и не очень-то хочется…
В первых числах марта, когда эпопея с задачами была успешно завершена, он всё ж таки зашёл в спортшколу – навестил приятелей и тренеров. Но было это скорее из вежливости и приличия, чем по зову души. Так, как он это в январе-месяце, например, сделал. Продолжать тренироваться далее, изнурять себя по утрам многокилометровыми лыжными пробежками на морозе и на ветру ему совершенно точно уже не хотелось: с лыжами он решил порвать. Не этим теперь была занята его горячая голова, его счастливо бьющееся в груди заводило-сердечко. Вектор его развития незаметно, но твёрдо – за каких-то пару месяцев всего! – поменял направление на прямо противоположное. И с мира внешнего с его утомительной беготнёй, спортшколой, победами и страстями мальчишескими переключился на внутренний мир, кабинетно-научный; с телесной красоты – на красоту духовную; со Смоленского института физкультуры, куда Вадик на полном серьёзе готовился поступать, – на Москву и математику, Университет Московский.
Теперь ему более всего на свете в ВЗМШ уже поступить хотелось, вдруг ставшую для него всем – делом всей жизни по сути, главной и единственной целью из всех, для него, полунищего провинциала, возможных и мыслимых. Мечталось начать побыстрее учиться там, задачи премудрые ежедневно решать, много-много хотелось ему задач – самых разных и самых трудных, где можно было бы умственно развернуться, удаль свою показать. Разбуженный мозг его уже требовал для себя работы. Причём – настойчиво и властно так! как ранее требовали беготни его быстрые и лёгкие ноги…
– У-у-у! кто к нам пришёл! – восторженно встретил Стеблова Мохов, едва только Вадик показался в дверях, едва переступил порог лыжной базы. – Ну, здравствуй, что ли, пропащая душа! здравствуй! Объявился-таки, наконец! Слава Богу!
Николай Васильевич, подойдя вплотную, стал по-отцовски внимательно осматривать долго отсутствовавшего ученика, про которого в секции начали уже забывать и распускать нехорошие слухи, при этом стараясь особенно разглядеть спрятанную в рукав пальто левую его руку, когда-то по локоть загипсованную.
– Ну, как у тебя дела-то? – рассказывай. Всё нормально? Рука зажила?
–…Зажила, – неуверенно ответил Вадик, смутившийся от подобной восторженной встречи, которой он ещё в январе, помнится, был так несказанно рад; ответил… и не почувствовал в душе своей такой же бурной радости.
– Ну и хорошо! и славненько, как говорится! А то мы уж тут без тебя было сомневаться начали, – Мохов запнулся, потупил взор, что-то, видимо, и ещё произнести намереваясь. -… Ну да ладно! чего уж теперь об этом! – передумав, махнул он рукой. – Это всё так – лирика, к делу не относящаяся и ничего не стоящая, разговоры и сплетни досужие. Молодец, что пришёл, что не бросил школу, нас с Юрием Степановичем не подвёл, не расстроил. Молодчина! Умница!
И он опять преданно так взглянул на Стеблова в упор, и взгляд его в ту минуту столько радости излучал, столько доверия и на будущее надежды, – что Вадику не по себе сделалось от подобной моховской радости и похвалы, для которой – он-то это отлично знал – не было ни поводов, ни оснований.
– Ну что, – продолжал верещать, между тем, возбуждённый тренер, – завтра приступаем к тренировкам, да? Нам с тобой теперь товарищей догонять надо, потом к спартакиаде готовиться: она уже на носу. Завтра ты на тренировку придёшь? Ждать тебя?…
Услышав последний вопрос, Вадик покраснел так густо, таким “синьором-помидором” стал, что даже в подвале мрачном, неосвещённом красноту его было видно… Он ждал подобного вопроса, тщательно к нему готовился дома, мечтал расстаться с обоими тренерами тихо, по-доброму что называется, для них и для себя незаметно. Для чего при встрече планировал соврать-сослаться на врачей: что не велят-де они ему пока тренироваться, что, наоборот, велят дома месяц-другой посидеть – руку поберечь от работы тяжёлой. «Отвечу так, – загадывал он, – и уйду от них с миром, чтобы не ждали меня пока, не поминали лихом; по-хорошему уйду: мужики-то они оба хорошие… А через пару месяцев, глядишь, меня там и забудут совсем – и никогда не вспомнят»… Но теперь, пренеприятнейший вопрос от Мохова услыхав, прямо перед ним стоявшего и так обрадовавшегося ему, так его радушно, от чистого сердца встретившего, – теперь Стеблов растерялся. Сам растерялся – и лёгкость свою, уверенность растерял, с какой тренеру лгать намеревался.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































