Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
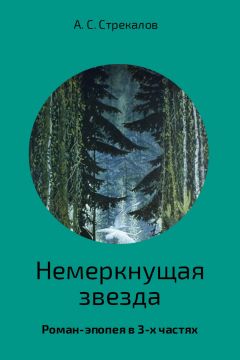
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
–…Завтра – нет, завтра я не смогу ещё, – промямлил-пропищал он в ответ, пуще прежнего краской стыда заливаясь и прескверно себя в ту минуту чувствуя – чуть ли ни подлецом. Быстро-быстро забегали по сторонам его виновато-нервные глазки, пытаясь спрятаться от стыда, от брезгливости к самому себе и ужасно гадливого настроения, что окутало его с головой… Но прятаться было негде: кругом был подвал… и тренер посередине – огромный, добрый, честный и мужественный человек, которому Стеблов стольким уже обязан был, и в благодарность которому за труды он вынужден был платить теперь такой мелкой и пошлой монетой.
– Почему? – не понял Мохов, настораживаясь.
–…Да врачи сказали, посоветовали при выписке, – разжав пересохшие губы, продолжил врать Вадик, будто в отхожую яму с головой проваливаясь, – что мне ещё месяца два нужно поберечь руку, не тренироваться. Предупредили, что плохо, дескать, она ещё зажила: кости плохо мои срастаются…
Наступила пауза в разговоре, мучительно-тягостная для обоих, во время которой Мохов что-то усиленно соображал, носом при этом громко и недовольно хмыкая.
–…Ну ладно, – пожав плечами, нарушил, наконец, он молчание, устало и обречённо скривившись краями губ; и в голосе его хрипатом, грудном Стеблов не услышал уже ни задора прежнего, боевого, ни радости бурной, ни силы: одно лишь разочарование вперемешку с усталостью слышались в нём. – Нельзя, так нельзя: врачей нужно слушаться… Ну что, иди тогда домой сейчас, долечивайся; и как поправишься совсем, приходи: будем тренироваться далее.
Последнее Мохов сказал как-то совсем уж тихо и вяло, под ноги себе смотря, и относилось сказанное будто бы и не к Стеблову даже, а к кому-то ещё, невидимому уже и далёкому. И походили эти его слова скорее на прощание… Прощанием они и были по сути и настроению тренерскому, негромким, скучным и абсолютно мужеским, – без слёз и истерик, и дешёвой патетики, без заверений дурацких и пошлых в вечной преданности и любви, никому здесь совсем не нужных, в этом подвале глухом и сыром, потом и плесенью провонявшем. В очередной раз вынужден был прощаться тренер с очередным своим незадачливым учеником, убегавшим от него на сторону, в которого он уже что-то успел вложить, успел научить чему-то; и от которого вправе был поэтому чего-то такого требовать и ждать…
Но ученик уходил – это было ясно! – хороший ученик, способный, трудолюбивый, каких ещё поискать. И с уходом его умирала для тренера очередная на светлое будущее надежда, смысл жизненный пропадал… И предстояло ему теперь, оставленному и преданному в очередной раз бедолаге, дожидаться другого ученика. И опять, волю в кулак собрав и стиснув покрепче зубы, всё начинать с нуля, с начала самого, с азов, которые осточертели… И потом опять ждать, со страхом и тревогой ждать очередного ученика ухода… Нет, не лёгкая и не весёлая всё же она – у тренеров и учителей судьба и работа…
– Фу-у-у! – с облегчением выдохнул Вадик, из подвала на улицу выбираясь словно из западни. У него в тот момент такое чувство и состояние было, будто он в переделку крутую минуту назад попал, из которой с трудом и благополучно выбрался. Не ожидал он, что расставание так тяжело пройдёт. Но что ещё тяжелее, оказывается, врать, обманывать хороших людей, которым ты был чем-то в жизни обязан и которых теперь подводил…
А на улице в этот момент было светло и тихо как на заказ, и очень торжественно было в преддверии Женского дня: природа будто подарок милым женщинам приготовила. Снег им на радость прямо-таки валом валил, ковром пушистым и бархатным шикарно так всё вокруг покрывая, – густой такой, мартовский, белый, прощальный снег, водою небесной смоченный, огромные, тяжёлые, сочные хлопья которого отчётливо предвещали спешившую к ним из далёких краёв весну. А вместе с нею – и жизнь новую, интересную, всем обещая.
С удовольствием подставляя лицо под снежинки пушистые, ласковые, величиною с пятак, по привычке их хватая губами, Вадик скорым шагом домой тогда поспешил, по дороге даже и не оглянувшись ни разу на тот трёхэтажный дом с подвалом на улице Коммунаров, где располагалась лыжная база, или – секция по-другому, школа, в которую он – даже и не верится! – полтора года упорно и почти ежедневно ходил и с которой ещё в декабре связывал свои самые радужные и самые сокровенные планы.
А теперь руки его были развязаны, совесть – чиста: с тренером он плохо ли, хорошо ли, но всё более или менее выяснил, всё ему, пусть и путано, рассказал, по местам и полкам расставил. Так что теперь он спокойно мог о будущем начинать думать, где ни лыжам, ни бегу и ни спорту, в целом, места уже не было. Совсем. Торопливо возвращаясь домой, он уже твёрдо знал, окончательно и бесповоротно решил для себя, что в школу лыжную, городскую, более уж никогда не вернётся…
24
Так оно всё и случилось, в итоге, хотя с бывшим тренером своим Вадику довелось всё же пересечься в будущем ещё один разок, и лишний раз в его отменных человеческих качествах убедиться. Произошло это много лет спустя после памятного расставания, и встреча та носила заочный характер: через сына Стеблова – Олега.
Будучи взрослым уже человеком и живя много лет в другом городе, имея там свой собственный дом и семью, находившийся в отпуске Стеблов приехал как-то в очередной раз на родину поздней весной – навестить стареющих родителей. Ну и взял в тот приезд с собой двенадцатилетнего сынишку, Олегом которого звали и который только что перед этим закончил пятый класс.
Проскучав два дня в душной дедовской квартире в отсутствие отца, который с бабушкой в деревню к родственникам уехал, предельно измучившийся и истомившийся от безделья Олег на третий день взбунтовался и уговорил болеющего деда, отца Вадика, сходить с ним городской в парк – развлечься, мяч погонять, на красоты тамошние полюбоваться… А в парке в это время, на центральной аллее как и обычно, проходила как раз очередная тренировка юных лыжников, воспитанников городской спортшколы. И проводил её всё тот же Мохов Николай Васильевич, заметно поседевший и постаревший уже, но всё такой же подтянутый и худой, на ногу очень лёгкий.
Тренировка была многолюдной и шумной, как и всегда. Тренировались в то утро в основном ровесники Олега. И не удивительно, что она притянула к себе внимание шустрого, засидевшегося в гостях паренька, надолго задержаться рядом невольно заставила… Остановившись с дедом неподалёку, он внимательно, с нескрываемым и неподдельным интересом стал наблюдать за всем, что происходило вокруг, что делали его сверстники в парке: как они разминались, тренировались гурьбой, прыгали и бегали.
– Чего стоишь, смотришь?– заметив заинтересованный взгляд маленького Стеблова, неожиданно обратился к нему проходивший рядом Николай Васильевич. – Записывайся давай к нам в секцию и тренируйся вместе со всеми – коли тебе так интересно.
Олег смутился, покраснел густо – точь-в-точь как краснел когда-то и его юный батюшка, стоя перед грозным тренером. Потом растерянно посмотрел на деда, будто подмоги или подсказки у того прося.
–…Я не могу у вас тренироваться, – сказал, наконец, с сожалением взглянув на Мохова.
– Почему?! – крайне удивился тот, подходя к ним поближе. – Такой крепкий вроде бы паренёк, и ладненький.
– Я в другом городе живу; сюда приехал на неделю только: дедушку с бабушкой навестить, – последовал робкий ответ, и будто бы виноватый даже.
– А-а-а! Тогда всё понятно: больше вопросов нет, – добрая широкая улыбка обнажила жёлтые зубы тренера, при этом ещё больше состарила его и без того морщинистое лицо. – Жаль! Из тебя, по-моему, получился бы неплохой лыжник.
– Скажи ему, что твой отец у него тренировался, – на ухо шепнул внуку дед Стеблов, легонько подталкивая того в спину.
–…А мой папа у вас тренировался, – выполнил внук приказ дедовский, уже без робости взглянув при этом на высокого седого мужчину, остановившего перед ним.
– Да?! – удивился Мохов искренне. – Надо же!… А как фамилия его?
– Стеблов, – ответил сын Вадика.
– Стеблов?! – переспросил Мохов, задумчиво глаза сощурив. -…Стеблов, Стеблов, – вслух повторил он несколько раз услышанную фамилию, усиленно её вспоминая, голову при этом по-бычьи нагнув и даже чуть тряханув ею; и потом, спохватившись, вдруг весело так взглянул на Олега и произнёс твёрдо и озорно: – Ну как же – Стеблов! – очень хорошо его помню! Хорошо помню твоего отца, парень, – это был мой самый любимый ученик! самый талантливый! Придёшь домой, передавай ему привет от меня. Скажи, чтобы и он нас не забывал тоже. Договорились?!
Сказав это всё, Николай Васильевич вперёд тогда широко шагнул и, вплотную приблизившись к сыну Стеблова, за плечи того приобнял, как когда-то давным-давно обнимал и самого папашу, тряхнул потом парнишку легонечко: давай, мол, парень, расти быстрее, крепни и здоровей; не расстраивай слабостью и немощью родителей. Потом подмигнул ему на прощание, добродушно рукой помахал, развернулся и скорым шагом пошёл от них с дедом прочь – продолжать проводить очередное занятие, указания давать заждавшейся детворе, ни разу больше на Олега не оглянувшись…
А Олег после этого необычайно счастливым и возбуждённым вернулся домой, будто бы ему в парке нежданно-негаданно дорогой подарок вручили, о котором он очень давно мечтал.
– Представляешь, пап! – восторженно, с нескрываемой гордостью в голосе и глазах пересказывал он отцу свой разговор с Моховым, – он мне сказал, что ты у него был самым лучшим учеником, самым любимым и талантливым; сказал, что они в секции до сих пор тебя помнят.
– Я тоже их помню – всех, – ответил тогда зарумянившийся Вадим, слушая на диване сына, ответил – и почувствовал тут же, как запершило у него в горле от чувств и даже слёзы на глаза набежали; а под конец и вовсе защемило сердце сладкой благодарной истомой.
Он быстро всё понял тогда: что в парке с сыном его на самом деле случилось, – и благодарностью к старому тренеру проникся, добрым словом его в душе помянул и даже мысленно в пояс ему поклонился; понял, что лгал Николай Васильевич, святая душа, сынишке Олегу, восхваляя до небес его родителя былые достоинства, которых, по правде сказать, и не было-то совсем – откуда им было взяться?… И не помнил он Вадика и помнить не мог: ведь столько с тех пор лет минуло, столько воды утекло, столько прошло через его руки мозолистые таких вот непутёвых Стебловых, которых упомнить всех никакого ума не хватит… Но парнишке-то этого не объяснишь, всю правду, как она есть и какою была, не расскажешь; не хочет он этого знать, не должен.
И Мохов сказал то единственное, что только и хочется слышать любому сыну про отца своего, что ему более всего милей и желанней. И был поэтому абсолютно прав, честен был перед Богом и самим собой, чист, благороден и великодушен…
«Хороший он всё-таки мужик! – с любовью подумал тогда Стеблов про бывшего тренера, – очень хороший!… Таких – мало…»
Глава 3
1
За всеми перипетиями, связанными с решением задач, с поступлением во Всесоюзную заочную математическую школу, Стеблов и не заметил совсем, как наступила весна, предвестница жаркого лета. И хотя в марте снега у них были ещё высоки и пушисты, а по ночам иной раз ещё бушевала злая старуха-метель, – никто не верил уже в былую зимнюю суровую силу, не верил и не боялся. Молодое солнышко, соперница и противница затяжных трескучих морозов и стуж, огромным огненным диском всё озорнее и проворнее выкатывалось на небосвод, всё дольше и с большим размахом проводило дневную, разрушительную для снегов и метели работу. С завидным упорством, задором ребяческим, что нахальству были сродни, оно показывало всем вокруг богатырский норов свой, буйный и страстный характер.
«Узнаёте?! узнаёте будущую всесильную хозяйку?! – ежедневно и ежечасно слало оно на землю настойчивые огненные послания. – Ужо я доберусь до вас! Ох и задам я вам всем вскорости пылу и жару!»
И чувствовали все, что небесное светило не врёт и перед людьми не хвастается, что так оно точно и будет: и жара, и зной, и талая вода повсюду. Но страха от таких перемен отчего-то никто не испытывал. Наоборот, радость была у людей… и надежда великая – на весну и солнце, на всеобщее освежение и обновление, на собственную новую жизнь.
«Скорей бы уж!» – думали люди, за осень и зиму намёрзшиеся, остановившись где-нибудь на солнцепёке с высоко запрокинутой головой. Замерев от восторга, они подолгу заглядывались прищуренными, слезящимися глазами на разгоравшийся на небе золотой диск, от всей души подбадривая и благодаря его, желая ему, молодому проказнику-удальцу, скорой и полной победы…
Вадик, как может никто другой, торопил в тот год время, ожидая в недалёком будущем важных для себя перемен, которые он втайне ото всех связывал с Москвой и Университетом, с диковинной университетской школой. Мыслями своими он давно уже был там – в неведомом учебном заведении, где мудрые степенные люди с пристрастием изучали и анализировали, наверное, полученные от него задачи. Как они отнесутся к ним? труд его месячный как оценят, его первую творческую работу? какое вынесут, в итоге, решение? – эти и подобные им вопросы не отпускали Вадика ни на шаг с того самого момента, как он отнёс на почту свою тетрадь, и отослал её по указанному в Серёжкином плакате адресу.
«Мне бы только поступить туда, – уединяясь, шептал он ежедневно в школе и дома, страстно мечтая о ВЗМШ и предполагаемой там учёбе. – И я буду самым примерным, самым дисциплинированным учеником. И самым счастливым человеком на свете».
Мечтая так, так наперёд загадывая и возбуждаясь, блаженный, он бессчётное число раз возвращался к проделанной в феврале работе и с какой-то маниакальной страстью и подозрительностью выискивал малейшие изъяны в ней, просчёты и недостатки. Условия двенадцати московских задач он знал почти наизусть, не говоря уже про их решения. Поэтому где б он ни был с тех пор, что бы ни делал, куда бы ни шёл, – он неизменно возвращался к ним – и думал, думал… думал.
«Вот, чёрт возьми!» – забывшись, частенько вскрикивал он то в школе во время урока, то дома за ужином, то в парке во время прогулок, чем приводил в замешательство и изумление окружавших его людей; после чего, спохватившись, он выискивал первый попавшийся клочок бумаги и лихорадочно что-то на нём записывал.
«Что ты там такое всё время пишешь, Вадик?!» – спрашивали его изумлённые люди, пытаясь из-под руки его записи разглядеть.
«Да так, ерунда всякая», – неохотно отвечал он, загораживаясь и отходя в сторону, место тихое для себя ища; а уединившись, внимательно изучал исписанный нервным почерком лист – и то с досады мотал головой, то раздражённо покусывал губы.
«Что ж я сразу-то до этого не додумался, а?! почему по самому корявому и тупому пути пошёл?! – казнился он в укромном безлюдном месте. – Ведь это же так просто всё и так очевидно! И, главное, красиво как!… Ну и балда же я! какой же я всё-таки балда!»
Так или почти так горевал-сокрушался он по поводу пришедшего ему на ум нового решения какой-нибудь одной из двенадцати московских задач, которое было лучше, изящнее и красивее прежнего, уже отосланного в Москву, сокрушался – и беспомощно разводил руками, ноздри розовые широко раздувал.
«Эх! Если б мне ещё месячишко дали, – расстроенный, думал он с грустью. – Я б их все совсем по-другому тогда решил! по-другому оформил!… Как мало, всё-таки, нам было отпущено времени на раздумье, катастрофически мало!…»
Так думал Вадик, так горевал и в марте, и в апреле, и в мае… И в июне он всё искал и находил иные методы и решения, и в июле, и в августе; находил их, записывал, волновался – и не замечал совсем, что давно уже жил совершенно новой для себя жизнью, диковинной и сверхувлекательной, сверхинтересной, не ведомой до недавней поры.
Зато это замечали люди, близко знавшие его. И в первую очередь – его матушка, безусловно, Антонина Николаевна Стеблова. К немалому своему изумлению и радости, она видела, что её непоседливый старший сын, прежде ей более всего хлопот и тревог доставлявший своей хронической неусидчивостью и недисциплинированностью, и полной образовательной индифферентностью, вдруг на глазах поменялся – именно так. И из необычайно подвижного, энергичного, живого и общительного паренька, шалопая законченного и вьюна, для которого несколько минут спокойно посидеть на месте ещё и прошлой осенью было самой ужасной и самой невыносимой пыткой, которую он не мог и не желал терпеть, которую избегал всеми силами, её сынишка теперь в тихоню задумчивого вдруг превратился, замкнутого на самом себе, “сам себе довлевшего”, покой и одиночество полюбившего больше всего, блаженную иноческую созерцательность, размеренность и тишину. Он и товарищей прежних стал заметно чураться, с которыми ещё недавно был накоротке, не разлей вода что называется, с которыми проводил всё свободное время; и лыжи совсем забросил, любимый некогда спорт. И уже намеренно ото всех скрывался то дома за закрытой дверью, то на пруду, то за деревьями городского парка, чем приятелей первое время злил, вызывал с их стороны одни лишь усмешки с издёвками.
Гулять он по-прежнему любил – это правда, это ревизии и ломке не подверглось с его стороны. Но прогулки эти его последние стали носить какой-то абсолютно бесцельный, пассивно-наблюдательный характер, которым чужды были любая динамика и азарт, любые крики и шумы. За какой-то месяц-другой, с изумлением видела мать, её первенец будто бы наизнанку вывернулся, своей полной противоположностью став. И его с полным правом можно было бы размазнёй или даже рохлей теперь называть – если б ни его горящие горним огнём глаза, в которых напряжённая умственная работа непрерывно читалась…
А работа, действительно, шла – и немалая. Копаясь как-то в школьных вещах сына, которого не было дома, перебирая и просматривая их, матушка Вадика обнаружила среди прочих его тетрадей и книг большую белую папку, про которую она и не знала, оказывается, и на обложке которой, как зажжённые факела, красовались четыре заглавные буквы – ВЗМШ, – чётко, по линейке выведенные и раскрашенные. Когда мать раскрыла её, то первое, что она увидела, был тот самый плакат из Москвы, аккуратно сложенный вчетверо, который Серёжка Макаревич ещё в январе уступил дружку за ненадобностью… Под этим плакатом поражённая родительница обнаружила три двухкопеечные тетрадки, сплошь исписанные всевозможными вариантами решений конкурсных задач, которых там набралось уже около четырёх десятков. Были тетрадки чистенькими на удивление, почти что новенькими, не затёртыми на углах и краях как обычные школьные; да ещё и прилежно и с любовью заполненными крупным каллиграфическим почерком, что было для нервного Вадика, писавшего всю жизнь кое-как, подвигу сродни.
Листая их, внимательно вчитываясь и вдумываясь в мысли сына, в его скрытую от посторонних глаз внутреннюю духовную жизнь, Антонина Николаевна была поистине поражена той огромной умственной работой, какую успел самостоятельно – за несколько месяцев всего! – проделать её сынуля в тайне ото всех – от матери даже. Но более всего она поразилась тем, как далеко он ушёл, оказывается, в своих математических познаниях, как заметно преуспел в них…
2
В середине августа, когда истекли уже, казалось, все сроки, Вадик получил из Москвы хорошо упакованную бандероль, на которой в качестве обратного адреса красовался штамп Московского государственного Университета. В бандероли той находились: извещение о приёме восьмиклассника Стеблова на первый курс ВЗМШ; красиво оформленная книжка в мягкой обложке – “Функции и их графики” – на сто с лишним страниц; а также небольшая брошюра с первой контрольной и перечнем тех немногих, но жёстких требований, которые предъявляло руководство школы к своим ученикам.
«Поступил!» – с облегчением выдохнул тогда наш герой, у которого от радости и волнения всё загорелось внутри и щёчки румянцем налились. Его сомнения прежние были теперь позади; за спиною остались и муки пятимесячного ожидания.
У Стебловых в тот день был праздник – настоящий, шумный, большой, ни с чем не сравнимый, – который, впрочем, не долго длился. Уже вечером, освободив стол и положив перед собою присланную бандеролью книжицу, Вадик с жаром принялся за работу, которая не прекращалась после этого ни на один день вплоть до июля следующего года, когда в занятиях заочной школы наступал перерыв, и можно было немного передохнуть и расслабиться. Работа была нешуточная и нелёгкая: ежемесячно ему необходимо было самостоятельно осваивать присылаемый из Москвы теоретический материал, освещавший различные вопросы элементарной математики, которые либо совсем не проходились в обычной школе, либо проходились бегло, поверхностно. Материал тот закреплялся потом однотипной контрольной работой из пятнадцати-двадцати задач, и задачи были под стать теории. На каждую из них можно было бы смело ставить, пользуясь школьной классификацией, по паре больших жирных звёзд, – так что пыхтеть приходилось помногу, думать и напрягаться… По истечении отпущенного срока задачи с решениями требовалось отослать в Москву, где их просматривали преподаватели школы – студенты мехмата как правило, первокурсники и второкурсники. Неудачно решённые или нерешённые вовсе задачи вместе с новым заданием и небольшими подсказками возвращались назад, и в следующем месяце на нерадивого ученика ложилась уже как бы двойная нагрузка.
И так каждый раз – безо всяких поблажек и послаблений…
Темп обучения был предложен бешеный, и выдержать его было ой как непросто! Особенно – на первых порах, когда ещё каждая задача решалась с таким усилием и усердием, будто бы именно она и была самой главной и самой последней.
Занятия в общеобразовательной школе в расчёт не принимались – совсем. Их как бы и не существовало вовсе – ни занятий пятичасовых, ни ежедневных домашних заданий, ни элементарной личной жизни ученика. Всё это считалось, по-видимому, в ВЗМШ чем-то побочным и несерьёзным. Потому и отбрасывалось там без раздумий при составлении планов и программ. Девиз обучения был предельно жёсток и строг: коль уж “взялся за гуж, не говори, что не дюж”; коль собрался стать математиком – работай за двоих, а то и за троих даже. Вертись, крутись, как хочешь, как можешь, поспевай, – но задание очередное выполни, точно и в срок. И в Москву его потом отошли, предварительно в самодельный конверт упрятав. А иначе нельзя, иначе – застой и гибель. Апатия, пессимизм, дряхление ума и воли… и – гибель: всех добрых начинаний гибель, всех добрых дел. Никогда и никого ещё расхлябанность и разгильдяйство, и либерализм гнилой и дешёвый не приводили к добру! Всё это уже проходилось тысячу раз, на этом люди не единожды обжигались, в размазню безвольную и никчёмную превратились…
Такова была Москва со своей шальной беспокойной жизнью – именно такой узнал её наш герой уже с первых дней знакомства с ней, пусть пока и заочного. Она как смерч, налетающий невесть откуда, в одночасье покоряла глубинку силой своей недюжинной и динамикой, деловитостью крайней, столичным скоростным напором. Но, главное, – своей агрессивной духовной мощью, сметающей всё на пути, преград и препятствий не ведающей и не терпящей. Москве нужно было либо подчиняться полностью и бесповоротно, её скорости бешенные целиком принимать, особенный образ жизни, – либо в сторону уходить побыстрей, не раздумывая ни секунды. Уходить – и продолжать себе спокойно дальше спать крепким провинциальным сном, таким желанным и живительным одновременно для слабого человеческого организма.
Вадик Стеблов подчинился: предложенным скоростям, предложенной новой жизни, – уже потому подчинился, что динамизм и скорости максимальные были присущи ему с рождения, являлись неотъемлемыми свойствами его, внутренней сутью. И как раньше он изматывал себя непомерными нагрузками во время детских игрищ и забав и потом во время тренировок лыжных, ежедневно часами пропадая в секции, – так и теперь его словно бы привязал кто к письменному столу, ставшему для него с тех пор полем интеллектуального боя. Вершины человеческого духа он принялся покорять так же азартно и яростно, как до этого покорял вершины спортивные.
Всё это отнимало уйму времени у него, сил и здоровья, – но Вадик-математик, как и Вадик-спортсмен, не испытывал ни усталости, ни уныния! Всё было как раз наоборот: был невиданный какой-то душевный подъём и такая же невиданная, невероятная для четырнадцатилетнего паренька жажда работы. По многу часов кряду он не вылезал из-за стола – думал, решал, записывал, – а ему всё казалось мало. Всё он чего-то не додумывал, не успевал, не понимал, как следует, – так что родителям приходилось уже силком отправлять его спать или же на прогулки.
«Хватит, сынок, отдохни, – поочерёдно говорили они ему, закрывая московские книжки, лампу у него на столе выключая. – И так уже сегодня хорошо потрудился».
«Да я только сел: чего отдыхать-то?!» – всякий раз сопротивлялся сын, которому совершенно искренне представлялось-думалось, что он и не работал ещё – до того быстро и незаметно тогда для него пролетало время…
Казалось бы, что при такой загруженности и самоотдаче полной он должен был, по всем правилам и раскладам, забросить-запустить своё основное и наиважнейшее на тот период жизни дело – учёбу в общеобразовательной школе, успеваемость там резко снизить, троек в дневник, как ранее, нахватать, когда он спортом также вот остервенело и азартно увлёкся… Но ничего подобного не произошло – даже и близко: не запустил, не снизил, не нахватал. Учился достаточно ровно весь восьмой класс, хорошо учился.
Больше скажем: занятия в ВЗМШ, к неописуемой радости родителей Вадика, благотворно сказались на учёбе сына, на его успеваемости, собранности, дисциплине, произведя тот же самый эффект по сути, что произвело два года назад и его безудержное увлечение лыжами. И если тогда Вадику, воспитаннику городской спортшколы, стыдно было уже плохо бегать, на соревнованиях отставать, на уроках физкультуры, – то теперь ему стыдно стало плохо учиться. Тем более стыдно, что, как выяснилось ещё в сентябре, из всех восьмиклассников школы – из девяносто двух человек! – в Москву в тот год, помимо него самого, поступила только Чаплыгина Ольга, отличница с первого дня и большая умница, всегдашняя любимица учителей. Ни Вовка Лапин, с его соображалой-отцом, ни кто-то другой в заочную школу не поступили, как ни старались…
Такие известия ошеломляющие и невероятные не проходят бесследно – ни для кого. Они действуют на сознание человека похлеще любого гипноза, любых заклинаний и чар. Тем более, если этот человек – паренёк совсем ещё молодой, едва жить начавший.
Не был здесь исключением, разумеется, и наш Вадик, для которого сам факт самостоятельного поступления в Москву значил очень и очень много. Сбылась его первая отроческая мечта, которую он полгода, как жених невесту, лелеял, не напрасно были потрачены в феврале время и силы. Он поверил в себя не только как бегуна или прыгуна, но уже и как творца-интеллектуала; как человека, умеющего не хуже других в школе аналитически и логически мыслить, задачи самые сложные решать, не хуже других учиться.
Всё это было крайне важно и нужно ему: ведь ещё недавно совсем он едва концы с концами сводил на общеобразовательной среднешкольной ниве, презренным маленьким человечком числился там, почти что изгоем. А тут он вдруг в одночасье, к всеобщему непониманию и изумлению, превратился в первого математика класса, всей школы даже, за спиною которого оказались многие хвалёные отличники-одногодки, ещё каких-то полгода назад даже и не воспринимавшие его всерьёз, на него как на дурочка-недоумка все поголовно смотревшие. Впереди теперь была только Чаплыгина одна, – но та всегда была впереди, все предыдущие семь лет обучения… К этому привыкли и учителя, и ученики. И первенство её долгое и безусловное ни сомнений, ни удивления не вызывало.
Вадик же, наоборот, удивил в восьмом классе всех. Лидером класса он сделался так стремительно и так для учителей и одноклассников неожиданно – что даже и сам толком не понял тогда, как это всё у него, раба Божьего, произошло, как он смог один сотворить такое… Но главное он понял прекрасно – с того момента, по сути, как только первый пакет из Москвы получил и его прочитал от корки до корки и сам за себя порадовался. Он понял, что не имеет права теперь учиться хуже других, хуже того же Лапина Вовки. Уже потому, хотя бы, что, позоря себя плохой успеваемостью, будет автоматически теперь позорить и принявший его в свои ряды Университет. А вместе с ним – и всех тех людей, именитых и безымянных деятелей науки, кто когда-то выросли в его стенах, в его же стенах выучились и воспитались; и трудами своими, бессмертными научными подвигами и открытиями стяжали славу России, духовно возвысили и укрепили её.
Нет, такого позора и унижения достойным университетским людям – академикам, доцентам и профессорам – Вадик допустить уже никак не мог: он не имел на подобные действия никакого морального права…
3
В двадцатых числах сентября, когда самодельной заказной бандеролью только-только была отправлена в Москву первая контрольная работа с решёнными задачами, в жизни восьмиклассника Стеблова произошло ещё одно значительное событие, оставившее не менее заметный след в его дальнейшей жизни и судьбе, чем даже триумфальное поступление в ВЗМШ. У героя нашего появился новый товарищ, Збруев Сашка, – человек, который, на удивление быстро сблизившись с ним, почти-что сроднившись, сделался главным действующим лицом и виновником одновременно тех больших перемен и той драмы, что поочерёдно, с промежутком в один год всего, ожидали Вадика в недалёком будущем.
Збруев этот в их четвёртой школе был личностью легендарной, можно даже сказать – культовой, как живая кинозвезда или космонавт тот же, с которого хоть портреты пиши и на стенку вешай. Не прогадаешь, как говорится, в убытке не окажешься… Так, он был единственным учеником, вероятно, которого у них знали все – и педагоги, и дети, – про которого постоянно говорили и сплетничали после уроков и на переменах. Имя которого, одним словом, было всегда на слуху.
Со стороны это покажется удивительным Вам, дорогой читатель, но уже начиная с пятого класса – времени, когда всех пятиклассников их школы начали регулярно собирать вместе на собрания и “линейки”, на которых традиционно подводились итоги и намечались планы, отмечались юбилейные даты какие-нибудь, праздники, где двоечников прилюдно чихвостили, нарушителей дисциплины, а отличников также прилюдно хвалили (тогда это была обычная педагогическая практика, применяемая во всех школах страны), – так вот с этого момента участвовавший в тех общешкольных сборах Стеблов неизменно слышал от учителей про какую-то неслыханную гениальность этого низкорослого и вертлявого паренька из параллельного «Б» класса, от чего порой даже дух захватывало. А ещё выступавшие говорили с жаром и наперебой про его умопомрачительные образовательные успехи, якобы всесторонние и недюжинные, которые рекламировались и тиражировались работниками школы с таким немыслимым постоянством и такой упорной последовательностью на протяжении последних шести школьных лет, что выглядело это со стороны как-то уж слишком навязчиво и неправдоподобно. Да и чудно и странно одновременно, чтобы в это безоговорочно верилось.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































