Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
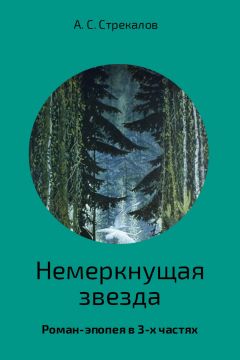
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Не миновала сия горькая чаша и дядю Лёшу, человека мужественного и волевого в целом, по-человечески очень надёжного, как про него рассказывали, и на работу злого, – но очень и очень несчастного, увы, в личной семейной жизни. У него и до войны-то были большие проблемы с женой, кончавшиеся, как правило, скандалами и драками на почве женской неверности: половым бессилием страдала жена – никому не могла отказать. Такое иногда бывает… Оставшаяся же в войну одна, абсолютно бесконтрольная и бесшабашная, “голодная” как сто чертей и на мужиков злая, она и вовсе голову потеряла от воли неограниченной и от чувств – пустилась во все тяжкие, как говорится.
Ну и кончилась та её разудалая и развесёлая холостяцкая жизнь двойным внебрачным приплодом. К концу войны вышло так, что любвеобильная и плодовитая супружница дяди Лёши успела нагулять ему двух не похожих меж собой пацанов к тем двум, уже имевшимся, которых нажили они с ней до войны совместными усилиями, которых только-только было начали на ноги поднимать, от пуза кормить и воспитывать…
Узнав про такой “сюрприз”, или “подарок судьбы” неожиданный и пренеприятный, наш вернувшийся герой-гвардеец, прежде отчаянный до безумия и беспечный, что за четыре военных года буквально сроднился со смертью, видел её довольно близко не раз и сделался от такого родства безрассудно-бесстрашным и несгибаемым, – герой сломался в два счёта, прямо как тростиночка слабая, уйдя в трёхмесячный беспрерывный запой, едва для него плохо не кончившийся. Жену свою, дуру распутную, он, видимо, крепко любил. Оттого и пил, не шутя, – с глубокими обмороками через раз, блевотой кровавой, бредовой горячкой… и со страшной похмельной ломкой по утрам, дикими головными болями сопровождавшейся. Горел Алексей Егорович, словом, как покорёженный русский танк, подбитый врагами из-под тешка, из коварной и подлой засады…
Второй, не менее чувствительный по силе удар дяде Лёше уже родной колхоз нанёс, правление его зажравшееся, хитромудрое, без мужиков деревенских большую силу набравшее за войну, вседозволенность и безнаказанность почувствовавшее.
Произошло тогда вот что, если совсем коротко. Месяца через три приблизительно, когда закончились фронтовые деньги, и не на что стало пить, а здоровье, войной и пьянкой подорванное, уже и тревогу забило: сбои сердечные стало давать, которые валидолом лечили, – тогда-то, опомнившись и протрезвев, в бане помывшись, пошёл он устраиваться в колхоз на работу, справедливо рассчитывая на уважение со стороны земляков. И на соответствующее его теперешнему положению и офицерскому званию место, естественно, – званию, заработанному в смертельных боях, а не на печке домашней. Парадную форму даже надел, сплошь орденами новенькими обвешанную: думал, дурачок, погоны и ордена помогут, службу верную ему сослужат в мирной-то жизни.
Но каково же было его изумление, когда ему доходчиво, с издевкой плохо скрываемой, объяснили в правлении, что звание его и командная должность бывшая хороши были только там, на войне, в мотострелковой его дивизии, где они, соответственно, и остались. Причём – навсегда, безвозвратно, как и сама война. А на гражданке, объяснили ему, совершенно другая жизнь, не менее, чем фронтовая, сложная и тяжёлая, другие правила и законы.
«Поэтому, хочешь, не хочешь, – как мальчику растолковывали ему сытые и пузатые дяди, хорьки деревенские с “белым билетом” в кармане, – а надо привыкать к ней, дружок, вживаться в неё потихоньку и вписываться… Ну и вести себя, ввиду этого, попроще – без оглядки на прежние подвиги и заслуги, без дешёвого фронтового ухарства и высокомерия. Не ждать, короче, и не надеяться, что кто-то тебе, герою, место тёплое освободит. Да ещё и в ножки благодарно поклонится. Какая работа есть в колхозе – такую, дескать, и надо брать. Хоть даже и работу скотника… А что?! А почему – нет?! почему?! – ядовито ухмылялись правленцы. – И за ту должен сказать спасибо, именно так. У нас в стране любая работа почётна и ценна – сам, поди, знаешь».
«Скромнее надо быть, Алексей, скромнее… и с людьми поласковее, – был той беседе итог. – А то ты, такой геройский и отчаянный, с нами тут долго не уживёшься».
Вдвойне было обидно дяде Лёше, что рассказывали ему все эти премудрости жизни люди, просидевшие всю войну в тылу, за спинами безмужних баб с болячками своими липовыми прятавшиеся, на хрупких бабьих плечах лихо сделавшие себе карьеры; а по ночам также лихо “строгавшие” с ними, изголодавшимися, детей, которых кормить теперь и воспитывать нужно было возвращавшимся с войны мужьям, мужьям-рогоносцам.
А ордена Славы, солнцем сиявшие на парадном офицерском кителе, и вовсе подействовали на не воевавших и потому обделённых наградами руководителей колхоза как тряпка красная на быков: так же разъярили и озлобили их – всех поголовно. Один ему так прямо тогда и сказал:
– Ты, герой, орденами-то своими здесь перед нами шибко не козыряй: такие медали мы, мол, видали. Мы здесь, мол, тоже трудились в поте лица – хотя и без орденов. За одни хлебные карточки.
– Знаю я, как вы, крысы тыловые, трудились! – и чем! – взбесился и сорвался на крик вышедший из себя фронтовик от подобного нравоучения. – По своей бабе вижу!
– Да баба твоя – та ещё штучка! На передок больно слабая и податливая: не может и дня без любви прожить, дура гулящая! И не надо нам тут ей по глазам стебать, наши добрые имена об неё, стерву, пачкать! – тем же криком отвечали ему разгневанные управленцы. – Таких гулён, как она, ещё и белый свет не видывал! Вся деревня наша про то знает и может тебе подтвердить, что она тут без тебя вытворяла! какие кренделя по ночам выписывала! С неё иди и спрашивай за её разгул и детишек прижитых, ей одной претензии предъявляй. А нам не надо!
Громче и злее всех, как водится, это кричали как раз те, кто и бегал к ней по ночам чаще других – согревать свое гнилое тельце…
Услыхав такое про собственную жену – неверную! и оттого ещё пуще любимую! – наш взбешённый герой-фронтовик, закатив глаза, кровью багровой налившиеся, бросился на всех с кулаками, как бросался он не раз и не два в смертельном рукопашном бою на врагов-фашистов. Да не рассчитал – перегнул, как потом в протокол записали, палку. Враг-то новый, домашний, хитрее и изворотливее европейского оказался, со знаниями правовыми, связями, круговой порукой, с советским гербовым паспортом, наконец, – точно таким же, красным, с буквами СССР наверху, какой лежал в тот момент за пазухой и у самого Алексея Егоровича…
Заварившаяся в правлении колхоза буза кончилась тем, в итоге, чем частенько и оканчивались после войны подобного рода разборки между изворотливыми гражданскими людьми и возвращавшимися с фронта домой шальными от радости и гордости воинами-освободителями – арестом последних, в мирной-то жизни, как выяснялось к их стыду, совершенно неприспособленных и беспомощных, беззащитных и слабых на удивление. Долго герои-фронтовики не могли прижиться-пристроиться на гражданке, понять, что законы Войны и законы Мира так сильно разнятся между собой. И что хорошо было там, на войне, – бесстрашие, прямота и порядочность, самоотверженность, вера и честь, – совсем не годится в миру. Всё это здесь одна сплошная морока, головная боль, маета и обуза…
Арестовали и дядю Лёшу, естественно, отвезли в район и какое-то время в КПЗ продержали, пока шло следствие. Но не посадили, выпустили на поруки. От тюрьмы и срока немалого его спасли не “славные” ордена и не ранения фронтовые, осколочные, ни единого живого места на нём не оставившие, – спас его тогда партбилет, полученный в памятном 1942-м году в боях за Сталинград, прорыв блокады его и освобождение. Коммунистов-воинов старались всё-таки не сажать: берегли лицо партии.
Выпустить-то его выпустили, молодцы! Однако же, по завершении судебного разбирательства, на следующий день, вызвали проштрафившегося фронтовика-бузотёра в горком партии – для проработки и чистки основательной, и последующего вправления поехавших на сторону мозгов. И пришлось ему, горемычному, всё рассказывать там как на духу, подробно всё объяснять – всю подноготную своей теперешней бесцельной и тоскливой жизни, которую он даже и от милиционеров скрыл и которую рассказывать посторонним было ему ох-как противно и трудно. Про честь офицерскую, фронтовую рассказывать, поруганную на гражданке, красавицу-жену, на деле оказавшуюся большой стервой, ну и про то, наконец, как встретили его в родном колхозе тамошние руководители: ухмылками да хахоньками, да издевками ядовитыми и циничными, достоинство унижающими наставлениями.
– Муторно мне здесь, товарищ секретарь, если б Вы только знали, как мне в родном дому муторно! – закончил тогда свой печальный рассказ убитый горем и передрягами последних дней, вконец истерзанный и раскисший дядя Лёша. – Настроение такое, что хоть руки на себя накладывай, в петлю лезь. А мне ведь только тридцать пять лет всего! Представляете?!… А уже ни охоты нет никакой, ни желания жить – ужас! ужас!…
– С войны, помнится, ехал, – смахнув слезы с глаз, устало говорил он, под ноги себе глядя и будто бы сам с собой разговаривая, – душа разрывалась от счастья! Песни – верите ли? – всю дорогу пел, стихи хорошие читал даже – и всё ведь на трезву голову, а не после водки и спирта. Столько радости тогда было во мне, столько гордости за нашу победу великую и окончание войны – на десятерых бы хватило, кажется. Ну, думаю, заживу теперь – с руками-то целыми да с ногами… да с головой… А оно вон как всё обернулось скверно. Можно даже сказать – трагически. За что? чем я таким перед Господом провинился? Не знаю. Ума не приложу даже!… Сейчас тоска на душе такая, повторю ещё раз, последний, что и вовсе не хочется жить. Честное слово, не вру. По деревне-то своей пройтись взад-вперёд – и то стало совестно…
– За жену свою, Шурку, больше всего обидно, товарищ секретарь горкома, больше всего меня зло именно на неё берёт: так бы и убил её, кажется, сучку драную, похотливую, за измену; взял бы топор – и убил… Вери-те ли: несколько раз порывался, как только самогона домашнего пережру, – да в последний момент останавливался, руку с топорища снимал и топор подальше от себя прятал. Потому что чувствую, что не жить без неё, что одному совсем худо будет… Я ведь люблю её, стерву гулящую, больше жизни люблю. Всю войну только о ней и думал, к ней одной и спешил; жил ею четыре года, под пулями да под бомбами выживал, вспоминая, как до войны нам с ней хорошо было. А оно вишь как, в итоге, всё вышло! Прямо как в водевиле старом, срамном, что в клубе у нас когда-то крутили… Я ведь чувствовал там, на фронте, что что-то дома не так: по письмам её, холодным и редким, чувствовал… Но она мне про чужих-то детей не писала ни разу, хитрая, которых тут прижила. И сестра, Прасковья, про это дело тоже ничего не писала: нервы мои, видите ли, берегла, дурочка, настроение не хотела портить… Лучше б уж и не берегла, лучше б испортила, и я, узнав про измены, там бы и остался… А теперь вот всё это на меня обрушилось разом: и детишки чужие, сопливые, и загулы Шуркины, и насмешки соседские, наглые, – всё. Был бы табельный пистолет под рукой, как раньше, – ей-богу, застрелился бы…
Невесёлый этот рассказ партийный секретарь слушал молча, не перебивал – давал человеку выговориться; и только крутил и крутил на столе карандаш остро-заточенный, да беспрестанно хмурился, брови насупив, да гонял под щеками бритыми крупные и острые желваки.
–…Уезжать тебе отсюда надо, Алексей Егорович, – сказал под конец. – Всё равно житья тебе здесь не будет…– И потом, подумав, добавил: – Устроишься на новом месте, заберёшь к себе жену из деревни, и заживёте вы там с ней ещё лучше прежнего… Всё забудется, в итоге, всё уляжется – и не такое перемалывала жизнь!… И детишек приёмных будешь любить как своих – коль жену больше жизни любишь, коль красивая она у тебя, как ты говоришь… Дети-то, они все одинаковые, пока маленькие, – и не виноваты совсем, что во грехе родились, что мать их такая распутная.
Простые эти слова, от души и с любовью сказанные, подействовали на убитого горем фронтовика самым чудесным и позитивным образом. Они как-то сразу оздоровили и взбодрили его, камень с души истерзанной сняли. И, что особенно важно, указали Алексею Егоровичу путь, вроде бы самый постыдный внешне, но по сути внутренней, православной, самый, может быть, честный и правильный в той непростой ситуации. Путь, который и самому ему в голову приходил, был более всего сердцу его желанен… Но который он почему-то гнал от себя по ночам, которого пуще всего стыдился и за который, как казалось ему, окружающие, да и он сам себя уважать перестанет.
–…Надо уезжать, это верно, – тихо и неуверенно соглашался с секретарём дядя Лёша, виновато посматривая исподлобья на грозного и не старого ещё собеседника. – И жену увозить отсюда надо – это вы правильно подметили, товарищ секретарь. Не бросать же её, дурочку пустоголовую, одну – с четырьмя на руках ребятишками… Любовники-то – они только в постелях хороши, да за бутылками. А в жизни-то от них толку чуть, в жизни они – прощелыги и пустозвоны как на подбор, нахлебники-захребетники: дело это понятное и известное… Всё это так, товарищ секретарь, всё правильно и справедливо! И согласный я с Вами здесь полностью, по каждому, так сказать, пункту… Да только, – дядя Лёша замялся, густо краснея и пристыжённо посматривая на сидевшего перед ним через стол начальника-партийца, на орден боевого Красного Знамени его, что одиноко на лацкане новенького пиджака блестел-красовался, – только куда мне ехать прикажете, когда все места тут у вас на гражданке штатские давно расхватали? И нигде мимо них, чертей, не проскочишь и не пробьёшься!
– Расхватали, Алексей Егорович, это точно, – сурово подтвердил секретарь, на грудь опуская голову, не найдясь сразу, что и сказать.
– Ну-у-у, вот видите, – проштрафившийся фронтовик улыбнулся невесело. – Не в скотники же мне, комбату бывшему, идти, в самом деле, или в пастухи? В родной деревне житья тогда уж точно не будет…
Боевой секретарь выпрямился на стуле, отложил в сторону свой карандаш, смерил взглядом прищуренным, умным сидевшего перед ним посетителя, чем-то глубоко понравившегося ему, взглядом этим героя-фронтовика будто насквозь пронзил, в самую душу тому забрался будто бы и даже похозяйничал там, – после чего уставился на какое-то время в окно, задумался напряжённо…
– Посиди-ка здесь, капитан, – сказал через минуту, решительно из-за стола вылезая и предварительно что-то такое уже сообразив, после чего вышел из кабинета, оставив дядю Лёшу одного; а минут через двадцать он вернулся назад, весёлый, и предложил проштрафившемуся комбату собираться и ехать в Ташкент – на большую и важную стройку.
– Комбинат мы там новый возводим, домостроительный, – с жаром стал рассказывать он, – в помощь нашим узбекским товарищам. Рабочих рук не хватает, не хватает толковых руководителей. Нужны, одним словом, крепкие надёжные ребята – такие, как ты, – потому как сроки на строительство отпущены партией минимальные. Там тебе, Алексей Егорович, и масштаб, и перспектива роста, и, главное, заработки хорошие. Тебе сейчас деньги ох-как будут нужны – на такую-то ораву… Втянешься там в работу и забудешь про всё! – про обиды последние, горечи…
Ну и куда было деваться дяде Лёше после таких слов, на гражданке так жидко обкакавшемуся? что говорить в ответ и как себя в горкоме вести? Выбора-то у него, по большому счёту, и не было. Тут ведь как хочешь крутись и ловчи, а согласие своё “добровольное” давай – иначе и впрямь загремишь в каталажку, из которой до смерти не выберешься… Дядя Лёша и дал – прямо там, в кабинете, и без раздумий фактически – и был направлен тут же на работу в Среднюю Азию, в советскую республику Узбекистан: помогать не вылезавшим из чайханы братьям-узбекам обустраивать их страну. Хотя собственная страна Алексея Егоровича лежала в сплошных развалинах.
«А что?! – думал он тогда, растерянно улыбаясь. – Ташкент – это всё же не Колыма и не Соловки холодные и голодные. Повезло тебе, Алексей Егорович! Легко отделался! Радуйся, бродяга!…»
Вернувшись в тот день в деревню радостным и просветленным, и даже куражным где-то и озорным, каким его уж давно не видели родственники и соседи, дядя Лёша тогда первым делом пересказал всё старшей сестре Прасковье, что с малолетства ему заменяла рано умершую мать. Поведал той весь свой душеспасительный разговор в горкоме – слово в слово. Подтвердил и намерение твёрдое с детьми и Шуркой ехать в Ташкент – чтобы спрятать там себя и семью от недоброй людской молвы понадёжнее, от грязи. А под конец обратился к сестре с настоятельной просьбой отпустить с ним туда ещё и её сынишку среднего, Серёжку, столь им всегда любимого.
– Что он тут в колхозе делать-то будет, подумай? – всю жизнь на ферме отираться? из-под коров дерьмо выгребать? – резонно увещевал он сестру. – А там, в Ташкенте, я его в ремесленное училище определю: парень специальность себе перед армией получит. И ему хорошо на будущее, и мне с ним на первых порах, как с единственным мужиком, повеселее будет…
Подумала-подумала Прасковья Егоровна над предложением брата – и согласилась: отпустила сына. И оказался её пятнадцатилетний Серёжка, будущий отец Вадика, в самом центре евразийского континента, в солнечном Узбекистане, – вдали от своей неказистой и тихой Родины, с лёгкостью им тогда, по малолетству, оставленной. Три с лишним года он жарился там под белым азиатским солнцем, безжалостным, нещадно палящим, постигая азы будущей профессии электрика. Три года топтал босыми ногами по вечерам в изобилии водившийся в тех местах виноград: добывал вино и чачу для спивавшегося, душевно-надломленного дяди. Три года выносил его ежедневные скандалы и драки с женой, умудрявшейся под носом у мужа заводить себе ухажеров-любовников. И терпел это всё до тех пор – пока, наконец, ни получил повестку из военкомата с призывом в армию и ни отправился служить в Забайкальский край, в Даурию, показавшуюся ему после смертельного Ташкентского пекла настоящим раем… Всё это было, впрочем, уже потом – по прошествии месяца после горкомовской судьбоносной беседы. А раньше была Москва, столица древняя, русская, куда дядя Лёша заехал на несколько дней с племянником по дороге в Среднюю Азию – навестить фронтового друга.
Неделю гуляли тогда в живых оставшиеся фронтовики, с тоской вспоминая прежнюю, понятную им обоим военную жизнь, до боли сладкую и желанную, неделю беспрерывно пьянствовали и пели, и в хмельном умопомрачительном угаре целовали друг дружку в засос, слезами горючими обливали. А Вадиков отец в это время, сутками предоставленный самому себе, не имея над собой контроля, носился без устали по Москве, дурея от её величия, красоты и размаха… Москвой он был покорён сразу, с первых минут! Он влюбился в неё так крепко и страстно, и так глубоко, как только может влюбиться деревенский зачуханный паренёк в длинноногую городскую красавицу. И вполне понятно, поэтому, что, уезжая вскорости в Узбекистан, он загорелся мыслью, клятву себе даже на Красной площади дал непременно сюда вернуться: чтобы работать здесь, постоянно жить, чтобы красавицей Москвой каждый Божий день любоваться и восхищаться.
И только после этого уже был Ташкент, армия и три года службы в забайкальских лютых степях, у самой границы с Китаем и братской Монголией… Шесть лет жизни, в итоге, отняла лукавая и совершенно дикая Азия у Сергея Дмитриевича, на шесть долгих и трудных лет привязала к себе. Но души его чистой, юношеской, она не затронула ничуть и сердца горячего, русского, не коснулась. И то сказать: тяжело ей было – маленькой, плутоватой и кривоногой, узкоглазой, желтолицей, дремучей, шатрово-палаточной и продувной, скупой и бродяжно-нищей, – тягаться с царственно-пышной Москвой, белокаменной златоглавой красавицей, по-барски широкой и мудрой, привольной и чудной во все времена, любвеобильной, щедрой и хлебосольной. Москва ждала, Москва манила, Москва тревожила изо дня в день пылкое воображение юноши, нет-нет, да и являясь ему по ночам в диковинном красно-площадном обличии. Туда он стремился все шесть азиатских лет, одною Москвой грезил…
Демобилизовавшись осенью 1952 года, отец Вадика, двадцатидвухлетний тогда молодой человек, мужчина, защитник отечества, сев на московский поезд в Чите в кителе новом, парадном, прямиком помчался в Первопрестольную – осуществлять давнишнюю мечту, не угасшую, не растраченную с годами. Приехал, на Казанском вокзале, сияющий счастьем и радостью, вышел, папирос столичных купил, закурил, задумался, по сторонам восторженно огляделся, грудь и ноздри по-молодецки широко раздувая. И первое, что подумал, была щемящая до боли мысль: «ну всё, Сергей Дмитриевич, товарищ гвардии старший сержант, мы с тобой теперь дома»… Пока курил, делово разгуливая взад-вперёд по Комсомольской площади, увидел с гордостью непередаваемой, что не изменилась Москва ни капли за годы его отсутствия, не состарилась и не подурнела. Какой там! Наоборот, как девица на выданье похорошела с того памятного послевоенного времени, заметно расстроилась и разрослась, оздоровилась, очистилась и расцвела, величественней и богаче сделалась. И оттого – во сто крат родней, милей и желанней… Жаль только вот, что возможности любоваться и восхищаться ей, как хотелось бы, как просила душа, у него тогда практически не было. Да и денег – тоже…
Этот его, второй по счёту, приезд разительно отличался от первого, шестилетней давности, как детство отличается от взрослой самостоятельной жизни. Хотя бы тем уже, что не имелось собственного угла – главной ценности в любом незнакомом городе. Поэтому некогда было, как раньше, беспечно и бесцельно шататься где захочется и сколько захочется, и при этом глазеть по сторонам – в поисках очередного чуда; и потом бурно радоваться на площадях, вместе со всеми кричать и в ладоши хлопать, больше не думая ни о чём, ни о чём не печалясь. Теперь вместо этого нужно было быстро и много бегать по предприятиям – заводам, фабрикам, стройкам – и искать, всё время упорно и нудно искать подходящее для себя место работы и койку для ночлега.
Он и бегал, и искал, не ленясь: ребёнком давно уже не был, с начала войны по сути, когда в августе 1941-го без отца остался и вынужден был рассчитывать только лишь и исключительно на себя, на собственный разум и силу. И Ташкент его к этому же приучил, и армия – к твёрдости, смелости и независимости… Но, обойдя за день с десяток столичных заводов и строек, демобилизованный, голодный, бесприютный и нищий солдат, прямо со следующего дня горевший желанием немедленно приступить к работе, к немалому своему изумлению везде получал отказ.
«Да, люди нам сейчас требуются, и в большом количестве; тем более – молодые парни, отслужившие срочную службы, – говорили ему чиновники-кадровики. – Только с жильём вот у нас пока напряжёнка: все общежития наши, дескать, давно переполнены, или их ещё и вовсе нет, не возвели, не успели, руки до них не доходят… Вот если бы Вы могли, – добавляли они напоследок расстроенному посетителю, – пожить пока у кого-нибудь с годик, тогда мы приняли бы Вас к себе – на временной, так сказать, основе, по договору. А иначе ну никак нельзя. Поймите правильно…»
Жить отцу в Москве было не у кого: не имелось здесь у них никогда ни родных, ни близких, ни других каких хорошо знакомых людей. Был, правда, фронтовой товарищ дяди Лёши, приютивший их двоих в прошлый раз, – но ехать и проситься к нему на постой отцу не хотелось. Совсем. Уже потому, хотя бы, что тот и сам жил Бог знает как, в крохотной восьмиметровой комнатке на Серпуховке, пил безбожно, болел, с соседями вечно ругался, которые участкового вызывали через день, чтобы приструнить горького пьяницу. К тому же, и дружка его закадычного, фронтового, осуществлявшего с ним незримую связь, к тому времени уже год как в живых не было. Надорвался Алексей Егорович, вечная ему память и слава, на среднеазиатском строительстве, оставил там здоровье последнее и силёнки; домой вернулся через пять лет смертельно уставший, разбитый вконец, всеми преданный и оставленный. И через пару месяцев испустил дух на руках сестры и старухи-соседки. Белым ангелом отлетела на небо его истерзанная жизнью душа – душа бесстрашного лихого Бойца, отчаянного русского Воина…
А племянник его демобилизованный побегал-побегал тогда без пользы по отделам кадров, пооббивал без толку пороги их и, так ничего не добившись и расстроившись очень, поехал к себе на родину – в родной колхоз, легко когда-то покинутый… Он расстроился неудачей – но не сломался, сопли не распустил. По дороге домой решил твёрдо, что сдаваться ему, молодому и неженатому, не след, и не всё ещё у него, сокола ясного, потеряно. Подумал, что не бывает худа без добра, и что коли так уж всё у него на этот раз нескладно вышло, – то и съездит он пока к матери своей погостить, отдохнёт у неё, откормится, поможет по дому и по хозяйству; а через годик, глядишь, поднабравшись сил, снова поедет в Москву – пытать капризного столичного счастья.
Дома он, естественно, отдыхать не стал, сидеть на материнской шее – сразу же устроился в колхоз на работу. Причём, не на ферму пошёл, не на комбайн – а механиком на элеватор. Но всё равно, трудовую книжку себе “испортил”, в которой появилась запись – работник колхоза, – роковая, как позже выяснилось, для него…
Ровно через год ничего не подозревавший отец Вадика взял расчёт, собрал вещи и деньги и, простившись с матерью, опять поехал в Москву – повторно искать там себе работу… В тот, третий его и последний, приезд как назло было всё – и работа, и места в общежитии. Но на отца смотрели уже как на прокажённого, или как на законченного алкаша, по страшной 33-й статье уволенного. Существовало, оказывается, постановление, запрещавшее столичным отделам кадров принимать по лимиту в Москву работников коллективных хозяйств, и действовало оно жёстко и неукоснительно.
«Зря работали, молодой человек, зря, – пошутила тогда с отцом одна задорная кадровичка. – Отдохнули б лучше годок после армии, и сейчас бы не было у Вас никаких проблем с пропиской и трудоустройством».
«Меня б посадили тогда – за тунеядство», – расстроено, чуть не плача, ответил ей Стеблов.
«Ну а так Вы сами себя посадили, – резонно заметила она ему. – Навечно себя к сохе и трактору привязали…»
Так вот, до смешного обидно и просто, была перечёркнута давняя мечта Стеблова-старшего переехать на жительство в Москву, столицу государства российского. И крупная неудача эта оставила неизгладимый след на всей его дальнейшей, лишённой поэтического аромата жизни, сделала эту жизнь ущербной какой-то, изначально надломленной и не реализованной до конца, не состоявшейся полностью, как ему того бы хотелось. Побитым и предельно обиженным покидал Москву отец Вадика, дорога в которую с той поры была ему, колхознику, на век заказана.
Цели у него тогда уже не было никакой, как не было у него совсем и конкретных на ближайшее время планов. Москва перебила их все, все обесценила и затмила, заразив его своей красотой, своими возможностями беспредельными, богатствами безграничными, что разом выпорхнули из рук птицей непоседливой, юркой…
Чернее тучи вернулся отец домой, в убогую свою деревушку, – но в колхоз работать уже не пошёл: деревня ему опостылела. Могилой показалась она ему, 23-летнему несостоявшемуся москвичу, настоящей живой могилой…
С неделю пожив тогда у матери и погоревав вместе с ней, сердобольной и на ласку скорой, о счастье потерянном потужив, про которое нужно было забыть поскорей, которое вернуть назад уже не представлялось возможным, поехал отец в райцентр после этого – устраиваться электриком в городскую электросеть, где он и остался, в итоге, и с которой связал потом накрепко всю свою дальнейшую трудовую жизнь, пройдясь по ступенькам карьерной лестницы от простого монтёра до главного энергетика города.
Уже работая в электросети несколько лет, он влюбился в деревне родной, в которую на первых порах каждый выходной день наведывался – на подмогу быстро старевшей и слабевшей после войны матери, – отец влюбился там в молоденькую агрономшу, прибывшую по распределению в их колхоз. Через полгода он женился на ней, увёз её, беременную, в город, быстро получил от работы двухкомнатную малогабаритную квартиру без каких-либо удобств, в которой один за другим пошли рождаться у них дети: два мальчика родились и девочка. Всех их нужно было кормить и поить, ставить на ножки собственные. А для этого необходимо было работать – много, изо дня в день и без выходных, по сути, что Сергей Дмитриевич исправно и делал: с деньгами, во всяком случае, в их семье проблем никогда не было.
Прежние его мысли о Москве и красивой столичной жизни как-то сами собой стали блекнуть с годами, из головы выветриваться, и уже не так саднили и терзали душу, болью не отдавались в ней… Но всё же в те редкие поездки в столицу, которые потом по службе удавалось совершать отцу, он, гуляя по этому городу мировому, особенному, пристально всматриваясь и вслушиваясь в него, воздух его горячий, священный всей грудью жадно глотая, – он опять начинал нервничать и волноваться как прежде, и с грустью для себя сознавать, что упустил он по-молодости свою настоящую жизнь, звонкоголосую птицу счастья…
25
«Ладно, пусть учится, раз поступил, раз уж сюда с ним, твердолобым упрямцем, приехали за столько-то вёрст, денег целую кучку потратили», – итожил перенервничавший Сергей Дмитриевич, на вокзал из Кунцево мчавшийся, те воспоминания стародавние, кровоточащие, плотно завладевшие в транспорте им и опять растравившие душу. И, хотя больно было ему и тягостно всю дорогу от них и от скороспелой с сыном разлуки, от интерната, в особенности, и порядков его, – но и сладко одновременно хотя бы оттого уже, что теперь вот, по прошествии стольких-то лет, у него, бедолаги, чушка деревенского, нежданно-негаданно появилась чудеснейшая возможность снова попасть в Москву – теперь уже через отпрыска старшего, через Вадика.
Благополучно купив билет на поезд “Москва-Дебальцево” и зайдя после этого в нужный вагон в назначенное по расписанию время, голодный, от курева посиневший отец сразу же забрался на верхнюю полку, лицом в холодное окно как осиротевший котёнок уткнулся и долго лежал так, недвижимый как истукан, бесстрастно взирая на переполненную людьми платформу; потом – на проносившиеся за окном искрящейся вереницей огни вечерней Москвы…
«Пусть учится, пусть, – раз за разом мысленно выговаривал он тягостное решение. – И пусть не повторяет, не множит ошибок отца: ну их к лешему, эти ошибки… Как сложно их, оказывается, потом исправлять – все эти огрехи и неудачи юношеские».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































