Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
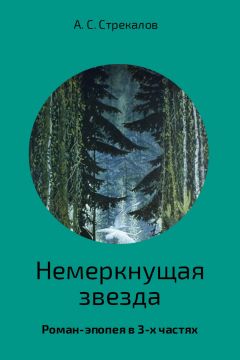
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Разговор затих, тишина их обоих окутала, во время которой Стеблов не знал уже, что и сказать, а Збруев ничего не желал слушать… И видеть более не желал снисходительно-участливую физиономию счастьем светящегося Стеблова, которого он с трудом уже выносил, которого почти ненавидел… Им нужно было расставаться быстрей, чтобы не удлинять вражды, меж ними тогда закравшейся…
– Ну ладно, Сань, не буду больше тебя отвлекать, – первым нарушил молчание Вадик, всё быстро тогда понявший и старавшийся быть поэтому как можно более ласковым и деликатным… и равнодушным ещё – чтоб ни единым звуком голосовым, ни единым взглядом и вздохом более не выказывать раздражённому Сашке праздника, гордости, счастья великого, что царили в нём в тот момент. – Я побегу сейчас домой: там мои грибы привезённые разбирают, – а завтра утром тебе позвоню. Я уверен, – добавил он напоследок, крепко Сашкину руку сжав, – что завтра тебе обязательно пришлют такое же точно письмо, обязательно! Без тебя я в Москву не поеду: ты так и знай…
После этого они быстро и с охотой расстались, и Вадик понёсся домой с лёгким сердцем – помогать родителям с грибами. Всю дорогу он пел и смеялся громко, удачному дню бурно радовался, такому тёплому и на подарки щедрому, такому с утра заладившемуся; и солнцу радовался, и грибам, и письму московскому, долгожданному, лежавшему у него под мышкой, сердце и душу ему будто бы огненной грелкой гревшему. Никто не сдерживал его в тот момент, кислым видом и завистью не осаживал и не раздражал. И он распустился до неприличия, контроль над собой потерял: он вёл и держал себя точно так, как ведут и держатся победители…
Мимоходом он вспомнил про Сашку.
«Наверное, не поступит он в эту школу, – спокойно и буднично подумал вдруг про него, как про постороннего уже себе человека подумал. – Иначе бы вызов ему прислали сегодня утром, как и мне… Математику он, по всей видимости, действительно плохо сдал. Поэтому его и не приняли».
Он подумал так – и не расстроился от своей догадки, не разрушил счастья и праздника, что ураганом бушевали в нём, не омрачил их даже. Сашкино горе не пристало к нему, не зацепило, не тронуло душу.
«Бог с ним совсем, – подумал он весело и куражно. – Поеду учиться один, без него. Там новых друзей столько будет – только успевай выбирай; не пропаду, надеюсь».
Думая так, он и не понял ещё и уж точно тогда не заметил, счастьем своим упивавшийся, что его недавний закадычный друг Сашка уходил в прошлое для него, становился историей…
Вернувшись домой минут через сорок – красивый и гордый такой, от счастья преобразившийся, подросший будто бы на две головы, душою опять расцветший, – он вкратце рассказал там всем про Збруева, про отсутствие вызова у того и паническое настроение; сказал, что придётся ему, вероятно, ехать в Москву одному, чем поверг возившихся с грибами родителей в окончательное расстройство с унынием вперемешку… Потом он до позднего вечера помогал им чистить и консервировать грибы, потом ужинал вместе со всеми, вместе со всеми ближе к полуночи пошёл спать-почивать. А утром, как и обещал, позвонил Сашке, и тот холодно сообщил ему, что письма никакого не получил и встречаться не хочет, потому что дома-де у него много дел. Он уже разговаривал и вёл себя с Вадиком так, будто именно Вадик был виноват во всём, во всех его бедах и неудачах.
Почувствовавший это Стеблов попрощался поспешно, не желая больше надоедать, взяв с Сашки слово только, что тот обязательно сам позвонит ему, как только письмо из Москвы получит… Сашка пообещал – пусть и нехотя, – и на том они и расстались…
Но он не позвонил ни на следующий день, ни позже: он вообще перестал звонить Вадику; перестал встречаться с ним ежедневно, дружить, в парк в футбол играть, загорать и купаться бегать. Школа московская разделила их: одного возвысила и преобразила до неузнаваемости, маленьким героем сделала; другого же, наоборот – опустила…
Вадик тоже не звонил Сашке, не напоминал о себе, всё поняв и так – без звонка! – и решив не терзать понапрасну друга, не изводить, не мучить того своим постылым присутствием. Они встретились ещё раз только в конце августа, когда Стеблов уж вещи в Москву собирал и старательно на отъезд настраивался. И встреча та с обоих сторон носила уже почти что формальный характер.
Вадик, как и полагается, пришёл тогда к Сашке домой, сказал, что уезжает. Родители Збруевы – и сын в их числе – ему счастливого пути пожелали, попросили не зазнаваться и не забывать старых друзей, город родной и школу, после чего, вежливо с ними со всеми простившийся, Стеблов покинул некогда гостеприимный дом, многое ему безусловно давший.
Сашка взялся было его провожать, на улицу даже вместе вышел… Но разговор у них не заладился, не сложился в беседу. И через несколько минут, попрощавшись сухо, Сашка развернулся и засеменил, недовольный, домой, низко склонив к земле кучерявую голову.
Вадик не жалел о его уходе и о нём самом, как никогда потом не жалел о прошлом, о пережитом, частью которого – волей Судьбы – Сашка в тот день становился…
19
Всю ночь после письма московского, Вадика из дома звавшего, родители Стебловы не сомкнули глаз – лежали и о судьбе сына думали.
–…Ну, и что делать будем, а? – уже глубоко за полночь, устав от тягостных мыслей, ни к какому решению не приводивших, спросил, наконец, Сергей Дмитриевич притихшую рядом жену, как и сам он тогда не спавшую.
Но жена молчала – вопроса будто не слышала, будто давно спала…
– Что делать-то будем, спрашиваю? – повторил отец свой вопрос, к жене болевшую с вечера голову поворачивая и недовольно при этом сопя.
–…Ну а что тут другое сделаешь? – другого пути нет: собираться надо – и сынулю родненького в Москву отправлять, – тяжело, с надрывом вздохнув, ответила мать Вадика через какое-то время – тихо ответила, еле губами бледными шевеля, чтобы не разбудить ненароком детишек, что на соседних кроватках спали. -…Как быстро они у нас с тобой подросли, – добавила она ещё тише, прислушиваясь к родному сопению. – Я и оглянуться-то не успела, порадоваться и погордиться… Только вчера ещё, кажется, грудными были, на руках у меня лежали доверчиво, сиську сладко сосали, на меня при этом посматривали как ангелочки; в ясли, в детсад их гурьбою водила, купала в корыте всех, полотенцем одним вытирала… А теперь вон уже какие вымахали, уже из дома просятся, из родного гнезда. Уже тесно им тут у нас сделалось, уже скучно…
Очередной ни то стон, ни то выдох надрывный вырывался из материнской груди, огнём горевшей.
–…Ладно! Чего тут сделаешь! – пусть себе с Богом летят! – в темноте блаженно продолжила шептать мать, как молитву всегда шептала. – В добрый, как говорится, час! и легкой им всем дорожки! Всегда так было, всегда так будет. Подошла, видать, и наша на расставание очередь, и нам с тобою, отец, надо к этому начинать привыкать… Дети, они на то и дети: сколько их, сорванцов, под юбкой ни держи – всю жизнь всё равно не удержишь. Рано или поздно, а всё равно придётся расставаться с ними – как бы тяжело нам от этого ни было.
–…Да наш-то уж больно рано, по-моему, из дома засобирался. Мог бы, кажется, годика два ещё с родителями пожить.
– Конечно, рано, чего говорить! – безрадостно подтвердила мать, безрадостно и безвольно; после чего оба они надолго опять замолкли, поодиночке предаваясь невесёлым раздумьям своим.
–…Денег-то нам на учёбу хватит, как думаешь? потянем мы? – какое-то время молча ещё полежав, спросил Сергей Дмитриевич жену, ведавшую семейным бюджетом. – Сорок рублей в месяц платить – обуза тяжёлая. Это больше половины твоей зарплаты.
– Но его же там на эти деньги поить и кормить будут, – ответила жена быстро… и потом добавила, чуть подумав: – Придётся, конечно, ужиматься во всём и только на самое необходимое тратиться… Ничего! – добавила она с оптимизмом,– как-нибудь выкрутимся. Может, Бог даст, в этом году картошка хорошая уродится: ботва-то у неё всё лето какая сильная была. И пропалывала я её несколько раз, окучивала. Картошка будет – проживём: это уже полдела… Поросёнка осенью, Бог даст, зарежем, огурцов я много в этом году насолила, капусты ещё насолю… Грибов, вон, сегодня сколько набрали, яблочек в деревню съездим и привезём… Экономить будем – с голоду не помрём. В войну, вспомни, без хлеба совсем жили – на одних очистках картофельных да на лебеде.
От последних слов поморщился отец Вадика, пуще прежнего засопел.
– От той лебеды мы с тобой синими до тридцати лет и ходили, мхом зарастали по уши, язвами да струпьями покрывались! – за живое опять задетый, сказал он в сердцах; но быстро взял себя в руки, распаляться, как обычно, не стал. -…Что теперь-то войну вспоминать? – сказал лишь жене с грустью, – столько уж лет минуло! Хочется хоть сейчас пожить получше, поесть посытней да повкусней, а тут опять – экономия! Надоела она мне как редька горькая! Нас с тобой она в гроб до срока загонит, высушит до костей, экономия эта проклятая! И детей вместе с нами… Сколько лет на белом свете живу, сколько себя помню – всё только про эту экономию грёбаную и слышу. Сначала мать всю жизнь экономила и выгадывала, всё клоки да копейки тряслась-собирала, да по щелям прятала, а нас всех впроголодь с малолетства держала, – теперь вот ты… Хоть бы немножечко вдосыть пожить, о деньгах этих злосчастных не думать… Наверное, и не доживу до этого – в гроб быстрее уйду…
Разговоры о деньгах, о достатке возникали в доме Стебловых не раз и всегда кончались ничем – одной лишь бесплодной руганью да претензиями, да взаимным супружеским неудовольствием. Отцу Вадика всё время хотелось пожить пошире и повольней – без мелочного бабьего скопидомства и ежедневной оглядки на случай, войну и беду. Тем больше и острее хотелось, что он, пропадая день и ночь на работе, имел полное право на такую жизнь – сытую, сладкую и привольную.
Но жена его, мама Вадика, строгая и прижимистая во всём, с мелочей начиная, бывшая суровой аскеткой, к тому же, и ревнивой стоялицей за воздержание, за скромную богоугодную жизнь, – жена держала детей и мужа на скудном постном пайке: на картошке, овощах и хлебе, редко когда на сале, – не позволяла никому из них баловаться и объедаться. Неприхотливость свою и аскетизм природный, от родителей и Господа Бога полученный, свою воздержанную в потребительском плане жизнь она решительным образом распространила и на семью, не задумываясь, подчинила всех своей железной и непреклонной воле.
Конфликты с мужем, гурманом и щёголем по натуре, разгорались у неё поэтому с завидным постоянством – и всякий раз безоговорочно муж проигрывал ей…
– Ну а что делать-то прикажешь, если мы с тобой нищими родились? – ответила она и на этот раз на очередное мужнино недовольство, с очередным затягиванием поясов связанное. – У кого отцы с фронта живыми и здоровыми вернулись, – те побогаче живут, посытнее. А наши с тобой родители, Царство им обоим Небесное и память вечная от детей, внуков и правнуков (говоря это, матушка Вадика по обыкновению троекратно перекрестилась в темноте), наши родители уже в первые дни головушки свои горячие удало сложили, землю родную костьми и кровью, как тучным навозом, удобрили. Одни похоронки от них, сердешных, и остались только, да старые фотографии на стене… Ни пенсий тебе, ни пособий за утерянных на войне кормильцев, ни компенсаций каких. Копейки ржавой нам с тобой государство за отцов-героев не заплатило: как вообще-то ещё живём!
Воспоминания об отцах, в Великой Отечественной войне погибших, и о нищей жизни без них жгучей неизгладимой болью отзывались в сердце каждого, у каждого на глазах, как по команде, наворачивались горькие слёзы. Сколько времени с той поры прошло, дети вон уже выросли, – а боль не затихала, не притупляла жала: всё саднила обоим души, утюжком раскалённым жгла… Скудная теперешняя жизнь только усугубляла её, ещё зримее делала, ещё острее и горше…
– Ну-у-у а, может, всё-таки не посылать Вадика в Москву? Может, пускай лучше дома школу заканчивает? – погоревав с минуту по погибшему на фронте отцу и по доле своей сиротской, многократно им уже проклятой, с неохотою возвращался старший Стеблов к новой своей беде, камнем на него свалившейся. – Тут даже не в деньгах дело, ты не думай, Тонь, – поспешно добавлял он, не желая разочаровывать жену. – Деньги я заработаю, слово даю! День и ночь на работе пахать буду, ни одной халтуры не пропущу! – а вас всех накормлю и одену! И Вадика нашего – тоже!… Я просто думаю, что, может, не стоит парня так рано без родителей-то оставлять? Не загубим мы его этим? – как думаешь?
– Так он же не один там будет такой, – возражала жена упрямо. – Со всей страны ребята съедутся – и не самые худшие ребята. Это ж не тюрьма, в конце-то концов! – спецшкола элитная! Ты почитай, вон, что про эту школу в брошюре-то написано, какую Вадику в феврале прислали, – какие там порядки заведены, дисциплина. Где ж ещё тогда детям учиться, как ни там?!… Не каждого туда ещё и позовут… Это Вадика нашего Боженька наградил за что-то, руку ему, голубю ясному, протянул, а мы, неблагодарные, ещё упрямимся, ещё раздумываем да выгадываем, копейки лежим и считаем, зарплаты собственные. А тут не только копейки – тут всё отдашь, лишь бы туда попасть побыстрее и повернее… А учиться надо, – переведя дух, добавила Антонина Николаевна, вздыхая, – обязательно надо! Нельзя детишек своих дурачками необразованными в жизнь выпускать – обрекать их на вечные муки и унижение. Неграмотный человек – это ж всё равно что слепой инвалид, или полудурок-калека… Или раб бесправный и беспомощный на всю жизнь, которого все ногами пинать будут… Никогда потом себе этого не простим, если допустим такое! никогда! Да и они нам – тоже!…
Сергей Дмитриевич слушал жену внимательно, не перебивал. Возразить ему было нечего и нечем.
–…Ну смотри, – только и сказал он тогда, на другой бок устало переворачиваясь и уснуть хоть чуть-чуть пытаясь. – Не пожалей потом.
– Да хватит тебе каркать-то, ворона! – пожалей, не пожалей! – грубо оборвала его Антонина Николаевна, от услышанного взвившаяся над подушкой, забывшая про чадушек спящих. – Думаешь, мне легко?! мне всё нравится, да?! У меня у самой душа не на месте: и хочется вроде – и колется!… Умом понимаю, что нужно ехать, – а сердце кровью обливается; болит так, что сил уже никаких нету. Он же сын мой, самый первый, самый желанный, самый любимый сын! кровиночка моя ненаглядная! Как я здесь без него останусь?! как одна буду жить?!…
Она не договорила до конца, не смогла договорить: голос её задрожал, возвысился, визгливо-плаксивым стал; потом, спохватившись будто бы, перешёл на шёпот… а потом и вовсе затих, будто умер. Горячие слёзы, так долго и упорно копившиеся в сердце матери, дружно брызнули из обоих глаз и невидимыми прозрачными струями потекли по ссохшемуся лицу, сопровождаемые тихим воем… Время от времени вой утихал, прерывался всхлипами, да ещё – ласковым шёпотом мужа, Вадикова отца, пытавшегося утешить сорвавшуюся жену, безмерно за последний месяц уставшую…
20
В предпоследний день августа, ранним утром, отец и сын Стебловы вдвоём уезжали в Москву – устраиваться в интернат на учёбу. Отъезд проходил тяжело, утомительно для обоих, как, в целом, и для семьи. Были бессонная ночь и нервозность сборов, слёзы прощания на вокзале, истерика матери, и была изматывающая шестичасовая поездка на пригородном дизель-электропоезде, как всегда переполненном, грязном и душном.
Потом была Москва – многомиллионный красавец-город, Павелецкий вокзал и метро с подземными мраморными дворцами, ни один из которых не был похож на другой, выходящая наружу Филёвская голубая линия, открывавшая приезжим гражданам отличную панораму столицы. Здесь было на что посмотреть провинциальному пятнадцатилетнему пареньку, было отчего закатить глаза и широко рот разинуть.
Кунцево, куда, согласно инструкции, нужно было ехать Стебловым, поразило меньше. И уж совсем расстроило обоих Давыдково, новый микрорайон на западе Москвы, пятиэтажками густо застроенный, где на Кременчугской улице интернат непосредственно и располагался. Недавно присоединённое к мегаполису, Давыдково всё ещё оставалось деревней по сути, куда не добрался столичный дух, где им ещё и не пахло.
Сам интернат и вовсе поверг в ужас Вадика. Он-то, чудак, надеялся увидеть в мечтах домашних некий величественный мраморный дом, в зелени садов утопающий, находящийся если и не на территории МГУ, то где-нибудь совсем рядом, в выгодном с Университетом соседстве. А увидел ещё из автобуса заросший бурьяном пустырь – недавнюю подмосковную свалку – с железобетонной белой коробкой посередине, какие во множестве возводились тогда по стране, от которых уже тошнило. Прежняя-то школа Стеблова сталинской монументальной постройки – с садом собственным и цветником, с изумительной берёзовой рощей под окнами классов, весной и летом обильно наполненной трелями певчих птиц, – которую он променял на Москву, которую так быстро и легко оставил, была несравнимо богаче и красивей интерната. Про это нечего даже и говорить! Как и архитектура сталинской героической эпохи многократно превосходила, в целом, архитектуру хрущёвскую – убогую и уродливую по сути, – которую и архитектурой-то было назвать нельзя, которая являла собой издевательство и пародию.
Ужас увиденного не сглаживал и Университет, который хорошо просматривался с пустыря, но до которого было километров шесть по прямой и который отделялся от интерната огромных размеров оврагом, хвойным лесов поросшим, на дне которого протекала крохотная речка Сетунь, мелководная, узкая, загаженная уже и тогда, неказистая и невзрачная… Напрямки до Университета поэтому добраться было нельзя: желающим туда попасть с Кременчугской улицы нужно было ехать объездным путём на двух городских автобусах…
Увиденное убожество предполагаемого местожительства и учёбы поразило Вадика пренеприятно, настроение почти до нуля опустило, которое тихо портилось и без того осознанием скорой с отцом разлуки.
«Куда я, бедный, попал! в какую дыру захолустную! Да наш город в тысячу раз лучше! И красивей!» – растерянно подумал он, на остановке по сторонам дико глазами зыркая, пытаясь хоть что-то привлекательное в Давыдково отыскать, хоть на чём-то себя развеселить-успокоить.
Но по дороге к школе он, как на грех, только пустырь да злополучную свалку видел, да школьный глухой бетонный забор, что бодрости ему, естественно, не прибавляли.
«Колючей проволоки разве что не хватает, – так и хотелось ему вслух пошутить, – да сторожевых собак… да тюремных вышек по углам – с автоматчиками».
Тоскливо делалось ему, мечтателю, на новом месте – одиноко, неприветливо, неуютно. Не то хотелось увидеть в конце тяжеленой поездки, не туда попасть, не в таком «медвежьем углу» учиться. В Давыдково ему не нравилось – совсем-совсем, – где его всё коробило и угнетало…
От его первых восторженных впечатлений в Москве не оставалось уже и следа, и их благодарное место скорёхонько занимали другие – прямо противоположные! – чувства. Тихая безадресная обида змеёй гремучей заползала в душу, в трепещущее сердце ребяческое, потихонечку вытягивая из сердца кровь, ядом своим смертоносным всё внутри отравляя. На что обида? – спросите. Да на всё! И в первую очередь, конечно же, на несоответствие того, что встретили они здесь с отцом, тому, что хотелось встретить, что заочно в письме обещали заслуженные академики и профессора, и на что одержимо он себя полгода настраивал, о чём мечтал до одури в родном дому, пламенно и подолгу грезил.
А теперь получалось как в анекдоте известном: толи они ему сознательно лгали, выдавая желаемое за действительное, толи он их, дурила, не так понял – да только остался он с носом, в итоге, и с “пустым кошельком”. И концов уж не сыскать теперь, не найти ни крайнего, ни виноватого…
Совсем добил его тогда отец, сказавший на порожках учебного корпуса с грустью: «Глухомань какая-то, а не Москва!… Да-а-а! не такой я себе представлял, сынок, твою новую элитную школу».
«И я её не такой представлял», – хотелось было в сердцах ответить Вадику… Но он не ответил отцу – смолчал, досаду великую глубоко в сердце пряча…
В районе пятнадцати часов переступили Стебловы порог интерната, что холодно и неприветливо встретил их, как людей посторонних, ненужных. Так, во всяком случае, показалось обоим, так они, уже и на подходе расстроенные, решили про себя.
В просторном, цветами украшенном вестибюле было много народа, как взрослых, так и детей – будущих товарищей Вадика, приехавших в интернат раньше них, уладивших все дела с оформлением и теперь с родителями прощавшихся, что напоследок пытались чадушек своих приласкать, напутствовать и утешить, словом любящим приободрить. Отчего гул на входе как на вокзале стоял или в гастрономе столичном. Вся плотная людская масса была разбита на группы; в центре каждой группы находился ребёнок, мальчик или девочка, новобранцы ФМШ.
Когда Стебловы вошли в вестибюль, находившиеся там люди повернули в их сторону головы, равнодушно посмотрели на новеньких и также равнодушно отвернулись потом, разговоры свои продолжив. Многие родители, как заметил Вадик, приехали провожать детишек вдвоём, отчего в коридоре было много женщин…
– Ну что: куда нам с тобой идти-то? – остановившись в дверях как вкопанный, сказал тогда старший Стеблов, головой по сторонам вращая. По лицу его серому, “мёртвому”, и движениям нервным было заметно, что он здорово волновался, трусил даже, каким Вадик совсем не помнил его, с рождения не знал.
Справа от входа, в торце вестибюльном, за большим отполированным до блеска столом царственно восседала солидного вида блондинка сорокалетнего возраста, пышногрудая и широкоплечая – бой-баба, как про таких говорят, – которая по-хозяйски уверенно наблюдала за происходящим, контролировала обстановку вокруг.
– Может, пойти у неё спросить? – кивнул отец в её сторону, и Стебловы молча, не сговариваясь, направились к той женщине.
Подойдя к столу, они поздоровались робко и первым делом достали и предъявили сразу же присланное две недели назад письмо с приглашением на учёбу: вот, мол, главный наш документ, мы, мол, не самозванцы и не проходимцы – мы право имеем. Скучающая без дела женщина, зевая, бесстрастно прочла на конверте фамилию адресата, улыбнулась дежурно, лениво, раскрыла лежавший перед ней журнал.
– Стебло-о-в Ва-а-дик, – нараспев сказала она, покопавшись в журнале. – Есть у нас такой ученик. Здравствуйте ещё раз! С прибытием вас в Москву на новое место учёбы.
Она представилась комендантом школы и рассказала, без конца позёвывая при этом, ладошкой прикрывая рот, что учиться Вадик будет теперь в девятом “Б” классе; что класс этот находится на втором этаже учебного корпуса – того самого, в котором они трое тогда беседовали, – и что занятия в школе начнутся первого сентября ровно в девять часов утра: традиционные для всей страны день и время. Далее, она назвала фамилию, имя и отчество классного руководителя 9 “Б”, которые Вадик в горячке, естественно, не запомнил, и сообщила про собрание, которое вечером должен будет провести директор школы для новобранцев, про обязательное присутствие на нём. И только после этого она направила Стебловых в один из двух корпусов общежития, расположенных позади школьного здания и соединённых с ним длиннющим стеклянным переходом, хорошо отапливаемым и убранным, по которому можно было ходить, не одеваясь, на уроки и обратно даже и зимой.
– Идите, занимайте койку и располагайтесь там, – сказала она. – В комнате Вас встретит ваш воспитатель, выдаст Вам постельное бельё и всё поподробнее объяснит – про существующие там у нас порядки, – сказала она уже непосредственно Вадику, после чего взглянула на его отца. – А Вам, папаша, – сказала она ему, оценивающе отца с головы и до ног окидывая, – Вам, после того как проводите сына, нужно будет сразу же возвращаться домой. Общежитие у нас маленькое, свободных мест нет, и дисциплина проживания строгая! – так что поторопитесь с отъездом… Не забывайте, кстати, высылать нам сюда, на наш банковский счёт, который мы Вам в письме указали, ежемесячную плату за учёбу, – напомнила она напоследок. – Потому как Ваш сын с этого момента поступает под полную нашу опеку. Здесь теперь будет и дом его, и семья, и новые братья-товарищи. Помните там у себя об этом…
Последние слова женщины-коменданта заставили содрогнуться Стебловых, сердцами и душами сжаться обоих как от мороза лютого. Подошло время, поняли они, расставаться и им, и им испить до дна ту горькую чашу разлуки, что ядом невыносимо-горьким уже отравила утром их быстро осиротевший дом вместе с оставшимися там насельниками.
Бледные и растерянные до крайности заходили отец с сыном в стеклянный переход; молча, ни разу не взглянув друг на друга, дошли до нужного корпуса, поднялись там на второй этаж, где в самом конце коридора, возле туалетов и душевых кабин, располагалась указанная им администраторшей 201 комната, в которой их дожидалась койка… и воспитательница мужеподобная и крашенная, долженствующая, по идее, Вадику мать заменить. С восьмичасовым опозданием разлука твёрдой поступью вплотную подступала уже и к ним, крылья совиные, грозные над головой распускала. Стебловы готовились к ней, как могли, – но чувствовали, что не справятся, что сил не хватит…
Настроение катастрофически портилось у обоих, обоим становилось невмоготу. Положение усугубляли казённая обстановка, незнакомые люди повсюду – и школа новая, железобетонная, невзрачная и типовая, прежней, оставленной, не чета.
Но даже и более этого покоробило их само общежитие-“муравейник”, которое почему-то совсем не понравилось Стебловым; особенно – Вадику, которому в нём нужно было остаться и целых два года жить. Всё там было хотя и чисто, и ново, но как-то уж очень серо и бедно, и как в солдатской казарме – просто: без поэзии творческой и красоты, о которых до одури мечталось дома, к которым одним и рвалось в Москву его разбуженное сладкими грёзами сердце. Даже картин и портретов учёных не было видно на стенах, хоть каких-нибудь самых простых и дешёвых эстампов, ковровых дорожек поверх линолеума, цветов, которые бы оживили и украсили переходы и коридоры, суровой казёнщины лишили их, приблизили к уюту домашнему и обстановке. А так, скорее даже больницу напоминала сия интернатовская общага, палаты лечебные вдоль коридоров, что призваны были спасать и приводить в чувства попавших в беду людей, лишённых памяти и сознания, – чем место, способное воодушевить и окрылить малолетних, на высокую волну их настроить…
В коридоре общежития была ещё большая сутолока и суета, чем в вестибюле школьном. По всему его узкому свежевыкрашенному пространству беспрерывно сновали взад и вперёд возбуждённо-растерянные родители, перетаскивавшие притихшим детям казённое постельное бельё из кладовок, матрацы и всё остальное, положенное по уставу. Отчего в коридоре было тесно, шумно и душно, много лишних людей и вещей. И такая же тягостная удручающая атмосфера царила вокруг, как и минуту назад на входе, от которой нельзя было спрятаться и убежать… и терпеть которую уже не было мочи…
Поднявшиеся на этаж Стебловы, испуганно озираясь, прошли по коридору в самый его конец, остановились перед крайней дверью.
– Ну вот, кажется, и твоя комната, – сухо сказал отец, поворачиваясь к сыну лицом безжизненным. – Пошли что ли?
–…Пошли, – равнодушно выговорил сын, не узнавший своего тонкого голоса…
Осторожно отворив дверь, Стебловы очутились на пороге большой светлой комнаты в два окна, сплошь заставленной железными пружинными кроватями, на которых, глубоко прогнув их, по двое, а то и по трое сидели всё те же родители с детьми с кислыми физиономиями, казалось, заполнившие в тот день всю университетскую школу, каждую койку её и угол. Посередине комнаты стоял большой круглый стол из тёмного морёного дуба, покрытый льняной серой скатертью, боком к которому восседала, вальяжно развалившись на стуле, пожилая крупная женщина с высоким начёсом крашеных хной волос на голове – хищного вида, хваткая и горластая. В ту минуту она о чём-то громко рассказывала присутствующим, как заправский дирижёр энергично жестикулируя при этом холёными руками, перстнями и браслетом украшенными, дорогим маникюром.
– Здравствуйте, – робко поздоровался с ней Сергей Дмитриевич, попытавшийся было улыбнуться из вежливости. Но улыбаться ему не хотелось, совсем, и лицо его, ввиду этого, сделалось глупым и простоватым, каким в жизни он, конечно же, не был и что не шло ему.
– Добрый день! – прервав свой рассказ, по-хозяйски громко и уверенно ответила сидевшая за столом женщина, уставившись на вошедших прищуренным взглядом – цепким, холодным, жёстким до крайности и волевым, каким смотрят в милиции или судах на задержанных нарушителей, – и добавила после этого, заметив выглянувшего из-за отцовской спины Вадика: – Это, похоже, ещё один наш воспитанник пожаловал, последний. Проходите, проходите смелее – и рассказывайте: кто вы и откуда приехали.
Получив разрешение, отец с сыном робко зашли в комнату, поставили вещи на пол, поздоровались ещё раз – уже со всеми, – после чего отец торопливо положил на стол перед пригласившей его дамой присланное письмо, которое он, как пропуск самый надёжный, всё время держал наготове.
–…Всё понятно, – быстро пробежав глазами конверт с фамилией приглашённого, сказала та. – Есть такой ученик в моих списках. Проходи, Вадик, занимай свою койку – вон ту, в углу, – и давай присоединяйся к беседе. Поговорим сначала с тобой, познакомимся, а потом за постельным бельём пойдём.
Подождав, пока вновь прибывшие расположатся на указанном месте, пока усядутся там и на неё уставятся, она с удовольствием повторила им после этого то, что уже начала было рассказывать другим, а именно: что является воспитателем в этой школе, что в обязанности её входит надзор за порядками на этаже, а также за всеми теми бытовыми проблемами, которые неизбежно будут возникать у приехавших в интернат парней в процессе двухгодичного их здесь пребывания.
– Полномочия у меня большие: я – и комендант, и воспитатель, и адвокат, и прокурор, – грубо засмеялась женщина, к родителям, главным образом, обращаясь, при этом зубы свои жёлтые обнажив, среди которых отчётливо были видны золотые. – Так что буду детишкам вашим за мать и за отца, и за бабушку и за дедушку одновременно – без внимания и надзора никого не оставлю, хулиганить и баловаться не дам… За ребят своих можете не волноваться, – отсмеявшись, продолжила она, – все они будут здесь в целости и сохранности: это я вам гарантирую. Я ведь раньше-то в детском доме работала: здесь, недалеко, под Москвой; теперь вот сюда перешла. Так что опыт работы с детьми у меня имеется. И, надо сказать, не маленький…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































