Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
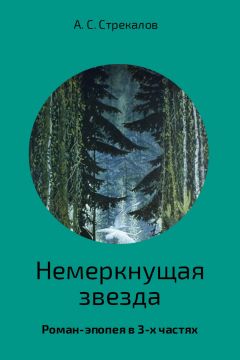
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Так вот, была среди этих пяти вундеркиндов и Галя Дерябкина – смуглая, плотная, пышноволосая красавица из Ростовской области, умница, каких поискать, добрейшая, светлейшая и нежнейшая душа, чистый ангел. Она набрала на Всесоюзной олимпиаде для восьмиклассников максимально-возможное количество баллов, пятьдесят, стала её абсолютной победительницей. Ну и пожелала, после сделанного ей прямо на награждении предложения, продолжить учёбу в Москве, в колмогоровском специнтернате, где её распределили в 9 “Б” класс, класс Вадика, который она своим двухлетним присутствием прославила на всю школу, учебные показатели которого высоко подняла.
В эту замечательную, божественно-прекрасную девушку Вадик влюбился сразу же – в первый день, как только её на уроках увидел, – настолько она собой была хороша и сочна, настолько для постороннего глаза привлекательна и аппетитна; как, к слову сказать, и большинство южанок, что возле самого моря под солнцем выросли! Только Дерябкина ещё и умна была, “тонка”, скромна, благородна! Была приветлива и добра со всеми, подчёркнуто-вежлива и воспитана! Да ещё и одевалась со вкусом, имея небедных родителей, у которых он бала единственная дочь… Поэтому-то сложно было парням-одноклассникам выстоять и не влюбиться в такую, все уроки подряд с восторгом на неё не смотреть! Для этого надо было гнидою уродиться, полным душевным уродцем.
Дерябкина, надо сказать, покоряла и будоражила не только парней-одноклассников своей неподражаемой, неземной красотой, что было делом естественным и понятным для молодых, на красоту и любовь падких, но и видавших виды учителей – людей достаточно амбициозных и самолюбивых, людей учёных, что немаловажно, зацикленных на самих себе, на своей особости и исключительности. И они откровенно заглядывались на неё, и они, ловеласы старые, на уроках слюньки вожделенно пускали и тайно сохли по ней.
Но, помимо внешнего вида, действительно царского и бесподобного, она покоряла их – преподавателей математики и физики, в первую очередь, – умом своим, острым и ясным, блистательной эрудицией; но, главное, конечно же, – своей поистине феноменальной способностью угадывать верные пути к решению практически любых задач, даже самых запутанных и головоломных.
Задачи она решала все, или почти все – из тех, что предлагались на уроках. И Гордиевский с Мишулиным, да даже и высокомерный Гринберг, не лицемеря и не таясь, ловили каждое произнесённое ею слово, внимательно прислушивались к ней, к её тихому, ласкающему уши голосу, когда Галина поднималась отвечать с места, или же, не торопясь, выходила к доске. Стеблову всегда казалось в такие минуты, никак он не мог отделаться от ощущения, что предлагавшиеся ею решения были неожиданны и новы даже и для учителей. Были и для них, умудрённых и просвещённых, чрезвычайно важны, полезны и поучительны – настолько внимательно и заинтересованно преподаватели всегда её у доски выслушивали, так напрягались и замирали дружно.
Восторженно рассматривая выступавшую на уроках Галю, ежедневно любуясь ею, обожествляя её, как от солнца весеннего от её красоты жмурясь, Вадик постоянно и помимо воли сравнивал эту смуглую, ладную, крепко-сбитую девочку, с которой ему выпала честь и великое счастье вместе учиться, которую довелось близко знать, с далёкой предшественницей, Ковалевской Софией Васильевной. Сравнивал – и всё силился для себя угадать: а начинала ли последняя так же ярко и рано свою карьеру научную? показывала ли в пятнадцать лет такие же блистательные результаты?
Одно здесь можно было сказать с уверенностью: что Дерябкина приехала учиться в Москву, в интернат колмогоровский, имея редкий, уникальный по качеству своему талант, которому уже и тогда по силам были, наверное, самые что ни на есть серьёзные и самые масштабные задачи – как прикладного, так и сугубо теоретического характера. Бери его, казалось бы, этот её чарующий Божий дар, её фантастические математические способности – как берёт умелец-гравёр в свои чуткие руки по случаю найденный где-то алмаз, нуждающийся в минимальной доводке, – и “шлифуй” потом, “доводи”, делай положенную “огранку”. И получай “бриллиант” невиданной красоты, ослепительной чистоты и света. И удивляй потом этим светом мир. И сам ходи, удивляйся.
“Интернатовские гравёры”, однако ж, попались никчёмные на удивление, ужасно бездарные и никудышные. Оттого и загубили они, дармоеды, Богом дарованную находку, тупо её испоганили и испортили. Так, уже через год, поехав “на Союз” вне конкурса как прошлогодняя абсолютная победительница, да ещё и воспитанницей колмогоровской спецшколы, Дерябкина смогла там только лишь диплом II степени получить; понимай: опустилась против прежних своих показателей на целую ступеньку вниз. А в десятом классе она и вовсе не попала на главную олимпиады страны, потому что не смогла победить на предварительной Московской математической олимпиаде.
Получилась парадоксальная ситуация, согласитесь, читатель, – как ни крути и ни объясняй, и ни ищи виноватого! Получалось, что эта чудная милая девочка даже и в Москве уже не смогла победить тех, кого когда-то с лёгкостью в масштабах всей страны побеждала. Что можно было объяснить только её усталостью катастрофической и полной к олимпиаде неподготовленностью: талант-то Божий остался при ней и никуда не делся.
Такая же точно безрадостная картина наблюдалась в девятом “Б” и с другими участниками и победителями олимпиад: и их ожидала, как правило, подобная же горькая участь. Все они, за редким и редким исключением, проучившись в интернате год или два, заметно снижали прежние победные показатели и возвращались в школу с “Союза” ни с чем – с одними лишь железнодорожными билетами в кармане. Дипломов и почётных отзывов, во всяком случае, у большинства из них уже и в помине не было.
Интернатовцы, к слову, даже и воспитанникам 2-ой столичной элитной спецшколы на памяти Вадика регулярно математические бои проигрывали! Что уж говорить про бои масштабные, Всесоюзные или Московские.
Забегая вперёд, скажем, что они и в Университете потом, на мехмат поступив после школы, научной погоды не делали и ничем особенно не выделялись там, громкой памяти по себе не оставили. За очень и очень редким исключением, опять-таки, что в расчёт не берётся. Блистали в Университете ярко и долго те молодые люди как раз, кто в интернате колмогоровском не учился, кого миновала “счастливая” участь сия, кто хлеб интернатовский не покушал. Походив сначала в студентах пять лет, потом – в аспирантах три года, все они, счастливые неинтернатовцы, выглядели бодрыми и энергичными на зависть, и необычайно жадными до знаний новых и книг, до почестей, доблести, славы.
Чего не сказать уже было о колмогоровских выпускниках – усталых, измученных, измождённых как правило, затухавших к пятому курсу совсем, или еле-еле “коптивших”; в почерневших глазах которых уже не кипела жизнь, не проглядывала жажда борьбы кровавой, без которой в науке ничего добиться нельзя – как, впрочем, и в любом другом деле.
Не засияли громкие некогда имена многочисленных интернатовских выпускников на небосводе советской перворазрядной науки. Не дал России пансион Колмогорова новых Жуковских и Грибоедовых, Тютчевых и Лермонтовых, – даже и куда более скромных деятелей не дал.
Это обстоятельство и является по сути главной характеристикой его, объективной и самой верной оценкой…
24
Невысокий процент попадания интернатовцев в Университет – когда Вадик впервые услышал о нём в феврале месяце из задушевных на вечере-встрече с выпускниками школы бесед, – помнится, расстроил его несказанно, до крайности обнажив и обострив возникшие у него на новом месте проблемы, сделав бессонной наступившую после праздничного вечера ночь, бессонной и беспокойной. Блуждавшие в нём беспорядочно мысли были тогда так дерзки, крамольны и разрушительны одновременно, что Вадик, пугаясь их, всеми силами гнал эти мысли прочь: на задворки растревоженного сознания, – чтобы не бередили они, паразитки, душу ему, не отнимали последние силы, спать не мешали.
Если же кто-то попытался бы всё-таки те его мысли собрать и потом вытащить их на свет Божий, – то картина в общих чертах вышла бы следующей.
«Это что же такое получается-то, а? – змеёй подколодной, гремучей, крутился внутри метавшегося на постели Стеблова главный поганец-вопрос, навеянный прошедшими с выпускниками-студентами разговорами. – Разъезжают по России-матушке каждый год посланцы колмогоровской школы, университетские аспиранты в основном, и набирают сюда со всех её уголков доверчивых и талантливых, способных к математике парней и девчат (не всех, слава Богу, далеко не всех; вот Ольга Чаплыгина, например, успешно поступив в интернат даже и без летней школы, в Москву, тем не менее, не поехала, отказалась), которые, за редким исключением, и так бы с гарантией на мехмат поступили, останься они заканчивать десятилетку дома… А их ежегодно приглашают сюда, дурачков-простачков малахольных, заманивают в Москву диковинными посулами, обещают золотые горы здесь, кренделя столичные, манну небесную, а потом… потом бросают на произвол Судьбы как отработанный и ненужный хлам, предварительно ещё и обобрав до нитки, с родителей их последние гроши вытянув себе на бутерброд с колбасой. Молодцы, хорошо устроились здешние преподаватели, не правда ли?!…»
«Вот учат вас тут два года, учат, якобы готовят к чему-то: к большой науке, вроде бы, на словах, – не отставал от первого и другой вопрос, не менее ядовитый и гадкий. – А потом, оказывается, основная масса вас, чудаков провинциальных, наивных, со свистом пролетает мимо Университета, как пролетают мимо него каждый год голодные весенние воробьи или попрошайки-голуби те же. Хороша же она, эта их интернатовская учёба! – нечего сказать! Очень “ценная” и “полезная”!… Двадцать процентов поступают только, одна пятая часть! – шесть человек с каждого класса! Ужас! Ужас!… А остальные-то куда деваются – большая часть?! Куда деваются их способности прежние?! к математике, к решению задачек талант?!… В интернате остаются, что ли?! – академику Колмогорову на память?!…»
«Хренотень какая-то получается, честное слово! Дурдом настоящий, или пошлая надуваловка и обираловка! Согласись, Вадик, родной, не упрямься, посмотри правде в глаза, имей мужество?! – настырно и мощно наступая на пятки, спешил на смену вопрос под номером три. – Получается, что Колмогоров этот свою школу премудрую основал, заставил учиться здесь всех по университетским курсам, на школьные курсы наплевав, выбросив их на помойку по сути, а студентами стать своим ученикам совсем не помогает! – останавливается на полпути! Странно это, не правда ли, ну согласись, сделай милость?!… Он ведь даже и к москвичам вас, интернатовцев, приравнять не хочет, сделать, казалось бы, сущий пустяк, но который, тем не менее, здорово облегчил бы вам всем поступление на мехмат. Это же всё очевидно! Но он почему-то упрямица и не предпринимает этого? А по какой причине?! – непонятно! Со стороны это, однако, глупо выглядит, глупо и безответственно! Если большего не сказать, совсем уж для него горького и обидного…»
И – так далее, далее, далее. И всё в таком же, очень опасном и конфронтационном духе возникали вопросы внутри, ответов на которые у Стеблова не находилось ни сразу, ни потом; даже и приблизительных.
Вопросы и мысли подобные были и впрямь крамольными – что и говорить! Не зря наш герой не спавший так отчаянно страшился их, и так усердно гнал от себя как можно скорей и дальше. Ведь по ним выходило, как ни крути, что интернат колмогоровский в будущем не только не приблизит его к заветной цели, поступлению на мехмат, а наоборот – удалит от неё! Что он, интернат, на пути к этой цели – помеха! обуза лишняя, которых и без того не счесть! которые замучаешься ещё преодолевать-перескакивать! Вот ведь что выходило в итоге! до чего додумывалась уже его разгорячённая голова!… А с мыслями такими, конечно же, продолжать учёбу было нельзя: думая так, нужно было домой поскорей собираться…
После задушевных бесед с выпускниками школы, с некоторыми из которых Вадик, как уже было сказано, успел даже близко сойтись, он уже по-другому, реально, начал смотреть и на свою новую школу, и на учителей московских, чудаковатых, каждодневные чудачества и непрофессионализм которых ближе к весне стали уже коробить его, раздражать. Ему скучно, противно уже становилось с ними: он клоунов, дураков и шутов, пустозвонов и дилетантов бездарных с малолетства не переносил; как не переносил он и маскарадов, спектаклей народных, гуляний, радужных мыльных опер и пузырей…
Рушились, рушились идеалы в душе Стеблова, которые он так старательно и так самозабвенно в родном дому возводил, растворялись и исчезали с глаз долой столичные воздушные миражи и замки… А ведь ещё совсем недавно они казались ему единственным счастьем, единственным смыслом земным, ради которых только и стоило учиться и жить, нести тяжелейшее и утомительнейшее земное бремя.
Двадцать процентов поступавших на мехмат интернатовцев перечёркивали в его глазах всё! Перечёркивали саму идею создания школы как кузнецы будущих научных кадров, как, наконец, главного поставщика Университету талантливых молодых ребят – тех “драгоценных плодоносных семян”, без которых, по прозорливому завещанию М.В.Ломоносова, теряла смысл и сама университетская благодатная почва…
25
В середине весны, с апреля-месяца начиная, с Вадиком приключилась другая беда: он затосковал по дому! Да так сильно, остро и нестерпимо до боли, и не периодами, как раньше, а постоянно, что впору было бросать всё в Москве к лешему и, не раздумывая ни секунды, не медля, мчаться на родину со всех ног – чтобы духом её святым подышать, душою, сердцем, щекою к ней прикоснуться. Уснуть, успокоиться и утихнуть чтобы в родных местах. И, успокоенному и притихшему, сердцем уставшим возрадоваться…
До этого было не так – до этого было терпимее. До этого он всё время был занят в Москве: о чём-то великом и светлом ещё ходил и мечтал, что-то пытался сделать успеть, прочитать, понять и узнать, к чему-то без конца стремился.
А потом он страшно устал – предельно и катастрофически. От многочисленных товарищей, в первую очередь, которые окружали его целый день плотной шумливой массой, крутились и галдели рядом как куры глупые, непоседливые, с разными глупостями приставали, отвлекали от дел. Устал от спорта, от школьных занятий тяжких, от равнодушных воспитателей и учителей – от всего того, одним словом, что ежедневно и ежечасно окружало его в интернате, составляло учёбу, быт и досуг его, его тамошнюю социальную атмосферу. У него, элементарно, уже не хватало на друзей и учёбу сил – ни физических, ни морально-волевых, ни душевных. Слабоват оказался Вадик для бурной жизни такой, им же самим год назад и выбранной, молод, неразвит, нескор и недюж. Это ему приходилось признавать честно…
Вот тут-то тоска по дому и родине и набросилась на него, ослабевшего, разошлась не на шутку, паскудина, распушила “павлиньи перья” свои. И, не пуганная и не сдерживаемая уже ничем, скрутила Вадика без проблем, сделалась в сердце его весной полновластной и крепкой хозяйкой…
Не зря же ведь говорится – проверено это жизнью не раз, – что победы окрыляют и укрепляют, а неудачи к земле низко гнут; победы делают человека “стальным”, неудачи – безвольным нытиком, плаксой. Ни плаксой, ни нытиком Стеблов на новом месте не стал: наговаривать на него не будем, – но к жизни столичной, вольной вкус утерял совсем, окончательно и бесповоротно, и в свою полную противоположность там превратился. Дёрганым и легковозбудимым сделался во второй половине учебного года, неуверенным, нервным и суетным, маленьким, некрасивым и неработоспособным.
И если недельные осенние каникулы пролетели достаточно легко и безболезненно для него. И он, отгуляв и отоспавшись на родине, с удовольствием поехал опять в Москву – продолжать там дальше учиться и осваиваться в новой школе. То зимой на отдыхе у него уже начались проблемы, с которыми справиться до конца он так тогда и не смог, которые чёрной сажей окутали и испачкали душу.
Только неделю из положенных двух он тогда полноценно отдыхал и отъедался дома, одну неделю всего крепко и глубоко спал, был бодр и ласков со всеми, улыбчив, вежлив и доброжелателен. Вторую же половину каникул сон упорно бежал от него этаким шустрым зайцем. И он поднимался с кровати чёрным, уставшим, разбитым ближе к обеду, больным; неразговорчивым, неласковым и для родных недоступным, к которому им страшно было и приближаться, не то что разговор завести.
Он слонялся по квартире и парку бесцельно и нервно, без удовольствия, – и ловил себя постоянно на мысли, что предстоящий отъезд в Москву уже не радует его, не бодрит, надежд на светлое будущее не вселяет. Не хочется уже ему совсем, по правде сказать, менять родительский домашний уют, тепло и добросердечные отношения на казённые постель и еду, на приятельские поверхностные связи; не хочется расставаться с домом, семьёй, с милой и кроткой родиной… И в новую школу ходить ему также уже не хочется – это факт: как ни обманывай всех и себя, ни скрывай; не хочется мучить свой организм предлагавшимися там спартанскими бытовыми условиями и программами…
Весенние короткие каникулы и вовсе превратились для него в испытание, что с душевной пыткой вполне можно было сравнить. Он уснул тогда по-настоящему крепко только в первую дома ночь, вымотавшись восьмичасовым переездом. Остальные же ночи напролёт он изнурительной бессонницей мучился; а если и засыпал, то исключительно по-стариковски – минут на двадцать, на тридцать; после чего тяжело просыпался опять и начинал отчаянно охать и на постели юлой крутиться, безуспешно выискивая себе на ней удобного прохладного места.
Но удобно ему в этот раз на родительской койке не было. Потому как стенало всё у него внутри, болело, просило о помощи и поддержке; как и ласки просило, любви. Ему так хотелось тогда, весенними ночами бессонными, когда сознание было по-максимуму воспалено, и на душе становилось особенно тяжко и тошно, и нечем было отвлечься от боли, выключиться, переждать, отдохнуть, – ему очень хотелось встать и с родителями переговорить, отдыхавшими в соседней комнате. И без утайки всё им про себя рассказать – всю свою московскую суровую правду жизни, что под корень его изводила там, на чужбине, прямо-таки поедом ела, решившись его, вероятно, совсем добить.
Если б только родители проснулись и подошли, и сами спросили бы сына: в чём дело? почему ты не спишь, сынок? почему ворочаешься без конца и так нервно и тяжело вздыхаешь? – Вадик не выдержал бы, наверное, расплакался и рассказал им всё. Про то, что плохо ему, тоскливо и муторно на новом месте! Ошибся он год назад, глупость совершил большую, самовольно уехав в Москву – на учёбу грёбаную!… Рыдая, он поведал бы им, вероятно, что разочаровался в спецшколе, и у него ничего не ладится, не получается там; что с каждым днём положение его в ней делается всё хуже, двусмысленнее и напряжённее. А главное, что у него давно уже возникают проблемы там не только с английским каким-нибудь или химией, которые пережить было б можно, но даже и с математикой самой, на которую в будущем он ставку сделал.
А ещё бы он поведал родителям как на духу, что он никому не нужен в Москве: ни воспитателям, ни администрации, ни педагогам классным, – что за ними там никто совсем не следит, что они в интернате фактически безнадзорны: мало отдыхают, мало спят и едят. Ему холодно, голодно и одиноко там, у него нет там совсем друзей: не нашёл он себе в новой школе за целый год ни единого близкого человека! Он бы сказал родителям под конец, что очень ему не хочется возвращаться назад в интернат: тянуть там непосильную лямку, – что для него возвращение туда – прямо-таки нож острый!…
Но родители не проснулись и не поинтересовались, и разговора сердечного, откровенного, на эту тему ни разу не завели. Потому что боялись, наверное, “разворошить улей”, чувствуя, к чему дело идёт… А самому подниматься и их среди ночи будить, а потом расстраивать обоих перед работой тяжёлой душещипательными разговорами было выше сил и выше тогдашних его душевных болей. Да и стыдно было ему, по правде сказать, в ошибках и слабостях сознаваться…
Можно только догадываться поэтому, как он прожил в таком состоянии пять домашних дней и ночей, чего ему, горемычному, стоило не сорваться и не устроить истерики и переполоха… И совсем уж чудно, неправдоподобно даже, как сумел он, юнец, выдержать по вечерам пристальные взгляды матери, пронизывавшие его до костей и пытавшиеся выудить из него всё – все его душевные тайны и муки. Как потом, придя на вокзал в воскресенье утром, сумел, опять-таки, сдержать себя и не пнуть ногой, не зашвырнуть в кусты к чёртовой бабушке тяжеленную свою сумку, битком набитую книгами и журналами, которые он, по детской глупости и наивности, всё время на каникулах возил с собой, мечтая ещё почитать, поработать дома. Как, наконец, при виде подходящего к перрону поезда, сдюжил – не закричал истошно, не разрыдался при всех и не побежал домой, куда ему убежать хотелось, а, наоборот, – полез в вагон послушно и на прощание озорно помахал всем рукой, а сестрёнке через окно даже и глупую рожицу состроил… Доподлинно об этом первом душевном подвиге знает только он сам и его так рано повзрослевшее и посуровевшее сердце, чужбиной опалённое и закалённое, с малолетства лишённое сентиментальности; да ещё спортивный характер его и воля, не желавшие и не позволявшие ни при каких условиях Вадику тряпкой быть, хлюпиком-размазнёй презренным.
От себя здесь добавим лишь, время у читателя отбирая, что уезжал тогда Вадик в Москву в таком же приблизительно настроении, в каком покидают родные места люди, принудительно направляемые по приговору суда на долголетнюю, уже попробованную ими каторгу.
Москва не манила, как прежде, не казалась ему весной такой же желанной и привлекательной, как прошлой осенью. И виною тому, без сомнения, был интернат, где ужасно тоскливо и одиноко становилось Вадику с каждым днём; в котором он тесно и тяжело жил, мало отдыхал, плохо спал, в котором не наедался досыта…
С едой у него в Москве действительно были проблемы, выгодно решать которые на новом месте у него получалось плохо. Он и дома, по правде сказать, находясь под опекой родительской, частенько пропускал обеды с завтраками, питаясь в сухомятку по сути и набегу. Но зато уж по вечерам вернувшаяся с работы мать готовила им всем богатейший ужин: с картошкой, жареной на свином сале (родители Вадика, переехав в город, лет десять ещё водили свиней, которых привезли из деревни и без которых они вряд ли в городе выжили бы), с огурцами солёными, квашеной капустой. Этим ужином воистину царским дети её и муж наедались вволю, получая себе за столом все необходимые для жизни калории и компоненты: белки, жиры с углеводами, витамины. Разносолов в семье не было: не любила матушка у плиты возиться, всегда предпочитая деликатесам плотским пищу духовную, вечную. Но хлеба за ужином было много, были и яблоки мочёные раз от разу, и варенье всякое, и даже по праздникам мёд, что поставляла тётушка из деревни, державшая пасеку. И не испытывал Вадик на родине никогда ни малейшего чувства голода.
Ужины материнские шли на пользу всем, вся семья Стебловых на них как на дрожжах вырастала. Все были сытенькие, кругленькие да гладенькие, весёлые, добрые и счастливые…
В интернате же кормили не так, кормили совсем по-другому! Здесь подавались детям к столу всевозможные салаты и винегреты, супы, борщи, бульоны, котлеты с кашами, и даже компоты фруктовые с киселём, – но подавалось всё это в таких незначительных дозах, было так пусто и постно, совсем почти обезжирено, что уже через полчаса буквально по окончании завтрака, обеда или ужина очередного проворный, здоровый желудок Стеблова, в два счёта всё поглотив и переварив, начинал сосать: отчаянно себе новой еды требовать, новой работы.
Поначалу только-только приехавший из дома Вадик терпел такое регулярное утробное сосание и бурление стойко, боролся с голодом без труда: мальчиком он был сытым и крепеньким, сил у него в запасе было много ещё, что позволяло ему преспокойненько жить и учиться в Москве, и прекрасно себя там первое время чувствовать.
Но по прошествии пары месяцев, когда белково-витаминные запасы и накопленные дома “жирки” подошли к концу, на нескончаемой беготне и баловстве когда все сгорели, – терпеть желудочные голодные спазмы ему уже стало невмочь. Особенно после того, как в октябре-месяце он в Университет к Башлыкову начал ездить. Пустой желудок по вечерам уже не давал ему спокойно жить, не позволял полноценно работать: читать, писать и решать, заниматься делами школьными, сверх-напряжёнными.
И тогда до предела вымотавшийся, отощавший и исхудавший Стеблов, с голодухи смелым и злым становившийся, стал подходить всякий раз в столовой к раздаточному окну и, помня наказ Башлыкова, стал себе у поваров добавки просить, которую те своим кошкам и собакам таскали.
Повара не отказывали ему, накладывали мятой варёной картошки побольше, вермишели, макарон, пережжённой солянки – всего того, короче, что гарниром зовётся у них. И счастливый Вадик, довольный их щедростью, шагал с добавкой к своему столу и сметал её там одним махом.
Котлет и сыру ему не давали, не наливали никогда второй раз компоту, – но он и не просил на раздаче лишний компот, прекрасно ситуацию понимая. Нахальным и жадным он и голодный не был, и был доволен уже и гарниром, благодарил всем сердцем за него поваров, любил их всех за отзывчивость, за доброту, за человеческое понимание и великодушие…
На раздаче у них, как правило, симпатичная и круглолицая деваха стояла лет двадцати и килограммов под восемьдесят живым весом – холёная, сытая, гладкая как арбуз, в плечах широкая и похотливая, с красными, как астраханские помидоры, щёчками. Она всегда пристально и заинтересованно разглядывала Вадика во время ежедневных трапезных процедур – и чему-то загадочно улыбалась при этом.
Вадик тоже посматривал на неё с интересом – на телеса её гладко-розовые, сочные и упругие, в особенности, аппетитно выглядывавшие из-под полупрозрачного шёлкового халатика-маломерки, под которым не было ничего кроме узкого белого лифчика и трусиков кружевных, тоже подчёркнуто-узких, беленьких. И это особенно было заметно всем, остроглазых пареньков-интернатовцев это больше всего возбуждало.
Возбуждало это и Вадика, разумеется, которому всегда казалось в такие до одури сладкие и головокружительные минуты, когда соединялись их взгляды огненные в жаркий мысленный поцелуй, и вздрагивало и замирало сердечко юношеское от подобного неожиданного соединения, – ему казалось, чудилось неизменно, что симпатичен он чем-то стоявшей в окне поварихе, приглянулся, понравился ей. И при желании и старании с его стороны у них вполне могло бы что-то и получиться.
Всё это льстило Стеблову как мужику, было ему, голодному, только на руку. И он уже без стеснения стал бегать к краснощёкой красавице не только за гарниром пустым, но нет-нет да и осмеливался просить у неё на добавку даже и супу, который девушка, улыбаясь, грациозно ему наливала увесистой пухлой рукой, при этом ещё и грудь как бы нечаянно обнажая, словно бы ему на десерт, пониже перед ним в окне раздаточном нагибаясь…
Но однажды (за неделю до Нового года это произошло) им в столовой на завтрак варёно-копчёную колбасу давали, которую Вадик до этого только издали видел – за витриной столичного Новоарбатского гастронома, куда он по дороге из Дома книги на экскурсию несколько раз заходил, ассортиментом сказочным там любовался. Колбасу ту предпраздничную, помнится, ломтями тоненькими настрогали, божественно-вкусно выглядевшими со стороны, божественно пахнущими, положили россыпью на поднос. И каждый воспитанник, подходивший за кашей, должен был, как было объявлено во всеуслышание, взять себе ровно один кусок – не больше.
Стоя тогда в общей очереди и медленно, как казалось ему, нестерпимо медленно продвигаясь вперёд, к раздаче, опасаясь, что не успеет он, и всю колбасу разберут, голодный Вадик так жадно, помнится, пожирал глазами лежавший на подносе деликатес, так зачарованно глядел на копчёности, что у него даже пальчики на правой руке затряслись от волнения, а в животе пустом, растревоженном что-то вдруг задёргалось, засосало противно… И тут же громко потом заурчало при всех, будто бы он ничего несколько дней не кушал.
Он видел, не отрывая голодных глаз от подноса и мысленно силясь поднос целиком проглотить, подмечал для себя лихорадочно, запоминал, что повариха его любимая, озабоченная, сонно зевая и еле шевелясь за стойкой, сон с себя утренний всё пытаясь стряхнуть, ладошкой пухленькой глаза и рот зевающий без конца прикрывая, что повариха на колбасу почти не глядела: ей было не до неё в то утро. Отчего некоторые ловкачи из очереди, уличив момент, с лёгкостью зацепляли себе кто по два, а кто и по три кусочка. Подмечая все эти хитрости и уловки и, одновременно, о дружеских отношениях с молодой раздатчицей памятуя, голодный Вадик, подойдя к подносу, попытался нервно и неловко как-то – как плутишка низкого пошиба! или щипачь-стажёр! – нанизать и себе на вилку несколько драгоценных кусков и побыстрей их потом положить в тарелку; а для верности ещё и хлебом прикрыть, от посторонних глаз подальше… Но рука его правая, как назло, пуще прежнего задрожала, задёргалась в последний момент, не послушалась, вилку как следует не удержала. Куски колбасы, которые он в спешке выбрал и наколоть попытался, сопротивляясь, сорвались обратно в поднос; да ещё и разлетелись там во все стороны, так что их было уже не собрать. Нужно было подбирать и нанизывать новые… Краснея и волнуясь, Вадик повторил попытку несколько верхних кусков нанизать, но колбаса опять не послушалась дрожащей руки его, сорвалась… И, раздосадованный и обозлённый уже окончательно, он тогда в третий раз вилку в поднос направил…
В очереди из-за этого произошёл лёгкий сбой, привлёкший внимание молодухи-раздатчицы.
– Куда берёшь столько?! Положи на место! – развернувшись вполоборота и заметив всё, не задумываясь, как на врага, гаркнула она на Стеблова низким утробным голосом, который Вадик услышал тогда первый раз и который неприятно поразил его своей суровой грубостью, личику её миловидному не соответствовавшей совсем.
Он вздрогнул от неожиданности, залился краской стыда вперемешку с досадой, засуетился в очереди волчком, испуганно всем телом дёрнулся… И вилка выпала из его рук, слетела со звоном на пол, что только усилило переполох, увеличило толкотню у раздачи.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































