Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
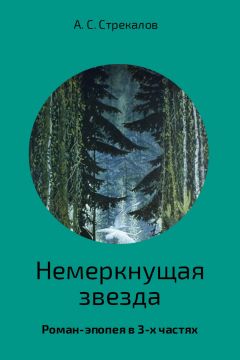
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Слушая рассказ воспитательницы, Вадик успел разглядеть краем глаза, что в комнате, где ему предстояло жить, находилось ещё пять кроватей, не считая его собственной, шестой по счёту, и все они были заняты, на всех сидели притихшие парни с родителями, будущие друзья-соседи его. Такое количество жильцов окончательно добило-расстроило Вадика, привыкшего к тишине и одиночеству в родном дому, дорожившего одиночеством в последний год пуще всего на свете… К тому же, это резко не совпадало с тем, о чём мечталось ему всю дорогу, на что дома как на манну небесну настраивалось, что было написано, наконец, в рекламно-информационной брошюре.
«Ученики наши, – вспомнились ему в тот момент её зазывно-красочные обещания, – живут гораздо лучше студентов и аспирантов, куда вольготнее и сытней».
«Неужели же студенты Университета живут в комнатах по шесть человек? – с сомнением подумал он, недоверчиво хмуря брови. – Да быть такого не может… Шесть человек – это для любого общежития перебор…»
Нет, всё ему не нравилось на новом месте, буквально всё! Угнетало и раздражало, трясло и коробило как при гриппе, вселяло в душу нервозность одну вперемешку с горечью… и не ведомую прежде тоску-печаль, тягучую и невероятно тяжёлую, от которой уже выть хотелось по-настоящему – и к родному дому бежать со всех ног, где было всегда так тепло, так хорошо и уютно… И рыжеволосая воспитательница-комендант – холёная, сытая, здоровьем и силой пышущая, что через чур вольготно развалилась на стуле, – совсем не понравилась ему. Горластая и нахальная, и жуликоватая как и все коменданты всех общежитий мира, – она произвела на Стеблова-младшего самое пренеприятное, самое удручающее впечатление! А ведь ему предстояло под её руководством жить, целых два года терпеть и выносить её ежедневные наставления и присутствие! Как разительно отличалась она от его тихой и скромной матушки, работящей, худенькой, маленькой русской женщины, просто всегда одетой и вечно голодной всегда, которую она так лихо и браво пообещала только что заменить! Издевательством это её обещание выглядело со стороны, оскорблением даже, жульничеством и плутовством, похожим на клятвы в любви и верности жене от похотливого и развратного мужа, вернувшегося только что от новой любовницы… Портилось, портилось настроение Вадика, по минутам уже – не по часам, вплотную подходя к той черте, за которой начинаются в человеке нервные срывы разные, неуправляемые психические процессы. Нечто похожее, судя по виду, испытывал и отец, на которого Вадик, впрочем, упорно не глядеть старался…
Бегло рассказав Стебловым про заведённые у них порядки, под конец не забыв напомнить притихшему на койке отцу, равно как и всем остальным присутствовавшим в комнате родителям, понуро её тогда слушавшим, о необходимости регулярных финансовых отчислений в Москву, на денежно-лицевые счета школьные, крашенная воспитательница после этого увела Вадика получать бельё в кладовую, и оттуда уже не вернулась больше – с другими детишками занялась, из других комнат.
Стебловы наскоро, помогая друг другу, заправили постель принесёнными наволочками и простынями, поставили под кровать чемодан, после чего неуверенно и неумело стали знакомиться в комнате с молодыми людьми и их невесёлыми родителями.
– Кормить-то их сегодня будут, не знаете? – спросил отец, когда соблюдены были все приличия, обращаясь к сидевшей на соседней койке розовощёкой даме, привезшей в интернат такого же розовощёкого сына, полного и круглого как Винни-пух, которого звали Тимошей. – А то что-то про еду нам никто ещё ничего не сказал. Всё больше про деньги, да про поведение говорили.
– Обещали, вроде бы, накормить, – неуверенно ответила та, пожимая плечами. – Воспитательница, которая была здесь, сказала до вас ещё, что сегодня у них у всех будет полноценный ужин.
Сергей Дмитриевич, внимательно выслушавший соседку, потупил взор, желваками грозно поигрывая.
–…Ну а вообще-то сколько раз в день их здесь будут кормить, она не говорила? Как тут, в целом, кормят? – подумав, спросил он ещё. – Голодными наши парни здесь не останутся?
Женщина улыбнулась невесело и опять пожала плечи, головой неуверенно вправо-влево качнула.
– Три раза кормить обещали; плюс к этому – полдник небольшой, – тихо Стеблову ответила и потом посмотрела робко на других родителей, ища у них подтверждения будто бы последним своим словам. -…А уж как будут кормить и чем – кто ж Вам скажет!…
Разговор сам собой затих, говорить стало не о чем – да и не хотелось, по правде сказать, никому сидеть и ни о чём разговаривать. У всех присутствовавших времени было в обрез, и каждый был занят поэтому только самим собой, своими мыслями и переживаниями… и собственным чадом, конечно же, сидевшим рядышком на кровати. Каждому успеть хотелось именно его приласкать, ему одному сказать напоследок слова самые нужные, добрые…
С минуту посидев молча на койке и тяжело повздыхав, на соседку посмотрев с ухмылкой, с Тимошей тихо прощавшуюся, старший Стеблов не выдержал, взглянул на часы. Они показывали пятнадцать минут шестого. День клонился к закату…
– Ну что, Вадик, – тихо сказал он, остервенело желваками играя. – Мне, вообще-то, уже уходить нужно. Поезд мой в двадцать два часа отправляется, и мне необходимо на него успеть – чтобы не ночевать на вокзале. За билетами неизвестно ещё сколько времени простою – их тоже ещё купить нужно: в кассах сейчас огромные очереди.
Стебловы дружно, как по команде, с кровати тогда поднялись, расправили её, примятую, и отец – хоть и стоило ему это всё огромных усилий – любезно и радушно простился с присутствовавшими, всем им всяческих благ и удач пожелал. После чего они с Вадиком из комнаты в коридор вышли, дверь за собой поплотнее прикрыв.
– Фу-у-у! – с чувством выдохнул в коридоре распаренный от напряжения Сергей Дмитриевич, ворот на рубашке пошире расстёгивая, на ходу отчаянно растирая рукою грудь. – Как жарко-то у вас там всё-таки! жарко и душно! – не продохнуть!… И посмотри, сколько народу в комнату вашу загнали, а! – как в тюрьме! А ты меня дома всё уверял, чудак, что по одному здесь жить будете… Как бы не так! Дадут вам – по одному-то.
Они молча прошли по коридору к выходу, быстро спустились по лестнице вниз и там также быстро, размашистым шагом, проскочили уже знакомый им переход, приведший их назад к учебному корпусу.
Пока шли по переходу – не проронили ни слова: оба изо всех сил сдерживали себя перед последней – самой тяжёлой! – минутой…
21
Переход из жилого корпуса в учебный, прощальный их с отцом временной отрезок, стал испытанием для Стебловых; для пятнадцатилетнего Вадика – в особенности.
«Что-то здесь всё не так как мне представлялось, как писали они», – только и думал он, торопливо шагая в ногу со спешащим на поезд родителем. И первые робкие сомнения относительно правильности сделанного дома выбора ехать в интернат учиться – одному, без Збруева Сашки, – больно теснили грудь, жгли огнём его уставшую от пережитого за день душу.
Горькие материнские слёзы утром, граничившие с истерикой, утомительный шестичасовой переезд до Москвы, вымотавший предельно, первые негативные впечатления от интерната и пустой голодный желудок вдобавок, знать о себе дававший, – всё это разом навалилось вдруг на него дневным бесконечным кошмаром, как тяжеленой бетонной плитой придавило. Так что стало не выдохнуть уже, не вздохнуть, не прокричать о помощи.
Одна отдушина пока ещё оставалась, одна отрада – находившийся рядом отец, спаситель, заступник, воин, единственная родная душа, с которым было не страшно, который оберегал пока, морально и духовно поддерживал, живым щитом, тараном вперёд везде выступал. Но и отец через минуту-другую должен будет уехать домой, его одного тут оставить на растерзание… И тогда совсем уже неоткуда будет помощи ждать, не на кого надеяться и опереться.
Вадику становилось страшно по-настоящему, и сил бороться со страхом не было у него…
Проскочив стеклянный, кустами боярышника обсаженный с улицы переход, длина которого на глазок превышала пятидесятиметровую отметку, упорно молчавшие весь путь Стебловы оказались в вестибюле учебного корпуса, уже хорошо им знакомого. Народу там заметно поубавилось к вечеру, уже не так было шумно и тесно. Но белокурая комендантша всё также гордо и важно сидела за столом у стены, до блеска полируя его своей величественной грудью. Подняв и повернув голову в сторону вошедших, она на удивление равнодушно взглянула на Стебловых накрашенными пустыми глазами и, как показалось, даже не заметила их, не узнала; и только прикрыла опять ладошкой раскрывшийся от скуки рот, после чего лениво продолжила чтение лежавшей перед ней книги…
«Я никому здесь не буду нужен, никому!» – подумал с горечью Вадик, ловя на себе безразлично-сонный взгляд встречавшей их час назад женщины. И мысль эта, простая и очевидная до боли, до того поразила его, потрясла, испугала уже окончательно и обидела, что он даже обмяк тогда, помнится, лишаясь последних сил. Тело его, молодое и упругое до того, сделалось вдруг ватным и дряблым, чужим; запершило в горле как при простуде; холодный пот выступил на лбу и спине. Глаза же его сами собой наполнились вдруг слезами, которые, как по волшебству, превратили серый вестибюль колмогоровской школы в пышно раскрашенную радужными тонами залу – диковинную, неземную, прекрасную, – призванную будто бы сгладить боль и тоску расставания, что ожидали Вадика впереди…
«Кому я здесь его оставляю? зачем? – подумал, в свою очередь, старший Стеблов, глазами встретившийся в вестибюле с сонной и сытой администраторшей, не обратившей на них никакого внимания, слова доброго напоследок не сказавшей им. – Больно нужны ей – такой! – наши дети. Дура гладкая, похотливая! Небось одни “кобели” на уме, “жеребцы” откормленные, двухметровые!»
И ему ком огромный, сухой подступил к горлу; и ему вдруг стало тяжко дышать. Отец задыхался здесь – в интернате! Ему скорее хотелось на улицу, на свежий воздух!…
– Ну что, сынок, пора нам с тобой прощаться, – выдавил он с великим трудом такую страшную во все времена фразу, останавливаясь у выходных дверей и на Вадика взглянув с любовью, которую было не отличить от тоски, которую тоска забивала.
И захотелось отцу в тот момент сгрести сынишку в охапку, крепким широким захватом натруженных постоянной работой рук прижать к себе, к своему рвущемуся от тоски сердцу, – чтобы стук другого сердечка услышать на память, крохотного ещё совсем и такого ещё неопытного и неискушённого, которое было ему тогда, в последние минуты прощальные, роднее и дороже собственного… Но Вадик не позволил себя обнять, лишил родителя последнего удовольствия.
– Прощай, – только и сказал он отцу, глаза от того тщательно пряча, слезами уже до краёв заполненные, блестевшие радугою уже; после чего вдруг сорвался с места и во всю прыть понёсся по коридору прочь – подальше от дверей выходных… и от отца своего, желавшего его покинуть.
– Вадик! сынок! постой! Куда ты?! – растерялся поражённый отец, у которого у самого вдруг заблестели глаза, и больно заныло и закололо сердце. Опомнившийся, он бросился было вдогонку, – но сына старшего уже и след простыл, будто рядом его никогда и не было…
Сказка детская, полузабытая, про Илью Муромца утверждает, превознося до небес достоинства этого былинного чудо-богатыря, упор на его стремительность и внезапность передвижения, в частности, делая, что все, мол, видели и всегда, когда тот, к примеру, на коня своего лихого перед походом или битвой садился. Но уж как и куда потом нёсся-скакал Илья – того уже никто не видал. А всё оттого, дескать, что уж очень это всё у него всякий раз стремительно и лихо происходило – как у молнии.
Так же вот точно и с Вадиком нашим произошло, как и с легендарным богатырём древнерусским: быстроногий, он сломя голову нёсся по школе, никого не видя вокруг, не разбирая дороги, – лишь бы подальше быть от отца, от невыносимого с ним расставания… Проскочив незаметно мимо администраторши, под стол нагнувшейся за обронённой булавкой, он тогда мышкой юркнул в ближайший за ней проход, который вывел его на лестничную клетку первого этажа учебного корпуса интерната. По лестнице той он одним махом заскочил на последний этаж, где дорогу ему массивная металлическая дверь на чердак преградила, замок на которой отсутствовал.
По инерции дёрнув дверь на себя и легко распахнув её, хорошо смазанную, горевший изнутри Вадик вбежал в полутёмное чердачное помещение: низкое, пыльное, сплошь голубиным помётом усеянное и каким-то ещё изъеденным молью хламом, – пробежал по нему, распугав голубей и споткнувшись и упав по дороге, на другой конец чердака. После чего, в полутьме вентиляционную трубу заметив, идущую из подвала на крышу, машинально полез за неё как за ширму, раздирая в кровь её металлическими краями локти себе, спину, руки.
– У-у-у! – волчонком брошенным протяжно завыл он, всем телом, всем существом трясясь, за трубою грязной усевшийся, спрятавшийся за трубой от отца, уткнув при этом лицо в перепачканные грязью руки, сквозь тонкие пальцы которых текли и текли из его карих глаз горячие обильные слёзы.
Текли они долго: может десять, может пятнадцать минут – столько их у молодого парня скопилось. Зато и смыли они тогда всё: и невыносимую тяжесть с души молодой, и боль нестерпимую, жгучую с уставшего за день сердца. Легко и покойно делалось Вадику после них – как бывает легко человеку после затяжного дождя, после яростной грозы весенней…
22
А старший Стеблов, между тем, побегав без толку по школе, сына внезапно исчезнувшего поискав, уже окончательно присутствие духа утратил и всякую способность что-либо соображать, решительное предпринимать что-то.
«Что мне делать-то теперь, Господи, не знаю даже? – беспомощно думал он, посиневшие губы кусая, спускаясь по лестнице на первый этаж, в вестибюль опустевший. – Как, не простившись, домой уезжать, сынка не обняв напоследок?…»
– Вы кого потеряли, папаша? – окликнула его белокурая администраторша, весело и беспечно Стеблова разглядывая, откровенно посмеиваясь над ним.
– Да сынишка мой, Вадик, куда-то вдруг убежал: никак не могу его здесь у вас отыскать, – с жаром стал объяснять отец, к администраторскому столу рванувшийся и попытавшийся было привлечь эту женщину себе в помощники, сочувственника в ней найти.
Но сочувствовать и помогать женщина явно не собиралась.
– Езжайте домой, папаша, и не волнуйтесь понапрасну, не портите себе настроение в дорогу, – с ухмылкой посоветовала она; и в глазах её густо накрашенных засветились искорки плохо скрываемого озорства… и намёков разных, похабных, что от здоровьем пышущей бабы, лишённой напрочь ума, исходят помимо воли. – Никуда Ваш ненаглядный сынуля тут у нас не денется – в целости и сохранности будет, как и другие дети: мы тут за ними строго следим… Поезд-то Ваш, кстати, когда отправляется?…
Что было делать отцу после подобных слов и такого вопроса надменного и нахального? как реагировать? куда идти? к кому ещё обращаться?
– Не знаю, когда отправляется: мне ещё билет нужно съездить купить, – холодно и равнодушно ответил он, презрительно на комендантшу зыркнув, и сильно пожалел тогда, что не было рядом жены, в которой он так нуждался.
– Ну вот видите! У Вас даже и билета нет, а Вы всё у нас тут разгуливаете, всё с ребёнком своим проститься никак не можете. Учтите – я уже предупреждала Вас: ночевать в интернате негде.
Сказавши это, женщина-комендант потянулась сладко, притворно зевнула и опять бессовестно уткнулась глазами в книгу, грудь широко на столе разложив и давая понять всем видом, что не задерживает далее посетителя, что разговор между ними окончен. А несчастный Сергей Дмитриевич, которому так откровенно указывали на дверь, с которым и поговорить-то как следует не пожелали, сощурившись и засопев обиженно, зубы до хруста сжав, медленным шагом направился после этого к выходу, злостью и досадой как разогретый чайник кипя. У выходных дверей он не выдержал – остановился, и опять оглянулся назад, на тот злосчастный проход, куда сынуля его родненький убежал – и сгинул; потом на часы взглянул, которые уже без пятнадцати шесть показывали.
Время его поджимало, и крепко; по-хорошему, ему нужно было б быстрее ехать на вокзал и занимать там очередь за билетом, если он хотел уехать домой в тот же день, если на вокзале не намеривался целую ночь мыкаться… Но уехать, не простившись с Вадиком, не взглянув и не обняв его напоследок, руку на прощание не пожав, – нет, так уехать отец не мог: сердце у него было бы не на месте…
«Куда он убежал-то, а? – вот чудак! – думал он, досадливо морщась и нервно топчась у дверей. – Времени и так в обрез, – а он мотается где-то… Нет, надо подождать чуток: может, подойдёт сейчас, наконец отыщется… Да должен подойти, обязательно должен! Неужели же он с отцом не захочет проститься? не захочет удачной дороги мне пожелать?…»
Но Вадик всё не шёл и не шёл, не думал, не собирался идти… Зато шло время на часах отцовских, быстро и неумолимо шло, можно даже сказать – бежало.
«…Ну, всё: пора ехать, времени больше нет, – красный, распухший от напряжения, вконец расстроенный и с толку сбитый, решил отец минут через двадцать, когда часы его показывали уже начало седьмого вечера. – Иначе придётся мне сегодня на вокзале заночевать. И на работу тогда не попаду завтра. А это – проблемы и объяснительные».
Последний раз впустую пройдясь взад-вперёд по вестибюлю школьному в надежде увидеть сына и как следует проститься с ним, отец ни с чем вернулся назад, к дверям выходным, дубовым, оглянулся с тоской на проход, куда юркнул Вадик, после чего, с силой толкнув ногой дверь, быстро вышел на улицу. По дороге к автобусной остановке он ещё останавливался пару раз и оглядывался назад, на бетонную коробку школьную: всё надеялся увидеть Вадика в окошке каком-нибудь или на ступеньках возле дверей. Но так и не увидел его, пострелёнка, хотя оба раза долго-долго смотрел и очень внимательно. Сынуля его исчез, как в воду канул, не оставив после себя и следа – только память тяжёлую, горькую.
«…Не я ж его в интернат отправлял, в конце-то концов: он сам поехал сюда, по собственной воле, – так чего ж на меня обижаться-то?! – мотал Сергей Дмитриевич трещавшей от дум головой, ничего не понимая в происходящем. – Я ж ему только добра хочу и одной лишь пользы: вон в какую даль ради него приехал, денег сколько потратил, времени, сил. Нужна была она мне сто лет, нервотрёпка и канитель такая?! Лежал бы сейчас дома в тепле и комфорте, квас с молодой картошкой и луком зелёным кушал – и горя б не знал, проблем… А он убежал от меня, чертёнок, куда-то – попрощаться даже не захотел, поцеловать родителя напоследок. Ведь когда теперь увидимся с ним? И увидимся ли?…»
Скупые мужские слёзы навернулись ему на глаза, дорогу надёжно спрятали. Но отец не смахивал их, не вытирал рукой. Так и шёл на остановку, бедняга, с мокрыми как у бабы глазищами, без конца спотыкаясь о камни и выбоины на асфальте и никого не видя вокруг, – и только плакал и плакал горько и безостановочно… и об исчезнувшем сынишке печалился-горевал, удалявшемся от него с каждым новым шагом всё дальше и дальше…
Перестал он плакать и оглядываться только тогда, когда за бетонный забор, наконец, вышел, огораживавший территорию школы словно китайской стеной, интернат от мира надёжно прятавший. Заметив возле автобусной остановки табачный киоск, разноцветными пачками сигарет и папирос до краёв забитый, что аппетитно выглядывали из-за стекла и как девки голые к себе приманивали, уже три года как бросивший курить Сергей Дмитриевич решительным шагом направился к нему и, не задумываясь, купил себе пачку “Севера”, который курил когда-то с молодых лет и который, помнится, очень любил за крепость и аромат ядрёный. Отойдя от киоска на пару шагов, он быстро разорвал белую пачку посередине, нервно достал из неё первую новенькую папиросу с таким знакомым, закружившим голову запахом, сунул в рот, запалил её спичкой с торца и, зажмуря глаза как маленький, со всей силы лёгких жадно вдохнул белый дым в себя, желаннее и слаще которого в тот момент ничего для него, казалось, и не было.
Дым папиросы нежной тёплой примочкой обволакивал ему нутро, сжимал и лечил сосуды и нервы, до предела с утра измотанные. С непривычки у него закружилась как у пьяного голова, стали дрожать и подкашиваться сделавшиеся ватными ноги. И мурашки пошли по спине, и тело расслабилось и обмякло. Это кислота никотиновая, чёрная как смола, рот и горло, и организм его ядовитостью своей испоганила. А он всё вдыхал и вдыхал в себя едкий табачный дым – глубоко, остервенело, жадно! И всё равно никак не мог успокоиться и им как следует надышаться…
Когда к остановке подъехал 104 автобус, который должен был отвезти его назад к метро, у отца Вадика торчало в пачке меньше половины гильз. Другие – опустошёнными – валялись уже на дне мусорной урны…
У метро “Филёвский парк” он докурил оставшиеся, после чего – тут же – купил себе ещё пару пачек “Севера”. Приехав на Павелецкий вокзал и заняв там очередь за билетами, он то и дело выскакивал потом на улицу – и всё курил и курил беспрестанно, и никак не мог накуриться всласть: всё ему было мало, всё горела и стенала его душа – просила, требовала себе лекарства…
23
Всю обратную дорогу из Кунцево на вокзал Сергей Дмитриевич не находил себе места: мучился, бедолага, нервно головою тряс, раз за разом тихо стонал и корчился как от зубной боли, и на каждой автобусной остановке или попутной станции метро начинал непроизвольно дёргаться и суетиться. Всё порывался выскочить и вернуться назад – забрать домой сына… Но что-то удерживало его от такого крайнего шага, в последний момент останавливало и осаживало, не позволяя нарушить в тот день естественного хода событий.
Школа ему не понравилась – категорически. Интернат – он и есть интернат, будь то московский, тульский или какой другой, колмогоровский, ивановский или петровский, – всё плохо для человека, всё ему, доможителю, противопоказано.
Но даже и это не было главным, не так терзало и мучило отца, поедом изводило. Оставленный интернат со своим казарменным житьём-бытьём бледнел и мерк перед мыслью, предельно очевидной и страшной до ужаса, до холодной дрожи внутри, что в эти вот самые минуты фактически рушилась на его глазах и при полном его попустительстве их крепкая и дружная до того семья. И он, глава её и защитник, и единственный реальный и действенный оберег, принимал в этой семейной разрухе самое прямое и самое активное участие, как ни крути, добровольно как бы ускорял её, самолично выпроваживал из семьи старшего – самого нужного – сына! Сына-наследника во все времена, сына-хозяина, сына-кормильца.
«Разве ж вернётся Вадик домой, проучившись два года здесь? И это – как минимум! Разве вспомнит потом про отца и мать, про сестрёнку с братом? – корёжил отец в голове тяжеленные как камни мысли. – Да, конечно же, нет, – что про то говорить! Кто и когда возвращался к родителям после такой-то разлуки!… Тем более, что после этой спецшколы и сам Университет последует всенепременно, который уже рядышком стоит, дожидается. И правильно! – а иначе для чего тогда было всё и затевать? А там на очереди, глядишь, – женитьба и собственная семья; и здесь же, в Москве квартира собственная… И получится, что сначала один убежит, убежал уже; потом – другой, на него глядючи; а там и дочка замуж засобирается, к мужу жить перейдёт, как и положено ей по женской её природе… И останемся мы с матерью под старость одни – бобылями в холодной квартире жить! – будто у нас с ней детей никогда и не было… Воды подать будет некому, когда силы кончатся – вот в чём беда, и главная в чём опасность. И это после всего того, что мы в них троих вложили уже; и ещё, даст Бог, вложим…»
От мыслей таких отчаянных и непроизвольных отца то и дело бросало в жар, будто кипятком ядрёным ошпаривало. Отчего всю дорогу, повторимся, он порывался в интернат возвратиться. И там, разыскав Вадика, во что бы то ни стало, тащить его, упрямца и самовольника, обратно домой, пока ещё не поздно было, и дело далеко не зашло, пока сердце его молодое на чужбине не очерствело и не укоренилось. Притащить и запереть его в родном дому крепко-накрепко, и держать там, запертого, под семью замками – чтоб не вырвался он, паршивец, из отцовских рук, не убежал на сторону…
Но этого так и не случилось, в итоге, увы. На радость или на горе? – Бог весть! Ибо существовала сила внутри, могучая, властная и непреодолимая, которая заставила разнервничавшегося отца возвыситься над собственными страстями-порывами и корыстно-эгоистическими устремлениями, отринуть и похоронить их. Она подсказывала ему, упорно нашёптывала всю дорогу, что мысли такие – пусть были они хороши и сладки, и для сердца его желанны, – это всё-таки для себя, для своего, так сказать, удовольствия, покоя старческого и благополучия. А есть ещё и другой человек – сынок его старший, Вадик. Будет ли хорошо ему от такой перспективы домашней, такого решения силового, волюнтаристского? Не сейчас, не сию минуту, допустим, когда он бегает где-то там, неизвестно где, – неприкаянный и беспризорный, – а в будущем?…
И вот тут-то и находила в его рассуждениях чумовых и предельно отчаянных коса на камень: именно тут происходил у старшего-Стеблова самый главный в сознании сбой, главная внутренняя закавыка.
«…Ну-у-у, бросим мы сейчас с ним Москву, злополучную школу эту, увезу я его домой, – а дальше-то что? – ехал и мучительно размышлял Сергей Дмитриевич над судьбой оставленного в интернате сына. – Что он у нас, в медвежьем углу, делать будет? Водку жрать месяцами, как другие жрут, спиваться и опускаться до скотского состояния, до потери сознания, “белку” себе цеплять, цирроз печени? Ни работы, ни перспективы тебе, ни жизни приличной и стоящей. Скукотища полная и беспросветная! Тупик! Девку приличную найти – и то проблема целая: все они, приличные-то, давным-давно уже замуж повыходили или поразъехались. Шушера одна осталась и рвань, которую и даром не надо, как говорится, от которой пользы в семье не будет – только ругань каждодневная и головная боль, мордобой и развод непременный, что у нас повсеместно и происходит все последние годы, становится традицией… Да и на работу ту же попробуй устройся, чтобы по душе и по сердцу молодому парню была, удовлетворение давала и перспективу. Так ещё шиш устроишься! Есть-то всего два завода несчастных, где одни дебилы и забулдыги болты и гайки годами точат, – вот и крутись на них глупой белкой всю жизнь. И всё равно ни до чего не докрутишься, как ни старайся, задницу как ни рви. Потому что даже и там, на этих заводах задрипанных и треклятых, на сто лет вперёд всё расписано и забито. Там деды внукам после себя блатные, “тёплые” места берегут, держатся за места так, что никакими силами не прорваться! Только в рабы, разве что, в холуи, в грузчики да разнорабочие… Словом, тоска и беспробудная спячка повсюду от такой безысходности и кумовства, и полная деградация личности как в дурдоме! – вот что опасно и страшно! хуже и подлее всего! И никакой впереди надежды на лучшее, никакого просвета. Упадок нравов и мрак, пьянство и загнивание!… Оттого и бежит молодёжь от нас, сломя голову, как от чумы, или отхожей ямы. И правильно делает, безусловно правильно… Эх! – тяжело и надрывно вздыхал в сотый, в тысячный раз Сергей Дмитриевич, болезненно морщась и с тоской озираясь по сторонам, ехавшим рядом с ним москвичам втайне завидуя. – Сам бы сбежал из нашего вонючего городишка с радостью – да уж куда теперь! Раньше бежать надо было! По-молодости!…»
С сына оставленного, одинокого, мысли отца незаметно, сами собой, переходили на собственную, уже сложившуюся в целом жизнь, которая перевалила за середину – за сорокалетний, во всех отношениях важный для всякого мыслящего человека рубеж. И вспоминалось отцу, под землёй через всю столицу мчавшемуся, не видевшему вокруг себя никого, только всуе прожитые годы видевшему, как и сам он когда-то неженатым молодым пареньком рвался на жительство в Москву, хотел закрепиться здесь, устроиться на работу и остаться в этом дивном русском городе навсегда. И как безжалостно и сурово обошлась с ним тогда Судьба – немилосердно, неласково, негуманно, – показав ему в двадцать неполных лет свой большой и мохнатый кукиш…
24
А началась та история давняя с дяди Лёши, младшего брата матери его, Прасковьи Егоровны, – бабушки Вадика. Когда Сергею Дмитриевичу едва исполнилось пятнадцать лет, и когда он вовсю трудился уже в колхозе помощником скотника на ферме, к ним в деревню вернулся с фронта его родной дядя, Алексей Егорович – рубаха-парень, сорвиголова, герой завершившейся только что Великой Отечественной войны, которая кончилась для него в Вене. Героем дядя Лёша был настоящим – первостатейным, как в таких случаях говорят! – потому как уходил на фронт в 1941-м году малограмотным деревенским мужичком, простым рядовым солдатом. Вернулся же домой осенью 1945-го уже бравым офицером-гвардейцем, капитаном-мотострелком, полным кавалером орденов Славы к тому же – самым почитаемым у солдат, как и кресты Георгиевские, – что огнём горели на израненной его груди, впалой, здорово исхудавшей и сильно на войне покорёженной.
Жить бы, казалось, такому “орлу” в родном дому в мирное время да радоваться, да снимать обильные пенки с недавних, оплаченных кровью заслуг. Однако же радоваться ему, горемычному, на гражданке не довелось и дня – из-за обилия посыпавшихся на него проблем и ударов…
Первый, самый тяжёлый удар, удар под сердце что называется, дядя Лёша получил от своей лихой и похотливой супружницы Шуры, оставшейся в двадцать пять лет холостой по сути (после проводов на войну мужа) и пустившейся на радостях в крутой разгул, длившийся по рассказам родственников все четыре военные года.
Со стороны всё это, наверное, странным и диким покажется, неправдоподобным даже: голод, война – и разгул. На какие шиши, казалось бы, баба гуляла?! Да и с кем?! – когда каждый здоровый мужик был тогда вроде бы на счету и на строгом военном учёте… А вот и не каждый, значит. И учёт не таким уж и строгим был, как теперь про то время пишут. Да и голодали не все, не все бедствовали и страдали. Были и исключения в этом гнусном тыловом деле, как и всегда и везде, в любой стране и при любом правителе.
Уже давно и мудро подмечено, что “кому-то – война, а кому-то – мать родна”; “кому-то – пожар, а кому-то – погреться”; “кому-то – голод и смерть, а кому-то – гешефт и навар богатый по скупке золота и антиквариата за осьмушку хлеба”. Словом, кто-то слагает с мечом или автоматом в руке на бранных полях буйны головы, здоровье отдаёт за Родину и победу, силы последние, жизнь. А в это же самое время за их широкими спинами, кровью и потом пропахшими, какая-нибудь двуногая “тыловая гнида”, мерзкая, подлая и вонючая, пьёт и гуляет всласть, ошалев от свалившегося вдруг богатства, фронтовиками вынужденно оставленного. Возвращавшиеся с войны солдаты убеждались и сталкивались с этим на каждом шагу, хотя и не хотелось из них никому, противно было до тошноты в подобном житейском дерьме копаться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































