Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
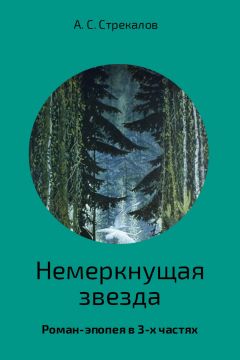
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц)
Послышались голоса за спиной: «Чего ты там застыл-то, Вадик? Уснул что ли? Давай получай быстрей и отходи. Нам тоже есть хочется».
Понимая, что создаёт толчею и другим подойти мешает, он быстро нагнулся, вилку с пола поднял, смахнул грязь с неё. После чего, выпрямившись, взял из рук поварихи свою порцию каши. Потом развернулся резко и ошалело, не соображая уже ничего и ни на кого не глядя, стыдливо пряча глаза, и быстро пошёл к своему столу в центре зала. Он буквально сгорал тогда от стыда и обиды жгучей, и только за столом заметил, что так и не взял, в итоге, положенную ему порцию деликатеса.
«Бог с ней, – досадливо поморщившись, подумал он с горечью и почти со слезами. – Обойдусь без её колбасы. Пусть она сама её лопает, дура».
Возвращаться после такого позорного окрика назад, к прежней своей обожательнице, объясняться и оправдываться перед ней на глазах товарищей, кусок колбасы у неё как милостыню выпрашивать ему совсем не хотелось…
Больше он с того дня за добавкой в столовой не ходил ни разу и на краснощёкую общепитовскую молодуху старался уже не глядеть; даже и садился в зале с тех пор спиною к её желанному ещё совсем недавно окошку. Декабрьская копчёная колбаса, так им и не попробованная, дорого ему обошлась: именно после неё начались у Стеблова в Москве уже нешуточные проблемы с питанием, занимавшие в списке свалившихся на него на чужбине проблем не самое последнее место…
Напоследок здесь надо сказать, в качестве дополнения, что проблема полноценного и качественного питания существовала в интернате не для него одного: большинство его товарищей-одногодков не наедались досыта в новой школе, и им необходимо требовались здесь дополнительные подкормка и подпитка. Одноклассники Вадика, в основной массе своей, решали эту проблему просто: шли вечером в ближайший к ним гастроном и покупали себе там еды по вкусу, дополняя ею потом нежирный интернатовский рацион, скудные харчи общепитовские. Они могли себе это позволить сделать, имея богатых отцов, отцов-военных в основном, что были в Советском Союзе в чести и большом почёте: деньжищи от государства получали немереные, вещевое довольствие и обильные продовольственные пайки. Были отцы – доктора и кандидаты наук; были партийные и государственные служащие. Для них для всех ежемесячно за ребёнка сорок рублей платить было совсем не сложно, не сложно было бы платить и вдвое большую сумму.
Оттого-то детишки их и жили в Москве припеваючи; потому и чувствовали себя в интернате как в раю, всем были всегда довольны.
У Стеблова Вадика толстосума-попаши не было, к сожалению, что кормил бы на свои умопомрачительные заработки всю семью, да ещё и освободил бы жену от ежедневной тяжкой работы. И как ни крутился отец с четырьмя классами и “ремеслухой” всю жизнь, жилы из себя ни тянул ежедневно, стараясь всё и везде успеть, – получал он всё равно до обидного мало. И жена поэтому всегда работала у него: из нищеты вытягивать семью помогала. За сорок интернатовских рублей, что за сына в Москву отсылались, матушка Вадика месяц целый горбила, или – почти месяц: шестьдесят два рубля получала она всего – деньги, что и говорить, смешные, что слезами легче б было назвать, а не зарплатой.
Вадик помнил об этом всегда, переживал за родителей очень, жалел их. И потому просить дома денег ещё и на дополнительные себе расходы у него б не повернулся язык! – отсох бы и отвалился скорее! Слишком он любил семью свою, был к ним ко всем душой, всем сердцем привязан, чтобы так откровенно и так беззастенчиво жить за их скромный счёт, получать для себя одного из общего котла излишки.
Он пошёл в интернате по другому пути, по-своему решил вопрос с хлебом насущным – традиционным, можно сказать, способом: стал зарабатывать этот хлеб самостоятельно, и себя им потом кормить. Что и позволило ему на чужбине выжить, не умереть с голодухи.
Голь перекатная на выдумки и уловки очень хитра; была хитра – хитра и будет. Потому что голодный желудок голове покоя не даст: расшевелит её, природную ленивицу, обязательно, усердно думать заставит, варианты покушать искать.
Вот и с героем нашим нечто похожее произошло: к весне одичавший и отощавший Стеблов решил в Москве исхитриться, лазейку для себя к интернатовской кормушке проделать. И заключалась та его хитрость в следующем. По вечерам к ним в школу четыре раза в неделю приезжала машина с хлебом, которую необходимо было постоянно кому-то встречать и разгружать. Рабочих на такое мероприятие в школе предусмотрено не было: разгружали привезённый хлеб всё те же ученики. И делали они это по очереди, с большой неохотой, нытьём, постоянной руганью и перепалками, стараясь разными способами от хлебной повинности увильнуть, из-за чего в интернате неоднократно вспыхивали скандалы.
Так вот, прознавший про такое положение дел Вадик, сам ту машину поразгружав, решил исправить очевидную недоработку администрации и добровольно сделаться грузчиком. Причём – на постоянной основе, чем вызвал у руководителей интерната один лишь немой восторг, граничивший с недоумением.
Разгружать целую машину тяжело одному: как ни крути и ни хитри, помощники требуются. И он, предварительно переговорив с кем надо, сагитировав особо ленивых и сомневающихся, быстренько сколотил бригаду из таких же нищих и голодных парней как сам, с которыми по разрешению директора и начал бегать к девяти часам вечера в столовую: поджидать там хлебный фургон. Разгрузив его минут за сорок, хлеб в хранилище перетаскав, каждый член бригады на законной основе – директор так разрешил – мог себе взять за это по паре душистых батонов, даже самых дорогих и вкусных, аж целых 25 копеек стоивших, которые ещё час назад выпекались в печи и были с пылу, с жару что называется, и которые тут же и съедались дружно, не успевая даже остыть.
Батоны те горячие, трудовые, собственным потом политые и оттого питательные вдвойне, вдвойне желанные и дорогие, здорово выручали в Москве Стеблова и нищих друзей его. Не будь тогда их, запрети администрация ими расплачиваться, – положение некоторых воспитанников в интернате было бы совсем плачевным…
26
Систематические недоедания и недосыпания, помноженные на длительные умственные перегрузки, перенапряжение и бессонницу, и вечное недовольство собой к тому в конце концов привели, что Вадик неврастению себе в Москве заработал в чистом виде, на почве которой его прежняя болезнь обнажилась и зацвела, по дурости им два года назад подцепленная, которую домашние врачи-невропатологи по горячим следам быстро тогда заглушили, пациенту юному помогли. И низкий им поклон за это… А произошло тогда вот что.
Только-только закончивший седьмой класс Вадик поехал в июне-месяце на свеклу в составе школьного сельхозотряда, о чём подробно уже писалось в первой главе. И там, живя две недели в палатке, он щёку себе застудил – лицевой нерв её. Потому что спал на краю, щекой в сырую землю уткнувшись. А палатка на самом проходе стояла, на сквозняке, в эпицентре которого и оказался Вадик.
Тот сквозняк он ощущал по ночам, разумеется, шуршавший рядышком “ручейком” холодным. Да ещё и ледяной мягкой “кисточкой” щекотавший губы ему, лоб, веки, нос. Но при этом он радовался, дурачок, блаженствовал даже, и ещё больше под него и прохладу его освежающую подставлялся – воздухом вроде как дышал. И не предавал по молодости сквозняку никакого угрожающего значения. До тех пор не предавал, пока не задёргалась его застуженная однажды ночью щека болезненно-нервным тиком, пока не перекосило, не повело на сторону её.
Это произошло уже в самом конце отведённого на работы срока: после сильнейшей бури, что разыгралась в лесу, проливного дождя и холода, – и можно было бы, наверное, доработать ему до конца смены, чтобы потом вернуться в город вместе со всеми и шума лишнего не поднимать, лишней паники. Но начальник сельхозотряда, их школьный преподаватель труда, не желая брать на себя ответственность, быстренько тогда отправил Стеблова домой с первой приехавшей к ним машиной, чем только составил дурную славу ему, сплетни пустил по школе ненужные, пересуды с домыслами.
Увидав, как у вернувшегося из лагеря сына некрасиво дёргается при разговоре застуженная щека: тащит, омертвелая, левый глаз за собой, становящийся огромным как у циклопа, безобразит и кривит лицо на каждом слове, – родители перепугались не на шутку и повели его, бедолагу, в больницу. И там местные врачи из неврологического отделения так же быстро диагноз поставили: застужение лицевого нерва, – и оперативно начали лечить болезнь. Кварцевым прогреванием лечили, массажем и чем-то ещё; а также и входившим тогда в моду иглоукалыванием.
Оперативное вмешательство врачей и сестёр, их старания искренние и профессионализм, и предельная в данном конкретном случае заинтересованность: пациент-то уж больно молод был: жалко им стало калекой его на всю жизнь оставлять, – всё это дало, в итоге, свои плоды, свои положительные результаты. И в школу через два месяца Вадик пришёл здоровым и гладким как раньше, крепким, загорелым, в себе уверенным пареньком. Так что про застуженную щёку его все быстренько и забыли.
Болезнь от него отступила дома. Казалось, что навсегда!…
В действительности же болезнь обманула всех и только спряталась ненадолго, гадина, только сделала вид, что сдалась, – чтобы сбить первую, самую мощную со стороны людей атаку. А спустя два года она опять вернулась, принимая уже крайние, уродливые формы, неприятные как для окружающих, так и для самого больного. Причём, вернулась в самый неподходящий момент – когда родителей его не было рядом.
Первые признаки надвигающейся беды Вадик заметил у себя в апреле, как только из дома вернулся, с каникул последних, весенних, самых нервозных, самых мучительных для него, – заметил на уроке химии, на котором к доске его вызвали. Несдержанная пожилая учительница, помнится, начала тогда по обыкновению на него кричать, обвинять в невежестве, тупости, разгильдяйстве. Вадик, в свою очередь, попытался что-то ответить ей, предъявить, возразить, оправдаться. И вот во время той перебранки памятной у него и задёргалась первый раз щека, лицо его как у дурного клоуна перекосила.
Вадик заметил, как покраснела учительница, его, перекошенного, перед собой увидев, болезненно и брезгливо поморщилась даже, быстро глаза в сторону отвела, словно калеку безногого и безрукого повстречав, отвратительного уродца. В тот момент её сзади будто толкнул кто-то, за руку больно дёрнул, притянул к себе… И потом будто бы прошептал на ухо: «чего ты споришь-то с ним – юродивым, дура? чего обижаешь его? пристаёшь? Нельзя так с ним поступать, нельзя! – грех это! и большое свинство!»
И учительница согласилась с таким “нашёптыванием” и обмякла, притихла и подобрела сразу, прекратила с болезненным учеником всякий спор. «Ладно, – только и сказала она примирительно, уже не смотря на Стеблова, под ноги себе смотря, – выучишь и ответишь в другой раз», – и быстренько посадила его на место – с глаз долой…
Поведение горячей, отчаянной и неуступчивой прежде женщины, её покорность необъяснимая, брезгливая снисходительность поразили Стеблова пренеприятно, ножом резанули по сердцу: не привык он, здоровый и крепкий парень, в юродивых-то ходить, в уродцах тем паче, не желал привыкать; желал, наоборот, ходить и жить победителем. Поразила его и сама щека, её отчётливо ощутимые судороги, про которые он давно забыл, про которые не вспоминал больше.
«Что такое стряслось, ёлки-палки? – недоумевал он, обескураженным возвращаясь за парту, по дороге пальцами онемевшую щеку усиленно теребя. – Показалось, что ли?… Наверное, показалось – и ничего страшного не произошло. Не надо паниковать только».
И до конца урока он беспрестанно гладил и гладил украдкой левую часть лица, массируя её отчаянно, от одноклассников лицо одновременно пряча, – и всё внушал себе раз за разом, всем телом, всем испуганным нутром дрожа, что произошедшее с ним только что досадной случайностью было, нелепицей простой, несуразицей. Которая уже прошла – совсем, окончательно, твёрдо! – и никогда не повторится более…
Но судороги повторились – на других уроках – и стали повторяться после этого вновь и вновь: в классе, на улице, в общежитии, – лишая покоя Вадика, последнего сна, с ума его сводя уже оттого только, что он ничегошеньки не мог поделать с собой, со своим болезненным состоянием, с которым в одиночку он не умел бороться, которое самостоятельно не знал как лечить. Он только отмечал к стыду своему и досаде великой, что со злостью и обидой граничили, как при его ответах последних дружно, как по команде, отворачивались учителя, как смущённо, с нескрываемой жалостью на лицах, быстро тот ответ обрывали, сажали его на место. И как там, на месте уже, развернувшиеся одноклассники рассматривают его во все глаза: кто с сожалением, кто с ухмылкою, кто с сочувствием искренним, – как попавшего в большую беду человека…
Такое отношение к себе – совершенно новое и незнакомое! – так удручающе действовало на Стеблова, особенно – в первые дни, было так неприятно ему и так невыносимо тягостно, – что он перестал в конце концов совсем выходить к доске, перестал отвечать с места. Он вставал и говорил только, что не знает урока, не выучил ничего, – лишь бы только не попадать в очередной раз впросак, не привлекать к себе внимания класса.
Оценки его ввиду этого резко снизились, отношения с учителями испортились совсем. К концу учебного года он уже прочно обосновался в компании отстающих, абсолютно бесперспективных и бесталанных учеников, на которых смотрели в школе как на обузу, на путающийся под ногами хлам, который и нужно бы, да было жалко выбросить…
Болезнь его, однако ж, не стояла на месте – некогда ей, паразитке, было стоять. Она напористо и планомерно пёрла вперёд словно танк, почуяв большую викторию, и легко отвоёвывала для себя по пути всё более выгодных и масштабных позиций.
Упорное молчание на уроках уже не спасало Вадика от жалости и снисхождения окружающих, от всеобщего брезгливо-болезненного отношения к нему. К концу апреля левая сторона лица, жёстко одеревенев и потеряв чувствительность, уже окончательно вышла из-под контроля и начала дёргаться по любому поводу. Начала дёргаться даже и без него – при любом повседневном разговоре с товарищами, перед которыми он не тушевался прежде, не робел, наоборот – героем всегда ходил, удальцом-сорвиголовою, – и которые, в свою очередь, не чурались с ним прежде общения.
Теперь же, заводя разговор со Стебловым и видя, как при каждом ответном слове простуженная больная щека обезображивает лицо его, как тащит она за собой левый глаз, выворачивает его вместе с веком наружу – до внутренностей кровяных! до сосудов! – товарищи испуганно морщились, суетились нервно. И тут же, смущённо головы опустив, под любым предлогом расставались с ним, стараясь уж не встречаться больше. Стеблов становился изгоем в школе, дружить и общаться с которым теперь желания ни у кого не возникало…
Эта отверженность всеобщая и отчуждение изводили его более всего! укрепляли и усиливали болезнь, делали её нестерпимой прежде всего в психологическом плане! В мае-месяце Стеблов не отнимал уже рук от щеки, постоянно в разговорах закрывался ото всех руками, а разговоры сами сводил до минимума. Он уже в точности стал походить в интернате на затравленного зверька – жалкого, одинокого и больного, никому не нужного. И ему уже ничего не хотелось здесь – только плакать и плакать.
И по ночам он уже не спал: упорно думал над незавидным своим положением и долей горькой, вынужденно-сиротской, так жестоко его испытывавшей. И, ничего не придумав, естественно, – чего он один-то сообразить и придумать мог? да ещё в таком состоянии? – он остервенело массировать больную щёку принимался, пытаясь массажами ночными, ярыми, вернуть себе прежний над лицом контроль – чтобы не превращалась болезнь в патологию.
Просыпаясь утром не выспавшимся, больным, да ещё и расстроенным совершенно, разбитым, он весь день потом только уединения и тишины искал, измученной голове и сердцу покоя; осознанно сторонился любого общества, преподавателей, воспитателей и друзей. Подвалы школьные и чердаки сделались излюбленными его местами в Москве, где он полюбил находиться в мае более всего и откуда вылезал уже с крайним неудовольствием.
В нём полным ходом развивалась болезнь – душевная, очень тяжёлая, – которую невропатологи и психиатры неврастенией зовут, и которая следствием перенапряжения и переутомления является, хронического на протяжении многих дней недосыпания и недоедания…
27
В середине мая Стеблова неожиданно вызвала к себе в кабинет их школьная врач– терапевт – единственная докторша в интернате. Посадив вошедшего девятиклассника перед собой, она принялась внимательно его осматривать, и расспрашивать по ходу осмотра про самочувствие, щёку.
– Давно это у тебя? – спросила она, оглаживая горячими ладонями напрягшееся лицо Вадика, заинтересованно ощупывая пальцами левую её половину, массируя её легонько.
Вадик рассказал всё честно про свою болезнь: как простудился в конце седьмого класса в колхозе, и как лечили его потом, как вылечили. Добавил, что всё у него было хорошо до Москвы, до Нового года даже, а потом…
– Спишь здесь как? – спросила его докторша, под конец ещё и глаза его осмотрев, при этом пальцами веки широко раздвинув, чтобы получше белки разглядеть. – Как вообще тебе здесь живётся? как работается? как отдыхается?
Отняв от лица руки после осмотра и в общих чертах всё для себя поняв, она лениво придвинулась опять к столу, локти на столе широко разложила; после чего пристально посмотрела в глаза сидящему перед ней пареньку, ответ угадать пытаясь…
Не ожидавший такого вопроса Вадик заволновался, заёрзал на стуле, задёргавшуюся от волнения щёку крепко рукой прижал, как всё чаще в последние дни это делал; потом, подыскивая слова, нужные и по возможности честные, потупился, лоб наморщил и, с невесёлыми мыслями собираясь, тяжело, нервно так засопел.
Что ему было сказать врачу? чем ответить? как своё настроение и самочувствие правильно объяснить, чтобы по ходу рассказа ещё и никого не обидеть?… Сказать всё прямо, начистоту? – что надоел, мол, ему интернат хуже редьки горькой, надоели порядки здешние, учителя, здешняя же полуказарменная изматывающая система; что устал он, измучился жить в интернатовских переполненных корпусах, в которых шум стоял днём и ночью, и где невозможно было ни работать нормально, ни отдыхать, где с первого сентября, фактически, ему отдыха и покоя не было; что надоели ему до тошноты, до чёртиков, прямо-таки, бесконечные санитарно-профилактические уборки, мытьё комнат и коридоров, и умывальников с туалетами, отбирающие уйму времени, сил, отвлекающие от школьных дел и занятий; что, наконец, его отвратительно кормят здесь за те сорок рублей, которые его родители ежемесячно сюда присылают.
Такой ответ, безусловно, был бы предельно искренним и правдивым, предельно честным с его стороны, потому как содержал бы в себе всё то, что чувствовал Вадик на протяжении последних месяцев, что кипело и стенало в нём всё это время, оседая на сердце тяжким грузом, что его напрягало особенно сильно и мучило всю весну, – да только… только не перегнул ли бы он палку, ответив так?! Правда-то, – она, как известно, как ёжик молодой колется и больно режет глаза. И навряд ли понравились бы откровения больного ученика сидевшей перед ним холёной женщине-терапевту. Работнице, для которой интернат, по-видимому, давно уже стал домом родным, или уютным доходным местом, стабильно кормившим и поившим её, уверенность ей в завтрашнем дне дававшим.
Раздосадованная жалобами эскулапша могла бы резонно и осадить устроившего душевный стриптиз пациента словами типа: дружочек ты мой дорогой! извини! если не нравится тебе здесь у нас, если тебе у нас так невыносимо плохо, как ты рассказываешь, – чего же ты тут отираешься-то целый год уже?! себя, как говоришь, здесь добровольно изводишь-насилуешь?! Езжай-де обратно – в свой любимый колхоз – и живи себе там припеваючи! дерьмо навозное нюхай! Никто тебе там не будет в поле колхозном мешать, не будет досаждать уборками и дисциплиной!… Езжай домой и не ной: никто силком тебя здесь не держит, не думай. Чего ты вообще припёрся в Москву?! – под конец ещё спросит с ухмылкою, – такой весь возвышенный из себя и тонкий! Да ещё и больной!…
Понимая всё это прекрасно, прогнозируя и просчитывая такой ответ, пациент ничего не сказал врачихе. Он только поднял тогда на неё полные слёз глаза и вымолвил, едва не плача:
– Я домой хочу. Устал я тут у вас за этот год: тяжело мне.
И столько, наверное, боли было в его глазах, столько тоски и скорби! – что врачиха не выдержала – отвернулась.
– Ладно, успокойся, – сказала она, нехотя поднимаясь со стула, графин с водой с подоконника в руки беря; потом она к шкафу с графином направилась, стоявшему неподалёку, достала оттуда тёмно-коричневый пузырёк с каплями (валериановыми, как заметил Стеблов), вернулась со всем этим назад, к столу. – На вот, возьми, выпей, тридцать капель себе накапай и выпей, – протянула она Стеблову воду и капли, и стаканчик маленький с делениями, и потом, с шумом усевшись обратно за стол, сказала, подождав предварительно, пока пациент её указания выполнит и выпьет всё: – И езжай-ка ты, парень, домой действительно – лечись там как следует; обращайся там опять в свою поликлинику: пусть проводят с тобой повторный восстановительный курс. Они там знают тебя – уже лечили… А здесь тебя лечить никто не станет: ты же не москвич, не прописан здесь. Ни одна больница столичная тебя не примет, ни одна клиника… И у нас в интернате тебя лечить некому: я – единственная тут врач, как видишь, но я – терапевт, в неврологии разбираюсь слабо… Так что давай собирайся потихонечку, мой золотой, и езжай домой, к родителям. Там сама атмосфера тебя вылечит, сама обстановка домашняя и родительские же домашние харчи: мёд, молоко парное, яйца, картошка белая и рассыпчатая, яблоки, помидоры с грядки, душистые огурцы. Это, брат ты мой, такие средства целебные, – добавила она мечтательно, на стуле как в гамаке развалясь и дачу собственную вспоминая, видимо, куда ей уже попасть не терпелось, – лучше которых и не придумали ещё ничего – и навряд ли когда придумают. С нашей казённой едой никогда не сравнишь…
Слова о доме и о родителях, о возможной скорой встрече с ними обнадёжили и воодушевили Вадика несказанно, многократно валериану усилили, её целебные свойства, а по воздействию даже и переплюнули их. Он бы засмеялся, наверное, в тот момент от счастья внезапно-нахлынувшего, в интернате совсем подзабытого, горячо бы женщину-терапевта поблагодарил за всё: за советы добрые, в первую очередь, тёплую встречу, за лекарство и понимание полное тогдашнего своего состояния, критического, надо сказать, – если бы ни один неприятный момент, сильно смущавший его во всём этом деле.
–…А зачёты летние как же? – тихо спросил он докторшу, поднимая на неё загоревшиеся надеждой глаза. – У нас же в начале июня зачёты будут за девятый класс по математике и физике. Меня без них домой не отпустят, наверное.
– Отпустят, – тихо, но твёрдо ответила женщина как о деле уже давно решённом, снимая с души Стеблова последнюю тревогу и сомнения. – Я договорюсь… Об этом ты можешь не беспокоиться…
На том они и расстались тогда – тепло, хорошо это сделали, по-доброму, – и Вадик, как мог поблагодарив врача, даже и руку к сердцу прижав в момент благодарности, что было с его стороны всегда знаком исключительной к человеку признательности, Вадик вихрем понёсся из её кабинета в класс, ощущая всю дорогу лёгкость необычайную по всему телу, бурный эмоциональный подъём, праздник долгожданный, стихийный, равный по значимости, по накалу чувств разве что только собственному воскрешению из небытия, из душной и мрачной могилы. Отчего за его спиной будто бы даже и “крылья” огромных размеров выросли, на которых он, помнится, в бытность лыжником, по парку и лесу когда-то стремглав “летал” и прекрасно себя от тех домашних спортивных “полётов” чувствовал. Угасшая было жажда жизни, жажда любви и борьбы опять стремительно зарождались в нём – редкие той московской весной гостьи.
Все пять уроков в тот день он просидел возбуждённый, сияющий как никогда, довольный и счастливый без меры, – и даже и про щёку больную совсем позабыл, про проблемы. Подумать только: его отпустили домой! раньше времени отпустили! И ему не нужно будет сдавать утомительных зачётов вместе со всеми, проходить испытания – понимай, от которых мало толку! Не нужно в жарком, щедром на солнце июне в душных читалках целыми днями париться сидеть – мучить себя понапрасну задачками университетскими и книгами, которые ему совсем не нужны пока! которые для него только обуза! Разве ж не счастье это?! не Божий спасительный дар?! от которого петь и плясать хотелось, шапки к небу кидать, реветь молодым маралом!
От перспективы такой головокружительной и неожиданной, с неба будто и впрямь свалившейся, ему опять вдруг стало радостно и спокойно жить! Верить, мечтать и любить, на светлое будущее надеяться! Даже и болезнь уже не пугала его, не рвала, не терзала как прежде душу. Потому что он был твёрдо уверен, он уже точно знал, что как только попадёт домой, порог родной переступит и увидит отца и мать, сестрёнку и брата, – он быстро с болезнью справится!…
Двадцать шестого мая, отсидев в интернате последний урок, он прибежал сломя голову в комнату, собрал там свои вещи быстро, сбегал – книги в библиотеку сдал, чтобы за лето не растащили, потом – постельное бельё кастелянше. И рано утром следующего дня, захлёбываясь ветром весенним, он покатил, счастливый, на Павелецкий вокзал – на пригородную электричку на Ожерелье.
«Домой, быстрее домой! – к родителям!» – очумело повторял он про себя всю дорогу, с нетерпением ожидая встречи с городом своим дорогим, милой красавицей-родиной. Москвой он наелся в первый приезд – наелся досыта. Ему до боли хотелось уже тишины, покоя и уюта домашнего… И душевного праздника хотелось ему, простого тихого счастья, которое он имел когда-то, но которым по молодости не дорожил, не ценил по глупости, – и по которому весь последний учебный год так горько убивался-плакал…
28
Уже на следующее после приезда утро напуганная физическим состоянием сына мать повела Вадика в поликлинику. Придя туда часов в девять, они прямиком направились на приём к врачу-невропатологу, у которого лечились уже два года назад, во время первого приступа, и который здорово им тогда помог, за месяц с небольшим, считай, приведя застуженный лицевой нерв в первоначальное здоровое состояние.
Увидев Стебловых на пороге своего кабинета и вспомнив их сразу же, узнав, 38-летний красавец-врач удивился очень, выпучив на них глаза.
– Что у вас такое опять стряслось? – спросил он строго, впиваясь в щёку вошедшего первым Вадика профессионально-пристальным взглядом, от которого не способно было, наверное, ускользнуть ничто – ни один, даже самый потаённый, недуг или проказа внутренняя.
– Да вот, – едва сдерживая слёзы, нервно начала рассказывать Антонина Николаевна, на врача как на Бога тогда посмотрев, – опять у него щека дёргаться начала – да так сильно, что ему уже и слова нормально сказать нельзя: всего перекашивает при разговоре. Он, бедный, уже и руку-то от лица перестал отнимать – прячется всё от нас, стесняется очень.
Трясущаяся от волнения матушка готова была уже разрыдаться, истерику закатить в кабинете, но несентиментальный врач быстро осадил её.
– Так, тихо мамаша! – гаркнул он строго, как дрессировщик в цирке гаркает на зверей. – Давайте без нервов только и без этих ваших бабьих истерик, никому здесь не нужных и неинтересных. А ты, – сурово обратился он к стоявшему рядом с матерью Вадику, испуганному, бледному от волнения, – ты иди ко мне, садись вот сюда, на стул этот, и рассказывай всё по порядку, что у тебя стряслось, отчего такое ухудшение внезапное.
Усевшись перед красавцем-доктором на просмотровый стул, крутящийся во все стороны, Вадик потупился, задумался на секунду, соображая, с чего бы начать… Решив, что начинать нужно с самых первых симптомов, которые у него весною произошли, он принялся нервно и коряво ужасно, стесняясь собственного лица, кривившегося при разговоре, ладошкою всё его закрыть пытаясь, что очень не нравилось врачу, – он принялся объяснять невропатологу предысторию случившейся с ним беды. Он рассказал, как в сентябре прошлого года поехал учиться в Москву, в интернат колмогоровский, и как в начале апреля у него задёргалась там, в его новой школе, первый раз щека; как потом она стала дёргаться всё чаще и чаще, пока судороги её ни дошли до теперешнего непрерывного состояния, – а невропатолог в этот момент всё ощупывал и осматривал его жадно, омертвевшую щёку крепкими пальцами теребил – и только морщился и языком машинально цокал, недовольно при этом кривясь…
– Ну а что ж ты сразу-то ко мне не пришёл, парень: когда у тебя только-только всё началось? – сказал он, наконец, предварительный осмотр заканчивая. – Почему пришёл, когда уже половина твоего лица безжизненным стало? Почему вы все здесь, в провинции, ленивые такие и к собственному здоровью апатичные и равнодушные?! И креститься почему начинаете, когда уже гром во всю гремит?! когда молнии давно отсверкали?!…
Вопрос врача сбил с толку Вадика, поставил его в тупик: врач словно и не слышал того, что рассказывал он ему про Москву, про спецшколу столичную, про собственную учёбу там, пропустил это мимо ушей будто бы. Повторять же ему рассказ ещё раз Стеблов уже не решился.
Растерявшийся, он тогда посмотрел на мать: давай, дескать, помогай, рассказывай теперь ты ему, как всё дело было, если у меня это не получилось или получилось плохо.
– Мы же Вам говорим,– вступилась Антонина Николаевна за сына, – что у него это в Москве началось, в его новой школе. Не мог же он там сразу всё бросить и приехать сюда к Вам. Вот дождался конца учебного года – и приехал…
До врача, наконец, дошло сбивчивое сообщение про школу, в которой учился теперь его молоденький пациент, и он как будто заинтересовался услышанным.
–…А что это за школа, не понял, в которой ты сейчас учишься? – спросил он, на стуле собственном выпрямляясь и всё на щёку больную при этом косясь, всё хмурясь и морщась от её вида. – Что-то я ни разу не слыхал про такую.
– Её академик Колмогоров основал при Московском Университете, – ответил не без гордости Вадик, и не без хвастовства. – Там со всей России ребята учатся.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































