Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
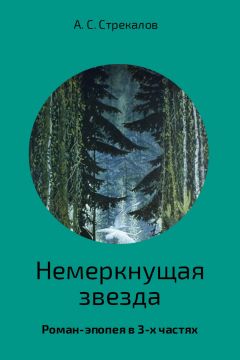
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
–…Провести вокруг них окружность можно, – тихо и неуверенно ответил Вадик… и сам тогда поразился, помнится, ответу своему, вырвавшемуся помимо воли.
– Так почему же Вы до сих пор её не провели-то?! – взорвалась негодованием аспирантка Ира. – Все листы вон исписали формулами дурацкими и ромбами с прямоугольниками, никому здесь не нужными!
Голос её всё жёстче становился, всё напористей; в нём появился мужской “металл”, окончательно её испортивший.
– Не знаю, – пожал плечами Вадик, смущённый и подавленный окончательно, с толку сбитый; после чего развернул поудобнее лист с чертежом и машинально нарисовал на нём окружность так, что три веером разбегавшиеся отрезка оказались радиусами той окружности…
Решение после этого высветилось само собой: известный по условию задачи угол “альфа” оказался центральным углом, а опирающийся на него искомый угол был, соответственно, углом вписанным и равнялся половине центрального угла, на который он опирался.
– Искомый угол равен величине “альфа”, делённое пополам, – едва не закричал Стеблов, в момент распрямившийся и просиявший. – Он же вписанный!
– Правильно, – в свою очередь улыбнулась тогда и его соседка, опять доброй и ласковой становясь, какой и была вначале. – Вот видите, как всё просто здесь оказалось… и как легко. Не нужно только спешить и не нужно нервничать. Ни к чему хорошему, запомните это, спешка и истерика никогда Вас не приведут. Математика не терпит нервозности и суеты. Как и наука в целом…
После этого дела у Стеблова покатились так, как блины катаются по сковороде – до бела разогретой, растительным маслом смазанной. Решив свою первую на экзамене задачу – красиво решив, можно сказать – изящно, пусть даже и с небольшой подсказкой, – он воспарил и окреп душой, уверенность в себе почувствовал, кураж и ухарство молодецкое, жажду жизни, борьбы… И девушку Иру он опять полюбил, красотой и умом её пуще прежнего очаровываясь, надёжный контакт быстро наладил с ней, без которого их дальнейшее общение превратилось бы для обоих в пытку.
На том экзамене ему было предложено ещё четыре задачи, и все четыре успокоившийся и уже по уши влюблённый в свою экзаменаторшу Вадик, наученный горьким опытом задачи под номером один, решил, что называется, на ура, за двадцать-тридцать минут каких-то. В каждой из них, как и в первой, была хитро спрятана своя невидимая простым глазом “окружность”, заключавшая в себе всю силу задачи, весь её тайный смысл, которую одну и искал Стеблов, уже сознательно и солидно, и которую находил, в итоге.
– Ну что ж, хорошо, – сказала довольная аспирантка (Ирой Бадешко которую звали и которую благодарный автор помнил потом всю жизнь), выслушав его соображения по поводу решения пятой, последней по счёту, задачи; и потом, подумав, спросила напоследок, листая его документы – характеристику из школы, свидетельство о рождении, учётную карточку с фотографией: – Вас Вадик зовут?
– Да, – ответил смущённый и немного уставший абитуриент, вначале чуть-чуть перенервничавший.
– Я что Вам хочу сказать, Вадик: экзамен, в целом, Вы сдали неплохо, только… – девушка медлила, подбирала слова. -…Поскольку, я думаю, – не спеша продолжила она далее говорить, – экзамен этот не станет в Вашей жизни последним, – хочу Вам под конец дать небольшой совет. Парень Вы, как мне кажется, хороший и думать умеете: с логикой и дедукцией у Вас всё в порядке. Знания у Вас тоже есть, и приличные, как я заметила. Только… будьте чуть-чуть поспокойнее на экзаменах, посолиднее что ли; знайте себе цену, короче, учитесь держать себя, владеть собой – это Вам в будущем сильно поможет. Вы, на мой взгляд, излишне подвижный и нервный какой-то: ненужных эмоций много у Вас как у плохого актёра, которые Вас захлёстывают и мешают… А на экзаменах так нельзя, как и в науке той же, в которую Вы стремитесь. Тут надо степенным и солидным быть, предельно спокойным и сдержанным. Иначе всем вашим знаниям и способностям – грош-цена: никто их не заметит и не оценит, если Вы будете вот так же вот вечно дёргаться и истерить, как сегодня вначале нашей с Вами работы… Вы меня поняли, надеюсь? – серьёзно и как-то по-особому ласково спросила она, подчёркнуто внимательно взглянув тогда на Стеблова.
– Понял! – ответил сияющий счастьем Стеблов, исполненный благодарности.
– Ну вот и хорошо, – улыбнулась девушка на прощание, одаривая обезумевшего от восторга парня изумительной белозубой улыбкой. – А теперь идите и настраивайтесь получше на второй экзамен. Ни пуха Вам, ни пера…
12
Героем-триумфатором выбегал в коридор Стеблов – счастливым до крайности, сияющим, гордым – и сразу же бросился разыскивать там дружка Сашку, в суете оставленного и забытого, чтобы поделиться с ним радостью от сданного только что экзамена. Но Сашки в коридоре не оказалось. Исчез куда-то дружок.
«Где же это он? – растерялся Вадик, продираясь сквозь плотную толпу ожидавших экзаменов земляков. – Может, в туалет зашёл – освежиться?…»
Но Сашки не было и в туалете…
Совсем уже сбитый с толку, Вадик вернулся назад и, тихонечко приоткрыв дверь, заглянул ещё раз в аудиторию, из которой только что вышел.
Предположение его оказалось верным: дружок его кучерявый сидел на второй парте дальнего от двери ряда и что-то с жаром объяснял в тот момент лысоватому полному аспиранту – бригадиру приехавших москвичей. Через парту от него Стеблов заметил и Чаплыгину Ольгу, склонившуюся на задачей.
«Когда же это они успели зайти-то? – про себя подивился он, дверь за собой заслоняя. – Ни Ольгу я не заметил, входившую, ни Сашку».
Бурный послеэкзаменационный восторг его, без пользы перебродив в душе, потихонечку пошёл на убыль, вздыбленные чувства гася. Мысленно пожелав обоим своим товарищам лёгких задач и приветливых и добросовестных экзаменаторов, успокоившийся от пережитого Вадик стал настраивать себя уже на следующее плановое испытание – экзамен по физике, который он намеревался сдать не менее успешно.
Ждать ему недолго пришлось: уже минут через десять его пригласили в соседнюю аудиторию, где два молоденьких аспиранта-первогодка физического факультета МГУ проводили с поступавшими в спецшколу школьниками собеседование по своей специальности. Это было именно собеседование, дружеское и непринуждённое, с каждым абитуриентом – без формул, цифр и задач, без карандашей и бумаги даже, – во время которого выяснялись самые общие представления экзаменуемого о строении окружающего мира, знание глобальных законов его, основ существования и развития. Ничего другого от желторотых восьмиклассников требовать было нельзя – при всём, так сказать, желании. Ибо настоящей физики, кроме разве что первых беглых знакомств с основами классической механики, им к тому времени в школе и объяснить-то как следует не успели.
Пригласив Стеблова в аудиторию, экзаменаторы посадили его между собой и поочерёдно стали задавать различной сложности вопросы как два заправских следователя: то что-нибудь про строение Земли спросят, то перейдут на Космос; то опять вернутся на Землю – к расположению её в структуре Солнечной системы, соседям ближайшим и спутникам… Потом его спросили совсем уж простенькое: о соударяющихся шарах различной массы, скоростях и траекториях их разлёта после предполагаемого столкновения. Вадик быстро и уверенно начал что-то там отвечать, но потом, после уточняющего вопроса, не верно им понятого, запутался, занервничал по привычке. Ну и давай нести парням какую-то непотребную околесицу.
Естественно, что ребята-экзаменаторы остановили его, справедливо попросили не спешить с ответом, а лучше попросили вспомнить для начала третий закон Ньютона, напрямую касавшийся данного вопроса, – после чего наш Вадик совсем замолк, словно воды в рот набравши. Он усиленно стал вспоминать третий закон динамики, который совсем недавно им объясняли в школе – и не смог этого сделать: забыл! Вместо него на ум два других динамических закона упорно лезли, при помощи которых их восьмой “А” уже месяц как на уроках задачи решал и которые ввиду этого хорошо запомнились и отложились, были давно на слуху. Последний же – третий – закон, не подкреплённый как следует практикой, вылетел из головы как шарик скользкий, который второпях невозможно было найти, который даже где и искать-то непонятно было… И как ни тужился за столом Стеблов, как ни старался, ни напрягал память, – вспомнить он в тот момент так ничего и не смог, ничего даже близко похожего.
–…Я забыл этот закон, парни, – понимая, что его ждут, через минуту-другую хрипло не то прошептал, не то пропищал он, сдерживая на глазах слёзы. – Нам его совсем недавно в школе рассказывали: я помнил его, хорошо помнил… а теперь забыл.
Стиснув до хруста зубы, зажмурившись как паяц и как гранат разрезанный побагровев за партой, он опять что есть мочи злополучный закон было попытался вспоминать, невесть куда запропастившийся, при этом раздувшись от напряжения так, что сидевшим подле него аспирантам, наверное, даже жарко сделалось как у раскалённой печки… Но и на этот раз он ничего не вспомнил, совсем ничего – хоть плачь! У него, от усталости, вероятно, произошла полная парализация памяти…
– Да ладно! не мучайся ты так! – засмеялись экзаменовавшие его ребята, хлопая его, несчастного, по плечу. – Бог с ним, законом этим! Ты же первые-то два знаешь? – уже хорошо!
– Конечно, знаю! Конечно! – выпрямляясь и широко глазища распахивая, нервно выпалил Вадик, после чего быстро-быстро, сбиваясь и запинаясь на каждом слове, начал рассказывать сидевшим подле него москвичам выученные назубок формулировки двух первых законов классической механики – чтобы хоть как-то сгладить ответом своим последнее негативное о себе впечатление.
– Ну вот, всё правильно, – выслушав нервные объяснения, сказали ему аспиранты дружно, весело переглядываясь между собой. – Два первых закона знаешь твёрдо, прямо как «Отче наш»; и третий закон знаешь – мы тебе верим. Забыл просто, переволновался излишне – вот и всё: с кем не бывает. А сейчас выйдешь в коридор, успокоишься, в себя придёшь – и сразу же вспомнишь… Всё нормально у тебя, всё путём – не волнуйся, главное!
Они взглянули ещё разок на жутко расстроившегося восьмиклассника, распухшего, красного от волнения, и вправду готового разрыдаться, которого им, по-видимому, стало искренне жаль и которого они далее не захотели мучить.
– Всё, можешь идти отдыхать, до свидания, – сказали они ему. – И позови к нам следующего: кто там к дверям поближе стоит…
13
Со второго экзамена, наоборот, Стеблов выходил уже в таком состоянии, в каком пребывают люди, проигравшие в жизни всё, что только могли проиграть, оставшиеся, как говорится, у разбитого и гнилого корыта. Безудержный восторг от математики глубоким отчаянием в нём сменился, которому в обозримом будущем не видно было конца.
В коридоре возле окна он сразу же увидел Сашку, такого же сумрачного и жалкого на вид, с кругами тёмными под глазами.
– Ну что? как физику сдал? – равнодушно спросил он, когда Стеблов сквозь толпу к нему, наконец, протолкнулся; и было заметно, что для одной лишь проформы он это спросил, для приличия, при этом думая о своём, которое было ему дороже, естественно.
– Плохо, Сань! – ответил Вадик расстроено и тут же, не останавливаясь, принялся выплёскивать на приятеля сжигавшую его душу боль. – Представляешь, – стал жаловаться он, – я третий закон Ньютона напрочь забыл! Первые два помню, хорошо помню, а третий – хоть убей! – вспомнить никак не могу! Скажи, как он хоть звучит-то?
Невесело ухмыльнувшийся Збруев нехотя рассказал ему классическую формулировку третьего закона Ньютона, после чего с отчаянья всплеснувший руками Вадик на чём свет стоит стал материть себя и свою “бестолковую голову”, не способную вместить и удержать на время столь элементарной формулировки… Набесившись и наругавшись смачно, злость с раздражением из себя горячим словесным потоком выпустив, он только тогда вспомнил про стоявшего рядом и всё время молчавшего Сашку, совсем и не слушавшего его, в себя глубоко ушедшего.
– Ну а у тебя самого-то, кстати, как дела? – спросил он, наконец, выговорившись, замечая, что Сашку не очень-то и трогают его дела и проблемы, что у него хватает своих.
–…У меня тоже плохо, – не сразу ответил тот, вздохнув тяжело при этом, на Вадика и не посмотрев. – По математике я всего одну задачу решил из пяти, и ту – с подсказкой. Экзаменатор со мной под конец неласково как-то расстался, даже и “до свидания” не сказал, не улыбнулся ни разу… Теперь, видимо, всё: про школу эту можно забыть, и смело на ней жирный крест ставить… Илья пять лет назад мимо неё пролетел со свистом, а за ним теперь и я вдогонку.
– А чего так мало решил-то? – искренне удивился Вадик Сашкиному рассказу. – По математике-то задачи вроде бы не архисложные предлагали. Там просто подумать надо было чуть-чуть, найти в каждой свою изюминку; а дальше там уже – дело техники.
Збруев фыркнул в ответ, поморщился недовольно и вроде как даже с ехидцей.
–…Кто его знает, почему так мало, – пожал он плечами холодно. – Может, перегорел я; а, может, задачи такие попались, что и не решить. Именно архисложные, как ты говоришь, и именно мне. Экзамены – дело непредсказуемое, как лотерея… Да и экзаменатор это ещё – гнида! – бригадир их. К каждой ерунде цеплялся, гад, к каждой мелочи! То это ему не так, то другое что-нибудь. Козёл вонючий!… А ты сам-то что, всё решил что ли? – с недоверием поднял он на Стеблова карие и особенно колючие в тот момент глаза, в которых отчётливо просматривалось уже плохо скрываемое раздражение.
– Да! Вроде бы всё! – ответ добродушный последовал. – Первую задачу я, правда, тоже с небольшой подсказкой осилил; но зато остальные четыре решил сам, и все – чисто.
– Молодец! Тебя послушать – так ты прямо гений у нас, – недобро съязвил на это посуровевший Збруев, ещё больше от услышанного кривясь, позеленев от услышанного. – Что же ты, такой гениальный, на областную олимпиаду-то позавчера тогда не пошёл? Всех бы там раскидал и заткнул за пояс.
В его нервном голосе, в выражении его серого веснушчатого лица в тот момент Вадик впервые заметил уже плохо скрываемую неприязнь, зависть подлую и холодную к своим первым и таким ещё скромным победам; заметил – и поразился этим открытием крайне, немало расстроился и огорчился им. Крохотной ядовитой капелькой запало оно ему в душу, смутило и отравило её, горький след после себя оставило, который выветривается с трудом. Если вообще выветривается…
Разговор у них после этого прекратился, молчанием тягостным обернувшись. Друзья стояли молча друг против друга, недовольные и расстроенные, – морщились, нервно с ноги на ногу переминались, прятали друг от друга глаза.
–…Ну теперь хоть физику сдай хорошо – всё легче будет, – первым нарушил молчание Вадик, намереваясь побыстрей примириться… и заодно лёд растопить, что в их отношениях образовался.
– Да физику я уже сдал, – поморщился Сашка, продолжая не глядеть на Стеблова, на сторону стараясь глядеть.
– Как сдал?! когда?!
Вадик опешил.
– Когда ты математику сдавал… Ты просто в первую группу попал, а мы с Чаплыгиной вашей – во вторую… Пока твоя группа в первой аудитории сдавала математику, мы тут, – Збруев ткнул пальцем на дверь, из которой друг его расстроенный только что вышел, – успели физику быстренько проскочить. Минут по пять, наверное, на каждого из нас экзаменаторы и потратили.
Глаза его вроде как потеплели чуть-чуть, лицо просветлело и разгладилось, когда он всё это живописал. Но ненадолго, как выяснилось.
– Ну и как ты её сдал, расскажи? – стал допытываться Вадик, распираемый любопытством; сообщение о сданной физике стало для него полной неожиданностью.
– Да нормально, нормально. Чего там сдавать?! – Сашка безрадостно махнул рукой. – Это разве ж экзамен?! Сели втроём за парту, поболтали ни о чём – и разошлись. Они и оценок-то, по-моему, никому не ставят – галочки только: сдал – не сдал, пришёл – не пришёл… Математика здесь главная, понимаешь?! – а математику я так бездарно и пошло завалил!… Задачи мне какие-то чудные достались, головоломные, ядрёна мать! Я таких задач никогда до этого и в глаза-то не видел – попробуй, реши их сходу, с листа.
Рассказывая, Збруев опять начал заметно киснуть и чернеть лицом, в глубокий пессимизм ударяться, и под конец договорился до того уже, что зря он вообще, мол, сюда приехал и зря поддался месяц назад на безумную авантюру Стеблова.
– Я ж и учиться-то в эту школу не собирался ехать, даже если б и поступил! – расстроенный, говорил он. – Так и зачем, спрашивается, мне нужны были эти экзамены сраные и эта сегодняшняя нервотрёпка?! Сидел бы себе сейчас спокойненько дома и ни о чём не думал: чай бы с вареньем попивал, да по телевизору футбол или кино смотрел. Дурак я, что в это дело ввязался! наивный беспробудный дурак!
Стоявший с ним рядом Вадик виновато выслушивал не на шутку разошедшегося дружка и пытался по мере сил хоть как-то его утешить. Но получались те утешения не убедительными – потому как и сам он был тогда не в себе, и сам нёс в сердце своём огромных размеров занозу.
«Закон Ньютона позабыл, а! – раз за разом сокрушался он мысленно, стоя подле метавшего громы и молнии Сашки. – Стыдоба-то какая!… Экзаменаторы теперь, небось, от души посмеются в Москве, про меня знакомым рассказывая; скажут: ну и деревня там к нам приезжала, товарищи, глухая беспросветная деревня! У них там, скажут, наверное, одна книжка и существует на всех, да и та – с картинками…»
Так они и стояли вдвоём у окна, каждый о своём напряжённо думая, о своём сокрушаясь, – оба предельно расстроенные, побитые и несчастные! – пока, наконец, вышедший из первой аудитории бригадир аспирантов ни объявил на весь коридор, что приёмные экзамены в интернат завершены, и что все абитуриенты теперь могут смело по домам разъезжаться и ждать результатов экзаменов уже дома. После этого Вадик с Сашкой направились вместе со всеми в столовую, где израсходовали оставшиеся у них талоны на сладкие пирожки и булочки, которые оба повезли домой – угощать родителей; потом собрали вещи в гостинице, сдали ключи, сели вместе с командой в автобус и назад поехали.
Всю дорогу до дома они почти не разговаривали, сидели молча как сычи; только изредка носами шмыгали, болезненно морщились да в окна отрешённо поглядывали, причём – каждый в своё. Сашка всё горевал о тех нерешённых задачах по математике, выбивших его из колеи. Вадик – о выпавшем из головы фундаментальном законе природы, формулировку которого он, как помешанный, всю дорогу про себя повторял… и удивлялся только, отчаянно тряся головой, как это мог он, тупоголовый, забыть и не вспомнить в нужный момент такое простое и очевидное до глупости утверждение.
Вернувшись в город к вечеру ближе, друзья простились сухо и холодно возле дверей ГорОНО, неохотно обменялись вялым рукопожатием. После чего поспешно расстались и, обессиленные, побрели домой каждый своей дорогой, при этом даже и не оглянувшись назад, ни разу пламенно не взглянув друг на друга, что было у них ритуалом с первого дня, что для обоих превратилось в традицию…
14
А дома Вадика уже ждала вся семья, и ждала с нетерпением.
– Ну как всё прошло, рассказывай?! – бросились к нему навстречу сестрёнка с братом, за которыми последовали и родители.
– Сейчас, подождите, – неласково отстранил он родных, заходя в дом невесело, разуваясь и раздеваясь неспешно.
Раздевшись, он подошёл к столу, выложил на него привезённые булочки к чаю, что давно остыли уже, после чего нехотя, без какого-либо энтузиазма, стал рассказывать о трёх проведённых в областном центре днях и о прошедших утром экзаменах в колмогоровскую спецшколу; рассказывал, вопреки всегдашней своей манере, только самую суть, самое главное из пережитого, без сожаления пропуская малозначительные куски, к делу напрямую не относящиеся. Про экзамены и вовсе сказал всего несколько слов: что математику вроде бы сдал, и сдал неплохо; а вот с физикой, наоборот, сел в лужу, не ответив на простейший школьный вопрос, который, скорее всего, окажется главным.
– А что теперь будет? – не знаю, – сокрушённо развёл он, уставший, руками, заканчивая невесёлое повествование. – Остаётся только сидеть и ждать: как там в Москве решат, как способности и знания мои оценят…
Рассказ сына и брата в тихий ужас семью Стебловых поверг и совершеннейшее расстройство одновременно. Выслушав всё до конца и почувствовав, что дела у Вадика не важнецкие и не весёлые, не проронившая ни единого слова семья понуро разбрелась по разным углам – заниматься кто чтением, кто домашним хозяйством. И долго ещё хранила в заболевших душах своих угнетенно-унылое состояние.
И только отец Стеблов, не очень-то и одобрявший с первого дня решения сына ехать в какой-то там интернат поступать, пусть даже и московский, недовольно проворчал в ответ, тяжело поднимаясь со стула:
– Да-а-а! Учишь вас, учишь, жилы из себя последние на работе рвёшь, – а вы простых вещей не знаете… и знать не хотите. Балбесы!… А ещё про Ломоносова мне рассказывал байки, про Лобачевского с Менделеевым!
Отец безнадёжно махнул рукой, поморщился укоризненно и даже брезгливо – и вышел из дома во двор, не сказавши более вернувшемуся с экзаменов сыну ни единого утешительного слова…
Молчаливый уход отца – честного и уважаемого на работе труженика, работяги с одиннадцати лет (потому что война началась! и семья без кормильца осталась!), – отцовская усмешка недобрая, почти что презрительная больно тогда хлестнули Вадика – по самолюбию, гордости, сердцу, – куда больнее даже, чем неудачно сданный экзамен. Он отчётливо понял в тот вечер, всем естеством почувствовал, оставшись дома один, всеми отвергнутый и забытый, что неудачником в жизни категорически быть нельзя – не при каких обстоятельствах! Потому что их страшно не любят, не терпят люди, даже самые близкие и родные тебе, даже и отец с матерью!
Поэтому, если уж взялся за что-то – то делать всё начатое и задуманное нужно предельно качественно и хорошо, по возможности – лучше всех. Или – не делать вовсе…
15
Но как ни корил он себя после экзаменов, ни чернил, как ни настраивал и ни внушал, что в интернат не поступит, – ответа из Москвы, однако ж, он ждал каждый день, каждую секунду почти о московской спецшколе думал. Ожидание положительного исхода и положительного известия постоянно жило в нём, ежедневно – как и любовь – в разговоре прорывалось наружу. А разговаривал о сокровенном он только с одним человеком – Збруевым Сашкой, который был в восьмом классе его несомненным духовником, первым по жизни наставником и советчиком.
– Как думаешь, Сань, пришлют нам с тобой приглашения в эту школу? – выбирая подходящий момент на переменах или прогулках в парке, робко спрашивал он дружка, при этом всякий раз нервную дрожь испытывая, волнение душевно-сердечное.
– Я не думаю – я уверен, что не пришлют! – ухмыляясь беспечно и беззаботно, с лёгкостью отвечал Сашка как о чём-то давно решённом и уже не интересном ему… и тут же хитро добавлял с ехидцей: – Во всяком случае, мне… Наивный ты всё-таки парень, Вадик, честное слово! – далее продолжал балагурить он, пуще прежнего распаляясь. – Вспомни, сколько на тех экзаменах народу-то было! Вспомни, не поленись! Ну-у-у!… А учиться туда возьмут с нашей области человека три-четыре, не больше. От силы – пять, максимум – шесть, если уж очень сильный кто попадётся… Неужели ж ты думаешь, что кроме нас с тобой достойнее кандидатов не сыщется, не найдётся?… Да мы даже на областную олимпиаду идти побоялись: поняли, что пролетим, – а ты всё мечтаешь ходишь, чтобы нас в интернат приняли. Чудак!
Легкокрылый и легкоязычный Сашка от души хохотал над наивной самоуверенностью Стеблова, и видно было по его поведению и счастливо блестевшим глазам, что с собственным поражением он давно смирился, давно похоронил мечту-желание поехать учиться в Москву, которой у него, скорее всего, никогда и не было-то.
Разудалая легкомысленность Збруева, равно как и его наплевательское, подчёркнуто-равнодушное отношение к их недавней серьёзной и важной затее, в которую было вложено уже столько сил, энергии, времени, страсти, про которую, наконец, стало в школе известно, – всё это было крайне-неприятно Вадику, болезненно и угнетающе на него действовали. Он бледнел, напрягался, раздражался душой, слушая такие ответы, – но виду не подавал, старался быть совершенно спокойным.
–…Ну-у-у сразу, конечно, могут и не принять, согласен, – выждав паузу и с духом и силами собирясь, возражал он упрямо дружку, правила приёма в интернат вспомнив, назубок им уже заученные. – А на летние сборы могут и вызвать. Уж туда-то, я думаю, побольше народу возьмут… Подучимся там месячишко: может, глядишь, и поступим.
– Да ты прямо блаженный какой-то, Вадик, ей-Богу! – летние сборы! – взрывался негодованием Сашка. – Что они на летние сборы всю нашу область пригласят, что ли?! Нужны мы им там больно, чтобы нас задарма поить и кормить!… И не мечтай даже: выбрось подобную ересь из головы… Здесь, я думаю, так будет, – со знанием дела резюмировал он, – и мать моя точно так же считает, – что всех победителей и призёров областной олимпиады в Москву возьмут сразу, вне конкурса: если они захотят там учиться, разумеется, денежки за учёбу платить, и немаленькие, как я слышал! А ещё человек пять, к ним в довесок, пригласят на эти самые сборы летом – и всё. Человек восемь-десять, в итоге, со всей нашей области и наберётся. И это – в лучшем случае!… Вот и прикинь теперь: попадёшь ты в эту заветную десятку или не попадёшь?
Сашка в упор, ухмыляясь, смотрел на Вадика, ответа от того ждал.
–…Сложновато будет, – тяжело вздохнув, с неохотой отвечал Стеблов, как индюк сердитый наливаясь кровью. Не по душе ему были эти холодные, безжалостно убивающие всякую надежду расчёты, совсем не по душе! Не нравилось ему также и то, что Збруев старательно и настойчиво к земле его пригибал, песне его молодой наступал на горло…
– Вот именно – сложновато! – сиял, между тем, самодовольный Сашка. – Невозможно даже, если начистоту! Без малейших на успех шансов!… Так что давай-ка ты, дружок, не мучайся понапрасну и не ломай мне и себе голову всякими там бредовыми и абсолютно-дикими фантазиями и прожектами, планами несуразными. И мой тебе совет, – обычно в конце разговора развязно хлопал он Вадика по плечу, или же по-дружески ему указательным пальцем в грудь тыкал. – Плюнь ты поскорее на эту нашу с тобой затею, совершенно, надо сказать, дурацкую, плюнь и забудь. И живи себе спокойно, попроще и поскромней, как я, например, живу. Наслаждайся жизнью.
По лицу его предельно-счастливому и глазам сияющим было видно, что живёт он и впрямь неплохо. И ничего не собирается в жизни своей менять…
«Не мучайся, не думай, не ломай; не строй иллюзий и планов», – болезненным утомительным эхом отзывались, между тем, в голове Стеблова противные Сашкины наставления, которые больше походили на издевательство, чем на реальную помощь с его стороны, или хотя бы дружеское сочувствие. Как мог он не мучиться и не думать, когда всеми мыслями и всем существом своим давно уже был в Москве, на знаменитых горах Ленинских, как короной украшенных Сталиным уже перед смертью величественным зданием невиданной красоты – сокровищницей всечеловеческой мудрости. И не только был, но и мысленно варился по вечерам и ночам в научном вареве Московского Университета; и уже даже втайне ото всех примеривался к почётнейшей академической стезе, немеркнущей научной славе. Только эта стезя интересовала его, только она одна, повторимся ещё раз, имела теперь для Вадика безусловный смысл и значение… Всё остальное в его глазах было мелко и несерьёзно, и не стоило уже давно и гроша – даже самого ломаного и ржавого…
– Ну а вообще-то, безотносительно нас с тобой, когда должны присылаться решения приёмной комиссии тем, кого зачисляют туда, как ты думаешь? – подавляя возникавшую в душе неприязнь, обращался он, расстроенный, к Сашке, пытаясь получить от него хоть какой-то полезный и позитивный ответ на мучившие его вопросы.
Сашка хмыкал себе под нос, кривил усмешливо губы, головой кучерявой удивлённо качал, искренне поражаясь, видимо, твердолобости своего упрямого товарища.
–…А ты сам-то прикинь своей головой, когда должны присылаться, – помедлив, отвечал с вызовом, разговаривая со Стебловым как с ребёнком малым. – Перед летними месячными сборами, наверное, – потому как присылаться решения будут сразу всем: и тем, кто хорошо экзамены сдал, и тем, кого ещё раз захотят проэкзаменовать летом на сборах этих… А когда могут проводиться сборы, как ты думаешь?
– Не знаю – когда, – пожимал плечами Вадик, всё более и более раздражаясь. – В любое время могут провестись.
– А вот и неправильно: не в любое, – возражал Сашка. – В июне, например, они проводиться не могут точно, потому как до середины июня у всех восьмиклассников нашей страны – и у нас с тобой, заметь, тоже! – будут проходить выпускные экзамены… Оставшиеся после них две июньские недели, скорее всего, дадут отдохнуть. А вот начало или середина июля для сборов – самая подходящая пора. Месяц будут готовить, потом ещё раз проведут вступительные экзамены; ну и ещё пару-тройку недель останется для заключительного отдыха перед первым сентября… Так что, ежели летние сборы будут проводиться в июле – а оно, по-видимому, так и будет, – итожил Збруев свои рассуждения, – значит, в середине или в конце июня должны всем разослать приглашения – всем, кто поступит, разумеется…
Внимательно всегда выслушивавший скрупулезные Сашкины подсчёты, вполне его убеждавшие, Вадик задумывался.
–…Значит… если до первого июля приглашений нам не пришлют, – можно с уверенностью считать, что нас с тобою не приняли, – после длительного раздумья тихо заключал он вслух, уже ни к кому конкретно не обращаясь.
– Да, скорее всего так, – охотно подтверждал Сашка. – Начало июля – последний срок. После этого ждать уже нечего будет…
16
Положительного ответа из Москвы ожидал не один только Вадик, – ждала и вся его дружная и на редкость сплочённая семья. Причём, ждала с не меньшим волнением и нетерпением, чем он сам, хотя виду никто и не подавал – все держались стойко.
В разговорах же между собой домочадцы-Стебловы, от мала и до велика, то и дело поминали школу, известным академиком созданную. Обсуждали её саму и её порядки диковинные, почти что царские, что так красиво, ярко и так умело в брошюре были преподнесены; ну и, конечно же, обсуждали по вечерам вероятность возможного поступления туда их старшего сына и брата. Все рассчитывали на успех, желали Вадику только победы. И все ждали упорно, каждый Божий день ждали скорейшей благополучной развязки…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































