Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
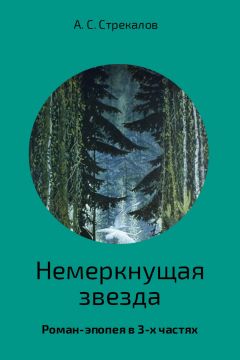
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Поначалу Вадик, успевший занять место в первом ряду, не сразу и разглядел через головы сидевших в зале товарищей вошедшего через заднюю дверь пожилого сутулого человека: настолько тот был приземист и низкоросл. Это обстоятельство, однако ж, ни сколько не уменьшило и не умолило того восторга и счастья детского, неописуемого, которые вместе со всеми испытал Стеблов при виде живого настоящего академика, учёного-математика с мировым именем, главу Московского математического сообщества и члена десятков зарубежных академий наук, увенчанного к тому времени уже всеми существовавшими в стране титулами, учёными званиями и наградами. Одних орденов Ленина, а это был высший правительственный орден в советское время, насчитывалось целых семь. Имелась Сталинская (1941 г.) и Ленинская (1965 г.) премии. И даже Золотая звезда Героя Социалистического труда (1963 г.) красовалась по праздникам на лацкане его пиджака, что говорило об особом, исключительно благосклонном расположении к нему со стороны советского государства и его руководителей.
Обогнув длинные ряды приставленных друг к другу парт с сидевшими на них новобранцами, ошалело на него, как на чудо земное, взиравшими, всю дорогу о чём-то напряжённо думавший и потому никого не видевший вокруг себя академик подошёл к возвышавшейся на другом конце зала сцене, к стоявшему на её краю небольшому столику, положил на него толстую восьмидесятикопеечную тетрадь, находившуюся у него под мышкой, после чего развернулся шустро, непроизвольно ботинками друг о дружку щёлкнув, вышел на середину площадки, разделявшей сцену и зал, – и только тогда, подняв на аудиторию узкие, сильно сощуренные глаза, казалось, заметил присутствующих. Сухо всем улыбнувшись краями выцветших губ, он поздоровался с притихшими, дышать переставшими учениками, поздравил их с успешным преодолением нелёгкого, по его мнению, экзаменационного барьера и прибытием в Москву, в организованную им спецшколу; после чего, опустив на грудь голову, прежнее положение ей придав, он опять решительно ушёл в себя и всё остальное говорил уже откуда-то издалека, из пещеры внутренней будто бы, – и делал это коряво, невнятно и неразборчиво, как голубь на крыше курлыкал, второпях проглатывая и коверкая буквы, одну из которых, букву “P”, он отчётливо и изящно грассировал.
Много лет спустя, будучи уже взрослым человеком, Стеблов слышал откровения одного заслуженного педагога, не один десяток годков проработавшего во Всероссийском обществе “Знание” и поднаторевшего там на докладах и выступлениях перед большими аудиториями, – слышал, что опытные лектора, как правило, перед началом лекции пристрастно осматривают свою публику, внимательно изучают её, душу родственную разыскивают. И потом, отыскав в зале наиболее понравившегося человека, начинают рассказывать далее уже как бы только для него одного, постоянно держа в поле зрения его глаза, его реакцию на свои слова и мысли. Это позволяло им, таким образом, делать сухую и бесстрастную лекцию-монолог максимально доходчивой и живой, с полным – как и при диалоге – ощущением благотворной обратной связи, идущей к лектору со стороны, от того молчаливого, но внимательного и заинтересованного соучастника, – чтобы корректировать выступление при желании, вносить в него, если потребуется, посильные изменения и поправки… Так вот, у Андрея Николаевича подобного контакта-взаимодействия с аудиторией не было совсем, а происходило всё с точностью до наоборот: лектор-Колмогоров этим мудрым древним приёмом никогда не пользовался, про который, вероятно, даже и не знал – и свои выступления поэтому строил так, будто бы аудитория, в которой он в тот момент находился, была совершенно пуста; а он, свободно разгуливавший по ней, будто бы ещё только готовился к докладу, репетировал его в одиночестве.
Именно таким манером – по-хозяйски расхаживая по сцене взад-вперёд и не глядя ни на кого из присутствовавших, а всё время лишь под ноги себе упорно смотря, будто выиcкивая там что-то или боясь упасть, и по ходу движения намеченное невнятно бубня, с натугою подбирая словечки нужные, правильные, да ещё и меняя и сортируя их суетно во время рассказа, будто бы пазлы переставляя в известной детской игре, – именно так он и начал рассказывать сентябрьским погожим утром девятиклассникам-новичкам и пришедшим на лекцию преподавателям предполагаемую программу обучения по своему предмету на текущий учебный год. А сидящий в первом ряду Вадик, не сводивший с лектора глаз, восторгом и счастьем обуреваемый, всё силился, беспрерывно ёрзая и вертясь на парте, нагнуться и изловчиться так, чтобы хоть один разочек в глаза седому как лунь академику заглянуть, в самую сердцевину их, в крохотные точки-зрачки. И на миг мимолётный, краткий приобщиться к тайне этой великой и необъятной, как казалось, души, прикоснуться к Божественной силе живущего внутри Героя-академика гения.
Однако же сделать этого за целую полуторачасовую лекцию он так и не смог ни разу. Глубоко и прочно глаза Колмогорова были спрятаны в плотно прищуренных глазницах, желтовато-серых, одутловатых как у почечника, так что даже и цвета их приблизительного определить было нельзя. За семью замками держал Андрей Николаевич содержимое своей души, если исходить из расхожего мнения, что глаза – суть её прямое и не врущее никогда зеркало.
Зато всё остальное Вадик сумел разглядеть и запомнить отлично: и большую седую голову академика, добротно подстриженную и ухоженную, и его огромных размеров нос, выпуклой вверх дугою нависший над маленькими губами, и даже ботинки чёрные, кожаные, до блеска начищенные кремом, носы которых, как у клоуна, были смешно так задраны вверх… Разглядел Вадик и руки Андрея Николаевича, ладони и пальцы их – крепкие, жилистые, трудовые, с короткими корявыми пальцами, совсем даже не интеллигентскими, не академическими. Запомнил его потешную манеру при выступлении машинально ладошки друг о дружку тереть, густо пачкая их, а заодно и костюм свой простенький зажатым между пальцами мелом. Из-за чего к концу второго лекционного часа он становился на повара очень похож, белый фартук на себя напялившего и в таком виде на сцену вдруг выскочившего – публику посмешить.
Весело, право-слово, было смотреть на него в последние минуты – белого с головы до ног, картавого, возбуждённого, суетящегося, как кузнечик скачущего возле доски, что-то там бессвязное лепечущего…
После 15-минутного сумбурного вступления началась сама лекция – такая же потешная от первой и до последней минуты, как и слово приветственное, ознакомительное. Читал её косноязычный Андрей Николаевич коряво и ужасно путано на удивление – прямо как неуч-студент, ей-богу! – без какой-либо оглядки на юных слушателей, повторимся, на аудиторию. Причём, рассказывая, он постоянно заглядывал в тетрадь, которая, однако ж, не помогала. Лекцию без конца сопровождали, к тому же, его бурные эмоциональные выбросы, для серьёзной математики неприемлемые и неуместные.
Набравшись храбрости, скажем без злости, не погрешив против истины, что объяснять со сцены Колмогоров не умел совершенно, хотя и числился не один десяток лет профессором Московского Университета (с 1931 г.), и вроде бы собаку на этом деле съел. Однако ж, слушать его словесную научную чехарду с некоторой пользою для себя имело смысл только тем людям, кто был уже хорошо знаком с освещаемым материалом, успел самостоятельно повозиться и разобраться с ним – и потому мог в путаном колмогоровском выступлении отделить зёрна от плевел и некоторую полезную информацию получить, которая там, безусловно, присутствовала. В противном же случае лекция превращалась в пытку, в сущий кромешный ад, кончавшийся для неподготовленных, но очень прилежных и нервных слушателей депрессией, страшнейшими головными болями и переутомлением.
Для слушателей же попроще и поспокойней, наоборот, это было увлекательным и комичным зрелищем, немало забавлявшим и веселившим их… Ну, посудите сами, читатель, оцените по достоинству такую вот, например, “картинку с выставки”. Напишет, допустим, Андрей Николаевич на доске диковинную по его понятиям формулу, и потом вдруг замрёт и задумается ошалело, будто первый раз её видит; потом отбежит от неё подальше, метра на два, на три, – и стоит-любуется со стороны, блаженно и мечтательно подбоченясь. Голову на бок как ребёнок малый склонит при этом, и даже язычком от удовольствия иногда сладко и смачно цокает. Постоит так какое-то время, забыв про переполненный зал, покачает головой многозначительно, глазами формулу поласкает как заправский художник картину, порадуется про себя, покайфует. А потом вдруг прыснет ни с того ни с сего губами сухими, старческими, заполошно руки вверх вскинет как актёришка театральный, худой, взмахнет ими торжественно над головой, под нос себе недовольно хмыкнет – и мчится назад к доске: исправлять и дополнять её, прежнюю свою чудо-формулу. Или выводить новую, гораздо первой значительнее и гениальнее. Выведет, заулыбается, зачаруется новизной. Но потом вдруг спохватится, озарится и просияет, махом одним написанное зачеркнёт, затрёт ладонями остервенело – и поверх оставшегося белого пятна на доске скорехонько и ловко так прилаживает что-нибудь другое мелом, более с его точки зрения правильное и изящное, более сногсшибательное.
И так все два часа кряду, представляете! – такая вот беспрерывная свято-научная свистопляска у доски, с переправлениями связанная и зачеркиваниями, с накладыванием одного на другое при полном запутывании концов и следов. И всё это у него, седовласого 70-летнего потешника, с таким невинным и непосредственным выражением на лице всегда совершалось – вся эта искромётная творческая феерия, более на экспромт похожая! на полубредовую фантазию даже! – с таким приподнятым, светлым и чистым чувством, – что и жаловаться-то было грех. Право-право! Потому что вполне могло показаться со стороны добродушному и простоватому наблюдателю, случайно забредшему в зал, что будто бы и не лекция это была вовсе, не заслуженный советский академик стоял на подиуме перед почтенной публикой, будничную и утомительную работу у доски выполнял, учил уму-разуму, а трёх– или четырёх-годовалый карапуз, неожиданно раздобывший мел в руки, самозабвенно игрался сам с собой, оставшийся без присмотра родителей…
«Чудак какой-то на букву “M”!!! пень старый, в маразм или детство впавший», – понаблюдав с ироничной улыбкой за этакой великовозрастной несуразной забавой, сказал бы, наверное, наш герой Стеблов через полчаса словами любимого шукшинского героя, Прокудина Егора, будь он тогда годков на десять постарше. Сказал бы, выругался про себя, закрыл после этого тетрадь, в портфель её поглубже спрятал – и тихонечко покинул зал, поплотнее прикрыв за собою двери. К такому чудаковатому и малахольному лектору его не заманили бы в другой раз уже ни за какие коврижки. Зачем?! На кой ляд, в самом деле, надо было приходить спозаранку и сидеть два часа в переполненном зале мышкой, тупо глазеть на затёртую мелом доску и ничего совершенно не понимать?! То есть без толку, без пользы, по сути, личное время тратить! Это – дорогущее удовольствие! Да и расточительство непозволительное, согласитесь, – время на ветер пускать, единственный невосполнимый в этой жизни ресурс! и самый поэтому ценный!
Но Вадику было всего лишь пятнадцать лет: его, можно сказать, только от соски тогда оттянули, твёрдо на собственные ножки только-только поставили. Поэтому уже один вид седого, живущего в себе академика без слов гипнотизировал его, внушал почтительный, полумистический трепет. Во все глаза глядел он на своего прославленного богоподобного учителя, на все его чудачества у доски и пассажи нелепые и неуместные – и всё больше и больше умилялся и таял от безграничной к нему любви и безудержного восторга… И всё строчил и строчил беспрерывно новой шариковой авторучкой, стараясь закрепить в тетради, намертво зафиксировать для себя каждое драгоценное слово и каждый изданный вздох и звук мелькавшего перед ним гения.
Он ничего не понимал из услышанного, из происходящего на доске, как не могла понять всего этого и основная масса сидевших в зале школьников, новых товарищей его, что, по большому счёту, было не столь уж и важно. Та первая, тяжелейшая и сложнейшая лекция важна была сама по себе – как лекция, прочитанная пятнадцатилетним провинциальным парням не каким-нибудь шарлатаном местным, а самым что ни на есть взаправдашним академиком, Героем Социалистического труда, творцом и двигателем современной отечественной и мировой науки. Крайне важно и ценно было для каждого новобранца сознавать, что они слушали его, его близко видели, что он приезжал специально для них, что именно их удостоил такого внимания и такой чести, именно им выделил полтора часа своего драгоценнейшего, расписанного по минутам времени. Они заслужили подобную высочайшую честь и, одновременно, счастье великое слушать и видеть его, они были избранны.
Такое не проходит бесследно и не забывается никогда! – про это нечего даже и говорить! Ради одного этого стоило было в интернат ехать и первые муки терпеть, разлуку с домом, родиной!…
А Андрей Николаевич, меж тем, так и пробегал тогда, неугомонным молодым козликом проскакал по сцене все отпущенные ему на лекцию два школьных урока – и всё хмыкал, чмокал, пшикал и егозил, всё брызгал окрест себя старческой белой слюной, махал заполошно руками, марая доску все два часа корявым неразборчивым почерком. Несчастные же дети, новые его ученики, подперев руками гудевшие с непривычки головы, принуждены были ежеминутно во всей этой галиматье старательно разбираться, выискивать среди разбросанных на доске диковинных математических нагромождений хоть что-то полезное для себя, хоть что-то для себя понятное.
Прозвеневший школьный звонок, возвестивший об окончании лекции, стал тогда избавлением, праздником тихим для них и настоящим для многих спасением. Потому как пытку и смятение прекратил, что на каждого комом тяжёлым свалились…
Спасением стал звонок и для Стеблова Вадика, разумеется, что распухшим и раскрасневшимся в коридор выходил, предельно дурным и чумным, – провожать вместе со всеми уезжавшего домой академика. От непрерывной и непривычной пока ещё полуторачасовой писанины у него дрожали мелкой дрожью пальцы, немного кружилась разболевшаяся к концу голова.
Но всё равно он был бесконечно счастлив! Счастлив и горд уже тем, что уносил в портфеле своём заветную четырёхкопеечную тетрадку в двадцать четыре листа величиной, до половины заполненную уже стенографически-точным конспектом! Первый в его жизни доклад на весь мир знаменитого академика надёжно хранился там, который ему теперь предстояло тщательно проанализировать и распутать после уроков, как ребус увлекательнейший – расшифровать…
3
В сентябре А.Н.Колмогоров прочёл девятиклассникам ещё две лекции, то есть ещё два раза наградил-осчастливил приехавших в его школу юнцов своим высочайшим присутствием. После чего он благополучно исчез, как в воду канул, так что воспитанники интерната в тот год его уже и не видели больше – забыли думать про него словно про снег прошлогодний. Посчитал, наверное, Андрей Николаевич, “святая душа”, что тремя своими страстными и искромётными выступлениями он настолько окрылил-осчастливил всех вновь прибывших, и, одновременно, воспламенил, настолько юных воспитанников вдохновил и возвысил, умом и знаниями одарил, к небу, к солнцу поближе придвинул, – что гореть теперь видевшим и слышавшим его детям ярким небесным пламенем до гробовой доски, до последних дней своих. И никто их теперь уже не затушит.
Точно таким же манером, кстати сказать (по свидетельствам студентов Университета, иногда наведывавшихся в интернат – навестить свою бывшую школу), поступал он и на родном мехмате. Объявит в деканате о начале чтения полугодового или даже годового курса по какой-нибудь дисциплине, что в программе значилась, прочтёт две-три лекции в сентябре, потешится-покрасуется перед всеми, поразвлекается – и потом исчезает бесследно, ссылаясь на свою академическую занятость, болезни или отсутствие сил. И за него весь год потом отдуваются другие: доценты и профессора возглавляемой им кафедры, а то и всего факультета.
Спору нет: стареньким был Андрей Николаевич, уже благополучно перевалил тогда за семидесятилетний возрастной рубеж, почтенный и преклонный как ни крути, ни пыжься и ни харахорься, а для многих – и вовсе страшный, итоговый. В такие-то лета не то что работать, – уже даже и просто жить тяжело, тяжело вставать по утрам, таскаться по Москве куда-то; таскаться – и таскать на плечах груз перечувствованного и пережитого.
Уйти бы ему на отдых с почётом – мемуары дома сидеть и писать, про былые заслуги сказки внукам рассказывать; про то как “жару” когда-то кому-то давал, как кого-то ниспровергал-одурачивал на учёных советах, с грязью, с дерьмом мешал. И не путаться под ногами у молодых, не заставлять их горбатиться и пыхтеть за себя, поминать имя собственное всякий раз неласковым и недобрым словом.
Не тут-то, однако ж, было – не уходил наш Герой, даже и не помышлял об уходе! И в Университете все руководящие должности за собою держал (кафедру, отделение), и в Академии; и два журнала общероссийских возглавлял вдобавок, главным редактором там числился, и интернат для иногородних школьников организовал, “на огонёк” туда заглядывал время от времени за зарплатою. Откуда только силы и вдохновение, раб Божий, брал? – непонятно! – из какого такого волшебного источника?
Осуждать его, впрочем, не повернётся язык – такая тогда была система. Так жила и поступала тогда вся страна, все её – даже самые что ни на есть высокие! – руководители. Хорошую они себе, верные коммунисты-ленинцы, устроили жизнь… и работу хорошую сами себе придумывали, с которой их, слюнявых маразматиков-пердунов, потом до смерти выгнать было нельзя, с которой их только ногами вперёд выносили…
Итак, три раза посетил Андрей Николаевич созданный им интернат, три раза наградил Стеблова Вадика и новобранцев спецшколы своими лекциями, чего, по его высокому разумению, было вполне достаточно для пятнадцатилетних провинциальных парней и девчат, ежели даже и студентов он не баловал долее. Переложив после этого всю черновую работу и связанную с ней ежедневную ответственность по обучению, надзору и воспитанию набранных по стране учеников на директора школы – человека трудолюбивого и порядочного по натуре своей, отзывчивого и добросовестного, но не авторитетного в научных кругах, не делового, не имевшего в интернате особой власти, – на преподавателей и воспитателей (у которых реальная власть и была), Колмогоров пустился тогда – со всей страстью доживавшей свой век и бурно увядавшей души – в другую великовозрастную авантюру – в реформирование всей, уже много лет существовавшей в стране, программы преподавания математики в средней школе – ни много и ни мало.
Странная затея для большого учёного – основателя нескольких научных школ и направлений, как писали про него в те годы солидные, миллионными тиражами выходившие энциклопедические словари, действительного члена многих иностранных академий, повторимся, – странная и малопонятная, не правда ли? Спускаться вдруг с заоблачных математических высот, где по всем статьям-разумениям и должен был летать Колмогоров, сообразуясь с тогдашним положением своим и научным званием – самым высоким и самым почётным в СССР, ко многому его обязывавшим, – и начинать вдруг возиться ни с того ни с сего в “презренных” окружностях и квадратах, равнобедренных и равносторонних треугольниках, логарифмах с синусами и косинусами, – нет, это уж было слишком. Это было приблизительно тем же самым по сути своей, если на метафоры перейти, как, например, гордому горному орлу, привыкшему к голубым далям, чистому прозрачному воздуху и свободе, по собственной капризной воле вдруг взять и заточить себя в вонючий и душный курятник.
Странной затея была ещё и потому, что в СССР существовала к тому времени хорошо проработанная, отлаженная и изученная до мелочей всеми учителями страны метода преподавания математической – базовой – дисциплины в общеобразовательной средней школе. Прекрасные учебники выпускались по данному предмету, написанные мудрыми добросовестными людьми – теми же Киселёвым с Рыбкиным и их последователями, – не один год до этого проработавшими с детьми, прекрасно детей знавшими. И это понимание своё, выстраданное и вымученное, а также весь свой богатейший педагогический опыт, знания накопленные и интуицию они и вложили, в итоге, в составление первых советских школьных программ, которые получились поэтому на удивление доходчивыми и простыми, понятными основной массе воспитанников восьмилетних и средних школ, а также техникумов и профессионально-технических училищ на протяжении многих десятилетий.
Вся страна училась по ним, вся страна закладывала благодаря Киселёву и Рыбкину добротный фундамент элементарной математической культуры, на котором вырастали впоследствии удивительные, обильные талантами всходы!
Величие этих людей было уже в том, хотя бы, что они из опыта своей многолетней работы прекрасно чувствовали тот предел, до которого можно и нужно было усложнять программу, чтобы она была доступна и интересна для изучения среднестатистическому ученику. Именно на среднего ученика, доминирующего в любой школе мира, совершенно справедливо и умно и ориентировали талантливые педагоги свои образовательные методы и учебники, именно на среднего ученика направляли они весь свой талант и знания.
Гениев и дебилов при этом в расчёт не брали. Для них – индивидуальные занятия и специальные курсы…
Такой уникальный подход – сугубо прагматичный и здравый, жизнью самой подсказанный и многолетним педагогическим опытом, – позволил в невиданно короткий срок и в невыносимо-тяжёлых условиях не только полностью образовать всю огромную, двумя Мировыми войнами и тремя Революциями разрушенную до основанья Державу, но и вывести её, бедоносицу, в число передовых государств мира, заставить считаться с собой, уважать себя. И космос русский оттуда, и русский атом! Как и русская первоклассная авиация и оборона в целом!
Пример – достойный для подражания, для канонизации и стерилизации таких программ соответствующими надзорными органами! Высоким государственным мужам, наделённым соответствующими полномочиями, необходимо было беречь и защищать их всеми имеющимися силами и способами, как берегли они золотой запас страны, например, или сторожили её государственную границу! Потому что в чудодейственных программах тех был заключён залог интеллектуальной мощи и процветания русской многострадальной нации, источник её творческой, неизбывной и неувядающей силы…
Итак, первые советские педагогические опыты и наработки фанатично преданных своему делу учителей сложились с годами в целостную, до мельчайших деталей отлаженную и отшлифованную среднеобразовательную систему страны, давшую советскому государству в разные годы миллионы высококлассных специалистов и патриотов, – и нужно ли было реформировать ее, менять?
“Нужно, наверное”, – пожав плечами, неуверенно ответит автор, боясь прослыть в глазах либерально-настроенных читателей замшелым реакционером, колодой лежащим-де на пути прогресса, а то и ретроградом или мракобесом вовсе, которому путь в дурдом или на свалку Истории; ответит – и быстро добавит тут же, опираясь на собственный опыт и добытые этим опытом знания, что, тем не менее, делать это всё необходимо было вдумчиво и аккуратно очень, обязательно – эволюционным путём, бережно сохраняя при реформировании драгоценнейшую основу прежней системы, “золотое” её ядро. И только тем людям делать – особо это подчеркнём! – кто, как и прежние авторы, очень любил детей и хорошо знал их возможности, способности умственные и психологию; кто ежедневно часами простаивал у доски, вдалбливая до хрипоты, до болей головных и мигреней прописные математические истины, а потом пристально вглядывался в лукавые детские очи, пытаясь разгадать в них реакцию на свои объяснения, понять и оценить её; кто мучился бессонницей и угрызениями совести после каждой неудачно написанной контрольной, придумывая долгими бессонными ночами новые способы и более доходчивые пути подачи не пошедшего в классе материала; кто знал, наконец, реальное положение дел в педагогических коллективах страны, реальные способности учителей, в основной массе своей – женщин, на хрупкие плечи которых и должна была лечь в первую очередь вся тяжесть предполагавшихся реформ. Поймут ли они их? потянут ли? – просто обязан был задаться вопросом будущий прогрессист-реформатор. – И как быстро поймут? и все ли? Ведь именно им, провинциальным малограмотным женщинам-педагогам, предстояло в недалёком будущем проводить реформы-новины в жизнь, им выпадала честь, а может и доля горькая, стоять у доски и краснеть перед не прощающими слабостей и невежества учениками.
Таких людей-знатоков было множество: по всем уголкам советской, в светлое будущее устремлённой страны работали тысячи заслуженных и народных учителей, готовых в любую минуту подняться и встать под реформаторские знамёна, сотни научно-исследовательских институтов вовсю занимались тогда проблемами детской психологии и педагогики, проблемами усовершенствования её, обновления и улучшения. Зови их отовсюду, организовывай, заводи, вдохновляй, устраивай между ними конкурсы творческие, симпозиумы, состязания… И направляй потом их усилия коллективные, знания и опыт на святое дело – на просвещение собственной страны, собственных детей и внуков. Результаты от такого Собора педагогического получились бы блестящими! – в этом нечего даже и сомневаться! Соборами Русь, как и Духом святым, с древних времён жива! И вечно жить будет!
Но ничего подобного сделано не было – из того, что необходимо было сделать даже и на первый, поверхностный, взгляд сторонних в вопросах педагогики людей: не позвали опытных и знающих поделиться богатейшим опытом, не кликнули всероссийский клич. Вместо них, по собственной инициативе, вызвались и сорганизовались тогда другие: не знающие, не умеющие, не работавшие… но зато сильно возжелавшие отобрать у педагогов-практиков их насущный хлеб, сделать их многолетние наблюдения и наработки творческие бессмысленными и никому не нужными…
Андрей Николаевич Колмогоров, с молодых лет связанный с Московским Университетом, со школою высшей и её проблемами, к школе средней не имел никогда ни малейшего касательства. Его интернат – не в счёт, потому как был он там уже с первого дня этаким праздничным фейерверком или же призрачным сиянием-миражом, кометой ослепительно-яркой как комета Галлея, появлявшимся два-три раза в год на интернатском небосклоне на пару-тройку часов и быстро уносившимся прочь в неведомом направлении. Кто увидел, как говорится, в памяти запечатлел его на небе след – тот счастливчик и молодец! А остальные пусть сидят и горюют, сопли жуют – ждут следующего высочайшего появления.
Ещё он, помимо прочего, основателем (на пару с академиком И.К.Кикоиным) и первым заместителем главного редактором журнала “Квант” с 1970 года числился, – но именно числился: то есть зарплату заоблачную получал, да ставил в преподносимые ему на дом бумаги вельможную подпись. И только. И там, скорее всего (зная его возраст и в Университете и Академии наук загруженность), он этаким “свадебным генералом” был, и там от него требовалось, как теперь представляется, одно только громкое имя и связи.
Но почему-то именно он, академик А.Н.Колмогоров, семидесятилетний дряхлый и ленивый старик (лезший, тем не менее, во все щели и дырки, где пахло деньгами и славой), возглавил тогда группу молодых московских реформаторов, задумавших в первой половине 1970-х годов прошлого века переписать и переделать на собственный лад всю школьную математику Советского Союза, все существовавшие тогда по данному предмету учебники, которые показались им, столичным умникам и гордецам, до смешного простенькими и устаревшими.
Велик был соблазн у членов этой группы прославиться на всю страну, на всю советскую, гремевшую на весь мир державу. Велики были, судя по всему, денежные оклады их, премии и гонорары. К тому же и Колмогоров своим высоким заступничеством обеспечивал им в работе негаснущий зелёный свет, авторитетом громким, незыблемым, на личное тщеславие и прирождённое упрямство помноженным, двери министерств и издательств для своих подопечных как форточки оконные открывал, а учёных недоброжелателей от них как голубей дворовых отпугивал.
Новые книжки писались поэтому весело и споро: на сытый-то желудок чего не писать, сытый, он тебе чего хочешь напишет! Однако ж, свелась та удалая компания, в итоге, к элементарному заимствованию некоторых уже давным-давно готовых кусков из университетских первокурсных программ и банальному перенесению их в среднюю общеобразовательную школу – только и всего! Зачастую даже и без переделок каких-либо, без упрощения и адаптации! Композиция, коммутация, гомотетия; коллинеарность и компланарность векторов, инверсия, конгруэнтность, конформность; аффинная и проективная геометрии, теоремы Дезарга, Паскаля, Брианшона, Шаля и Монжа; бесконечно удалённые точки, прямые, проективная плоскость, – этими и ещё многими-многими другими специфическими определениями и понятиями, доступными ранее лишь специалистам, специалистам-математикам прежде всего, запестрели тогда новые школьные учебники, выходившие из-под борзого пера таких же борзых просветителей. И шло это всё, несомненно, от самого Колмогорова, считавшего, что “существует большой разрыв между математикой, которая преподаётся в средней школе, и наиболее живыми и важными для естествознания и техники разделами современной математической науки”. От мудрёных понятий тех даже и у видавших виды заслуженных и многоопытных учителей вылезали глаза на лоб и волосы трещали на голове как дрова на пожаре, – что уж говорить про несчастных, задавленных колмогоровскими новинами детишек. Для них этот новый математический воз оказался и вовсе неподъёмным…
Новая школьная программа под редакцией академика А.Н.Колмогорова наделала в стране много шума. Большую сумятицу и переполох внесла она в устоявшуюся школьную жизнь, заставила непосредственно причастных к ней людей изрядно понервничать, поволноваться… и у доски постоять-покраснеть, когда на вопросы детские не находилось ответов, когда путалось-перемешивалось всё в голове из-за образовавшейся там “каши”.
Про героя нашего, Стеблова Вадика, скажем, что ему здесь некоторым образом повезло: он успел захватить лишь первую часть этой программы, касавшуюся вводимых в среднюю школу начал математического анализа – не самую трудную и путаную её часть. А вот его младшие брат и сестра уже захватили ту программу полностью, во всём её, так сказать, объёме и “блеске”, немало попотели и попыхтели над ней, перейдя волевым столичным министерским решением вместе со всей страной на новые колмогоровские пособия, которые Вадик из интереса читал, о которых даже составил мнение.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































