Текст книги "Немеркнущая звезда. Часть 1"
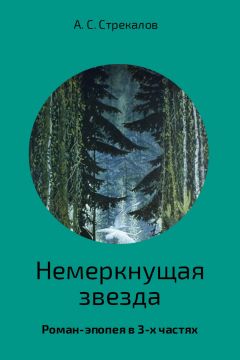
Автор книги: Александр Стрекалов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
16
Если сложить, таким образом, “задвинутые” Стебловым на сторону уроки, которые он самовольно вычеркнул из своего распорядка дня, из интернатовского образовательного процесса, – то и получится, в итоге, что кроме математики и физики, да английского языка более он на новом месте практически не занимался ничем, ничем другим не утруждал себя, не насиловал.
И никто не ругался на Вадика за подобные вольности и прогулы, не наказывал, поедом не изводил, не таскал к директору или завучу за обретением нагоняя и взбучки, или вылететь вон угрозой. Было всё наоборот как раз: получая приличные оценки у Гордиевского и Мишулина, Вадик слыл в интернате Колмогорова хорошим учеником и мог бы, кажется, быть довольным собой и своею московской жизнью – такой привольной и притягательной со стороны, такой для стороннего наблюдателя значимой. Мог бы быть, – да вот не был.
Довольства и самоуспокоенности у него не было и в помине по причине отсутствия поводов, веских причин к таковым, если головокружительный сентябрь исключить, на беготню и знакомство с городом весь ушедший, на баловство, когда всеобъемлющий и безграничный восторг ему разум застил. Даже и прежняя тайная за поступление в ФМШ гордость быстро куда-то вдруг улетучилась здесь в Москве, оставив вместо себя одну лишь нервозность внутреннюю, день ото дня разраставшуюся, да пессимизм неизбывный, глубокий, которому в обозримом будущем не просматривалось конца, который становился в спецшколе нормальным его состоянием.
Почему с ним такое происходило? – понятно. Он же видел, покидая поздними осенними вечерами читалки, что, невзирая на все последние потуги и пропуски, и революционно-радикальные меры, предпринятые на свой страх и риск, он не успевал сделать за день и половины, и четверти из того, что было рекомендовано по математике. И что хотелось бы, самое-то главное, выполнить ему самому, мечталось непременно проштудировать и запомнить. И это неуспевание ежедневное, прогрессирующее, страшно нервировало его, угнетало, ложилось на сердце грузом мучительным, плохо переносимым, незаметно, к Новому году ближе, переходя уже в хроническую душевную боль, постоянный психоз и панику.
Порою у него возникала отчаянная и крамольная мысль и вовсе перестать ходить на отвлекающие и отбирающие силы уроки – даже и на математические! А вместо этого, переселившись окончательно в читальный зал, сидеть там безвылазно в окружении книг: заниматься по собственной программе. Чтобы не видеть больше ни Славика и ни Диму, ни прохиндея Веселова, тем более, от которых ему было мало толку – только сплошная головная боль и трата драгоценных часов, которых катастрофически не хватало…
Не удивительно поэтому, что следующим его революционным шагом по ликвидации дефицита времени было самовольное удлинение интернатовского учебного дня, который заканчивался по расписанию в одиннадцать часов вечера, о чём вкратце уже говорилось. В это время дежурные воспитатели выключали в общежитии свет, запрещали там всякое хождение по этажам, прекращали возню и шум в комнатах. И воспитанники интерната обязаны были, предварительно водные процедуры проделав, раздеться и лечь в постель. Понимай – ко сну приготовиться. Они могли после этого и не спать, а тихонечко разговаривать между собой: продолжать обсуждать вполголоса дневные проблемы и вопросы спорные, недорешённые и недоговоренные, – а могли и вовсе в учебном корпусе находиться, в просторных читальных залах, в которых не выключался свет никогда и куда воспитатели по вечерам не заглядывали. Им вменялось в обязанность обеспечивать порядок в жилых корпусах, – что они и делали по возможности. Бегать же и разыскивать воспитанников по всему интернату они и не хотели и не могли: дело это было хлопотное и канительное, и крайне энерго-затратное, за которое денег не платили им, которое и не делалось.
Поэтому, выключив в общежитии свет и подождав с полчасика, пока улягутся страсти, они с чистой совестью направлялись отдыхать в свои угловые комнаты, женские и мужские; закрывались там изнутри и с удовольствием засыпали на мягких пружинных постелях порознь или попарно, предварительно напившись чаю или покрепче чего и погорячей. Так что засидевшимся в читальных залах парням, если такое случалось, при возвращении в общежитие необходимо было только не шуметь в коридорах – не будить уснувших в любовных объятиях “сторожей”. И спокойный проход до комнат был им всем гарантирован…
Пожилые же вахтёры, дежурившие по школе, совершали общий по этажам обход, проверяли винтили в туалетах на предмет их закрытия, форточки в коридорах, окна; после чего, спустившись на первый этаж, тут же преспокойненько и засыпали в вестибюле учебного корпуса на огромном кожаном диване, закрыв предварительно на все замки дубовые входные двери. Миссия их была, в целом, выполнена, дневная работа завершена, на которую они, собственно, и подписывались, за которую получали зарплату. Всё остальное было не их делом. В обязанности им никто не вменял занимавшихся ребятишек из залов в пинки выталкивать-выгонять, в общежитие направлять на отдых: в их договоре трудовом такая процедура не предусматривалась. Да и старые они были, чтобы за кем-то бегать, следить, выгонять. Ленивые и безразличные…
Стеблов, прознавший про эту лазейку, решил попробовать ею воспользоваться и удлинить свой учебный день в интернате на два, а то и на три часа.
«Всё равно мы не сразу замолкаем в комнате и засыпаем не сразу, – оптимистично рассуждал он на исходе октября-месяца, план на будущее разрабатывая, стратегию поведения и жизни. – Пока поболтаем какое-то время, то да сё – как раз к часу только и убаюкиваемся, а то и к двум… Так лучше уж я позанимаюсь подолее, чем лежать и языком на кровати трепать, пустозвонить без толку: оно во всех отношениях полезнее будет…»
Два часа – срок немалый, конечно же, если использовать его с умом, с нагрузкой и отдачей полной; при желании многое за это время можно чего успеть, многое прочитать и запомнить. Беда была в том только, что после 23-х октябрьско-ноябрьских часов, тем более – часов декабрьских, когда темень и мрак за окном стояли такие, что хоть глаз коли, и всякий живой организм, неукоснительно повинуясь биологическим природным ритмам, впадает или желает впасть в охранительную зимнюю спячку, – как раз в это-то самое время – вот ведь беда! – ничего ни читать, ни учить совсем-совсем не хотелось. Тем паче – после утомительного учебного дня и вечерних индивидуальных занятий… А хотелось лишь зевать беспрестанно, до скульного хруста во рту, да глаза растирать отчаянно, до слёз и рези, до красноты. Но более всего хотелось отяжелевшую за день голову к столу прислонить и сном глубоким забыться, провалиться в небытие. Чтобы почувствовать в тот же момент желанное себе облегчение…
Воспитателей Вадик обманывал таким образом – это правда: из читалок не уходил после одиннадцати, как было предписано уставом, в комнату не возвращался. Но за те украденные у распорядка часы – ночные, бесприютные, “каторжные” – он успевал, в лучшем случае, лишь полистать журналы, что постоянно таскал с собой, статьи их не самые сложные проглядеть, не самые умственно-затратные.
А вот учебники университетские и задачи ему в это время уже не давались, или давались с трудом, с великим внутренним напряжением. И домой он возвращался после подобных полуночных бдений до того уставший и измождённый, порою, с гудевшей от переутомления головой, что, забравшись в постель разобранную, потом ещё долго не мог заснуть: всё с боку на бок крутился веретеном, подушку как молодой повар тесто остервенело взбивал и переворачивал, пытаясь остудить её холодной наволочкой раскалённую за день голову… Утром же, не отдохнувший как следует и не выспавшийся, он ходил в буквальном смысле шальной и первые несколько уроков не соображал ничего, не помнил – только носом как голубь клевал да отчаянно головою встряхивал, в себя приходя тяжело, не отдохнувшие за ночь мозги включить и напрячь пытаясь.
И получалось, в итоге, как ни крути, что сверхурочные те усилия и часы, которые Стеблов по глупости и по молодости у себя самого, фактически, крал и у здоровья собственного, не были ему на пользу. Он только мучился понапрасну, недосыпанием себя изводил и нагрузкам умственными, дополнительными, – но сделать и выучить что-нибудь стоящее успевал мало, а весною и вовсе не успевал: сил совсем уже не хватало.
От этого он и нервничал постоянно, хмурился и раздражался, и собой недоволен был, своей медлительностью врождённой и узколобостью…
17
А тут ещё как на грех – в конце сентября это всё случилось – он совершенно неразумно и необдуманно, по дурости своей опять-таки, ввязался в очередную авантюру со спортом, в которую его невольно втянул их интернатовский физрук – Берзин Исаак Аронович.
Исаак Аронович этот – маленький плотный еврей сорокалетнего возраста, на удивление живой и подвижный, круглый как футбольный мячик – был любимцем школы. Весёлый, покладистый, незлобивый – он был единственным преподавателем в интернате, у кого не было завистников и врагов. По определению, что называется. На должность его непривлекательную и непрестижную никто из шибко образованных соратников-педагогов не зарился, не покушался; поэтому никто никогда не пытался его выжить либо подсидеть. И работал он всегда в одиночку – то есть за спины напарников не прятался, как Веселов, за их счёт не жил и хитрецом-прохиндеем не числился. И в учительскую он редко ходил: сидел всё больше в своей коморке возле спортзала, – и в сплетнях и склоках не участвовал, что было особенно ценно и важно в большом трудовом коллективе, был неизменно почтителен и приветлив с детьми и со взрослыми, внимателен и улыбчив. А если добавить к этому его доброжелательный и предельно оптимистичный характер, озорство природное и благодушие, и юмор неподражаемый и негрубый, которым он легко и умело пользовался в разговоре, подкупал и располагал людей, – то станут понятными те чувства симпатии и приязни, что безоговорочно испытывали к этому маленькому и невзрачному человеку как сами воспитанники спецшколы, так и многочисленный обслуживающий и преподавательский персонал.
Берзина Стеблов впервые увидел пятого сентября, на первом уроке физкультуры, что по традиции оборачивался субботником трудовым. Исаак Аронович доходчиво объяснил тогда пришедшим в спортзал девятиклассникам, что со дня основания интерната так, дескать, у них повелось, что территорию вокруг школы, как и школьный футбольно-легкоатлетический стадион воспитанники-первогодки должны были убирать и облагораживать самостоятельно, руками своими и силами. И что поэтому, пока стоят-де на улице погожие светлые дни, несколько уроков физкультуры они должны будут посвятить уборке скопившегося за лето мусора, приведению в порядок газона футбольного, беговых дорожек и прыжковых ям.
Одноклассники Вадика и он сам с пониманием отнеслись к такой замечательной, на их взгляд, традиции, дружно поддержали её одобрительными возгласами и затем, с Исааком Ароновичем во главе, всей массой высыпали на улицу.
А там солнце светило как оглашенное, было тепло и тихо: погода стояла прекрасная, одним словом! Поэтому махать граблями и лопатами в такую погоду было так же приятно, весело и легко, как и бегать кругами по стадиону. Разница для молодых ребят, во всяком случае, была незначительной.
Там-то, на улице, Стеблов и познакомился с Берзиным лично, и между ними сразу же возникла взаимная внутренняя приязнь.
–…Вас как зовут, извините? – подойдя сзади, вдруг спросил насыпавшего в кучи мусор Стеблова низкорослый полуседой физрук, несколько минут перед этим, как оказалось, за ним наблюдавший и решивший почему-то подойти, познакомиться.
Вздрогнувший от неожиданности Вадик выпрямился, в сторону грабли отставил, быстро назвал себя.
– Очень приятно, – добродушно улыбнулся Берзин, широко раздвигая губы и этим обнажая зубы почти до дёсен: здоровые, ровные, крупные и крепкие на вид, хотя и чуть-чуть желтоватые. – Ну а меня, как я уже сказал, зовут Исааком Ароновичем: я физкультуру здесь десятый год преподаю. Будем теперь с Вами регулярно видеться… Вы откуда к нам приехали, Вадим, ежели не секрет? – пристально вглядываясь в лицо собеседника и улыбаться не переставая, спросил физрук далее.
Стеблов назвал свою область, потом – и город родной, название которого ничего не сказало Берзину.
–…А Вы там, на родине у себя спортом каким-нибудь занимались? – продолжал допытываться он.
– Занимался, – утвердительно кивнул головой Стеблов.
– Каким?
– Лыжами.
– Лыжами?! – переспросил удивлённый учитель… и добавил, помедлив: – Лыжами – это прекрасно, лыжники нам тут тоже будут нужны! Я сразу понял, что Вы – спортсмен, как только взглянул на Вас и Вашу ладненькую фигурку. Настоящих спортсменов за версту видать! Как, впрочем, и этих – трухлявых одноклассников ваших, – и Исаак Аронович кивнул насмешливо в сторону недалеко от Вадика копошившихся с мусором ребятишек, учеников 9“Б”, худеньких и слабеньких по преимуществу, или наоборот – неоправданно толстеньких…
– Вы, Вадим (Исаак Аронович никогда потом не называл Стеблова Вадиком, только – Вадимом, как взрослого), Вы, Вадим, если что, – сразу же теперь ко мне обращайтесь: ну-у-у там ежели какая помощь Вам здесь понадобится или, просто, совет, – сказал он понравившемуся ученику напоследок, когда они постояли и поговори немножко за жизнь, за школу новую и ещё более укрепились во взаимных симпатиях друг к другу, многократно усилившихся после того, когда Вадик учителю про свои заслуги прежние рассказал, и особенно – про взрослый спортивный разряд, заработанный ещё в седьмом классе. – Я тут со дня основания работаю: всех учителей знаю и даже с академиком Колмогоровым, уважаемым Андреем Николаевичем нашим, лично знаком (упомянув имя куратора и основателя интерната, Исаак Аронович возвысил почтительно голос, всем видом своим показывая, как он уважает и ценит таких великих людей). Так что, как говорится, чем могу – помогу. Договорились?
– Договорились, – ответил польщённый разговором и обещанной помощью новобранец, с жаром крепко пожимая после того протянутую физруком руку.
На том они в тот день и расстались…
Потом учащиеся 9"Б" класса, равно как и все остальные девятиклассники, под руководством Берзина ещё несколько раз убирали и расчищали территорию школы. И только в двадцатых числах сентября у них, наконец-таки, состоялся полноценный урок, когда Исаак Аронович вывел всех новобранцев на собственноручно очищенный стадион и предложил там пробежать на время два его трёхсотметровых круга.
Вот тут-то и показал себя учителю Вадик во всей своей отроческой, набранной дома, красе; и тут же на стадионе и произошло их окончательное с Берзиным сближение и сдружение. Когда он, соскучившийся по спорту, по бегу, в частности, и уже со старта поэтому взявший высокий темп, на дистанции далеко оторвался от одноклассников толстозадых, обогнав их, в итоге, метров на сто, – подбежавший к нему после финиша физрук не мог и не хотел скрывать распиравшего его восторга.
– Ну-у-у, Вы дали сейчас, Вадим! ну-у-у, дали! И время какое показали изумительное, посмотрите! – совал он под нос запыхавшемуся победителю старенький секундомер. – У нас в интернате, по-моему, шестисотку так быстро ещё никто никогда и не бегал-то!
Слова московского учителя физкультуры, его удивление искреннее и такой же искренний и неподдельный восторг были страшно приятны багровому, взмокшему от усердия Вадику, – что и говорить! Не забыл он, оказывается, своих прежних навыков, не растратил на математику полностью физическую силу и удаль свою, не зря старался в тот день, не зря выкладывался. Ещё до старта ему очень захотелось поразить поверившего в него физрука, из толпы его сразу же выделившего. И он его поразил только что – и был несказанно счастлив и горд от этого…
– Так каким Вы, говорите, у себя на родине спортом-то занимались? – опять вдруг начал допрашивать его чрезмерно возбуждённый физрук.
–…Лыжами, – переведя дух, ответил прерывисто победитель.
– Какие лыжи, Вадим! какие лыжи! – я Вас умоляю! Лыжи – смерть для вас! Вы же прирождённый легкоатлет! – вытаращившись, затараторил Берзин своей характерной еврейской скороговоркой, тонируя ударение в слове «легкоатлет» на букве "а", отчего это слово более звонким делалось и более на слух изящным. -…Ну Вадим! ну красавец! ну молоток! – восторженно продолжал тараторить он, глаз не сводя со Стеблова. – Если б Вы видели себя со стороны: как изумительно работает у вас бедро во время бега, – если б Вы только это видели! Это ж не бедро – это паровой маховик какой-то! – лёгкий, изящный, отлаженный!… Вадим, Вы – чудо! Я восхищён и покорён Вами!…
Ещё некоторое время попев дифирамбы, на которые евреи большие мастера, Исаак Аронович Вадика вдруг за локоть схватил и, оттащив его в сторону, спросил прямо: не хочет ли он заняться лёгкой атлетикой серьёзно, под руководством настоящего тренера.
Не ожидавший подобного вопроса бегун в первый момент растерялся даже, не зная что и отвечать.
–…Где заняться? когда? – только и спросил он, с Берзиным в стороне останавливаясь от отдыхавших после забега ребят, пот со лба ладошкою вытирая.
– В Университете, в его Центральной секции, – ответил ему сияющий физрук, за локоть его придерживая – боясь будто бы, что он убежит.
–…А кто ж меня туда возьмёт? в Университет-то? – всё никак не мог собраться с мыслями Вадик, не мог даже понять и оценить как следует сделанного ему предложения.
– Как это: кто возьмёт?! Не понял!… Вы что говорите-то, Вадим?! что говорите?! – пуще прежнего затараторил московский учитель, удивлённый и даже чуть-чуть раздосадованный странным вопросом таким. – Вы все здесь – воспитанники университетского интерната, самим академиком Колмогоровым основанного! А значит – полноправные, можно сказать, университетские студенты! Можете заниматься в Университете когда хотите и где хотите: на любых его семинарах, секциях и кружках! И в Центральной его секции – в том числе! А Вы спрашиваете: кто возьмёт! Поедите и будете заниматься, коль того пожелаете!
–…У меня там, к тому же, тренер знакомый есть, Башлыков Юрий Иванович, – через пару-тройку секунд продолжил он, уже поспокойнее, как и до этого говорил, на ученика растерянного пристально глядя. – В прошлом он большим бегуном был: про него и газеты писали спортивные, и по телевизору его показывали, – слышали, наверняка, про такого.
–…Н-нет, – замотал головой ученик, что есть силы напрягая память.
–…Да Вы что, Вадим?! Вы про Башлыкова не слышали?! – Берзин вытаращился на Стеблова так, будто бы раздевшегося догола директора в обнимку с пьяным завучем вдруг перед собой увидел. – Ну Вы даёте, товарищ Вы мой дорогой! Не красит, не красит Вас подобное Ваше невежество. Это же участник Олимпиады в Мельбурне! заслуженный мастер спорта! гордость и слава страны! Бежал там за нашу сборную 400 и 800 метров; на четырёхсот-метровке и вовсе до финала дошёл… А теперь он в Университете работает: спринтеров тамошних тренирует. И Вам обязательно, слышите! обязательно нужно к нему попасть!…
Олимпиада. Мельбурн. Член сборной и живой “зэмээс”… У провинциала-Вадика от услышанного голова пошла кругом, и успокоившееся было от быстрого бега сердце опять восторженно застучало о грудь.
–…Ну, а если он меня не возьмёт к себе, не захочет взять? – робко засомневался он, уже загоревшийся берзинскими рассказами. – У него там, небось, одни разрядники да мастера тренируются. Я-то ему зачем?
– Возьмёт, – уверенно перебил его Исаак Аронович, по-доброму опять взирая на изнутри засветившегося ученика. – Он мой давнишний институтский товарищ: мы с ним в ГЦОЛИФКе вместе учились, институте физкультуры московском… Я ведь, – озорно засмеялся он, – тоже спортсменом был когда-то: не таким, конечно, как Юрка, но – был… Это сейчас я толстый и круглый, и неповоротливый как индюк. А раньше-то я шустрил на зависть. Стометровку за 10,5 бегал, кандидатский норматив выполнял, молодёжное и студенческое первенство Москвы несколько раз выигрывал.
Берзин задумался на секунду, замер; в глазах его узко сощуренных проскользнула лёгкая грусть, навеянная ушедшей молодостью.
–…Ну да ладно,– встряхнулся он, наконец, в своё прежнее, балагурно-беспечное состояние возвращаясь. – Что теперь прошлое-то вспоминать и заслуги прежние. Жизнь, Вадим, – она в любом возрасте хороша, в любом возрасте интересна. Было б здоровье и деньги… Ну так что, – напоследок спросил он строго, – звоню я на днях Башлыкову, договариваюсь на счёт тебя?
– Звоните, – простодушно ответил учителю Вадик, не ведая ещё совсем, в какую переделку ввязывается и какой натягивает сам на себя “хомут”…
18
Именно так, по настоянию и рекомендации московского учителя физкультуры, и попал наш чемпион скороспелый первый раз в МГУ – на новую его территорию, расположенную на Ленинских горах столицы (Воробьёвых теперь). И если окраинная территория и типовое здание интерната произвели на Стеблова самое тягостное и самое удручающее впечатление в день приезда, диаметрально противоположное тому, что мысленно испытывал он на родине, не единожды перечитывая, уединяясь, присланный из Москвы проспект, – и этот его негатив от спецшколы день ото дня только усиливался и разрастался. То территория и Главное здание Университета, наоборот, величественным видом и масштабом прямо-таки космическим затмили и переплюнули все его самые восторженные мечты и самые фантастические представления.
Выйдя из автобуса на одну остановку раньше (не на улице Лебедева, как советовал ему физрук, а на улице Менделеева) и прошествовав пешим порядком по яблоне-липовым университетским аллеям в сторону легкоатлетического манежа, Вадик не переставал поражаться на каждом шагу окружавшей его со всех сторон красоте, величию рукотворному, царскому. Он видел, как бережно, умно и умело всё было продумано, спланировано и рассажено вокруг, с какой любовью вскопано, подстрижено и прополото. Ни одного дикого места не встретил он по дороге, ни одного загаженного или заросшего, забытого человеком угла, – а ведь территория, по которой он шёл, занимала гектары… Но, не взирая на гигантские площади, всё было старательно прибрано тут и подметено, окучено, возделано и по-хозяйски полито; везде, куда ни зайди и ни посмотри пристально и дотошно, безраздельно господствовали симметрия безукоризненная, порядок и чистота, и пейзажи божественные, ни с чем несравнимые, сражавшие наповал любого, по причине, беспричинно ли попадавшего в эти Богом обласканные места, эти воистину райские кущи.
А какие деревья возвышались вокруг, какие диковинные произрастали кустарники! Вадик не встретил на всём пути – как ни вглядывался, ни искал усердно – ни одной осинки корявой или уродца-тополя – деревьев холодных, презренных, ядовито-паразитических, вытягивающих из человека тепло, силу жизни в нём убивающих. Как и ни одной вонючей акации не увидел или калины горькой, ни одного кустика бестолковой кладбищенской бузины с её тошнотворным и мерзким запахом, и такими же мерзкими плодами. Всё сплошь жасмин да миндаль благородные, да вишня, сирень, базилик, ерика, ирга с барбарисом и жимолостью, вечнозелёные вереск и розмарин красовались на всём пути, да кормилицы-яблоньки разных сортов длинными широкими рядами выстроились по аллеям с добродушными целительницами-липками и грушами в обнимку. А за ними скромненько расположились берёзки-девушки, белые и чистые как на выданье, “волосы” на ветру распушившие, окружённые, как и положено, как природою-матушкой заведено, каштанами знойными, южными, да широколиственными красавцами-клёнами, известными франтами и ловеласами, средь которых, как грозные сторожа, возвышались то там, то тут могучие серебристые ели. Представить – и то было страшно, что тут весной круглосуточно делалось, как всё благоухало вокруг и цвело, звенело, кружилось, пело, утопало в счастье и любви! – если и осенью тут было пройти нельзя, от восхищения и запахов не зажмурившись! Природная чарующая Красота простиралась вокруг на всём пути следования Стеблова, Божья немеркнущая благодать, ниспосланная за здорово живёшь забредшему сюда человеку!…
А уж когда Вадик вплотную к Главному зданию подошёл и в фасад его гранитно-мраморный глазами словно в скалу упёрся, – тут он и вовсе обмяк и опешил, духом до земли упал, раздавленный размерами, мощью и архитектурным изысканным великолепием вознёсшегося перед ним желтовато-каменного исполина. Он только и сумел в тот момент, что голову вверх задрать и взглядом восторженным за далёкий золотистый шпиль ухватиться, да от удивления широко рот разинуть. И потом замереть на какое-то время в таком предельно-восторженном положении, истуканом застыть, всё пытаясь и не имея сил передумать-переварить свалившиеся на него впечатления.
Рукотворная мощь возвышавшейся перед ним громадины столь велика была и столь впечатляюще-необъятна, так стремительно и так легко уносился ввысь сверкающий шпиль университетский, цеплявшийся своей оконечностью – советским золотым гербом – за облака, за самоё Солнце даже, при этом сливаясь в ослепительном блеске с ним и даже будто соперничая, – что у Вадика от переполнившего его восторга голова закружилась так, что он, зашатавшийся, едва не упал на землю… После чего, испуганный, истомлённый и обессиленный, он голову ниц опустил – и долго стоял, не двигаясь и не шевелясь, и ничего в ту минуту не соображая от счастья…

Так он стоял и дурел от избытка чувств потом всякий раз, когда Судьба приводила его на Ленинские горы, к Главному зданию МГУ на свидание. И чувства, овладевавшие им в те минуты, были практически одинаковые: тот же безудержный, безумный восторг – и полное от него душевное истощение и изнеможение…
Второе, что глубоко потрясло Стеблова в тот незабываемый для него день, был, конечно же, сам манеж, располагавшийся за университетскими спортплощадками, по соседству с гуманитарным корпусом. Переступив осторожно его порог, вестибюль перейдя стеклянный, Вадик оказался внутри огромного стадиона – чистого, просторного, светлого, прекрасно обустроенного и оборудованного по последнему образцу, не меньшего по размерам того, что был выстроен не так давно и у них на родине, но только надёжно спрятанного ещё от снега и от дождей могучей эллипсоидно-образной крышей. На стадионе том, в котором прыгали, бегали, метали и кувыркались в тот момент сотни счастливых юношей и девушек различных национальностей и возрастов, могли бы разместиться, кажется, все школьники родного города Вадика, включая и его прежних товарищей-спортсменов. Им всем хватило бы места здесь, беговых дорожек и турников, ям прыжковых, снарядов… И им не нужно было бы месить по нескольку месяцев кряду весенне-осеннюю грязь: жирную, вязкую, непролазную, портящую провинциальным детишкам жизнь, мешающую полноценно тренироваться, – не нужно было бы по утрам смотреть в окно настороженно – следить за капризной погодой. В манеже им было бы уютно и комфортно круглый год, они могли бы показывать здесь приличные результаты…
Такие вот приблизительно мысли посетили героя нашего в тот момент, когда он, осторожно ступая по каучуковому покрытию манежа, шествовал вглубь его, по дороге выискивая глазами рекомендованного ему тренера – Башлыкова Юрия Ивановича. «Как увидишь там самого красивого мужика, – держал он постоянно в памяти напутственные слова Берзина, сказанные тем накануне поездки, – так сразу и дуй к нему знакомиться. Это и будет Юрка Башлыков – мой корешок старинный. Он ещё в молодости, – потупившись, напоследок завистливо добавил Исаак Аронович, – писанным красавчиком был: все девчонки-однокашницы наши по нему на корню сохли».
Берзинского "корешка" Вадик увидел быстро: как только на середину манежа прошёл и остановился возле огромной гимнастической стенки, на которой качали пресс несколько тренировавшихся в тот вечер студентов. Юрий Иванович, которого умело описал физрук, стоял на краю дальней от входа прыжковой ямы, до краёв заполненной кусками разноцветного поролона, и что-то подсказывал энергично бегавшему там со штангою на плечах белокурому крепкому парню – вероятно, своему ученику.
"Он, наверное!" – с дрожью подумал Вадик, впиваясь глазами в статного красавца-тренера, одетого в дорогой спортивный костюм и такие же дорогие кроссовки, и тут же опять воскресил в памяти недавние слова учителя физкультуры про неподражаемую красоту его институтского дружка, в справедливости которых теперь он и сам мог воочию убедиться.
Дружок Исаака Ароновича был и вправду очень красив. Был великолепен даже своей природной физической мощью, здоровьем феноменальным, за версту различимым, что так и пёрло из него через край тестом перебродившим. Да ещё и помножено было, плюс ко всему, на безукоризненную стать и почти идеальные пропорции его фигуры, которые, как известно, не купишь, не приобретёшь, не накачаешь и за целую жизнь никакими долгими тренировками и упражнениями. Удивительно ладно скроен был этот изящный, в полном соку мужчина и по-настоящему крепко сшит: хоть портреты с него садись и пиши; или ваяй всяк желающий музейных мраморных богов и современных героев спорта. Он воистину являл собой эталон мужика – поэтому сразу же и притягивал к себе внимание. Взглянешь на такого вот здоровьем пышущего богатыря-счастливчика раз – пусть даже и мельком, едва приметно, – и с замиранием сердца подумаешь: "да-а-а, хорош, чертяка! хорош!"… И не усомнишься потом уже никогда в том своём первом предельно-восторженном впечатлении, что в память врежется навсегда светлой зарубкой-отметиной.
Мышкой замерев у стены и невольно принявшись рассматривать Башлыкова пристальным и предельно восторженным взглядом, Вадик сумел разглядеть и понять сквозь разделявшее их пространство, что ростом Юрий Иванович был под метр девяносто, наверное, то есть на голову выше его самого, был энергичен и резок в движениях, как и подобает настоящему спринтеру, участнику Олимпиады; что имел великолепнейшую шевелюру из тёмных послушных волос, разлетавшихся на его голове во все стороны большими волнистыми прядями.
"Красавец!" – машинально подумал тогда и Стеблов вслед за учителем Берзиным, не сводивший ни на секунду глаз с первого своего, вживую увиденного олимпийца, “зэмээса” к тому же, бывшего члена сборной СССР, невольно влюбляясь в него, заочно им как личностью очаровываясь. Красивее спортсменов-мужчин он ни разу и не видел ещё: в городке их крохотном, по крайней мере, таких на его памяти не водилось…
А Юрий Иванович, между тем, закончив наставлять белокурого паренька, от ямы поролоновой отошёл и направился не спеша в центр манежа: как раз по направлению стоявшего у гимнастической стенки Вадика. И Стеблов через короткое время получил прекрасную возможность рассмотреть уже и его лицо, немножечко широковатое, на первый взгляд, и простое, но очень и очень доброе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































