Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
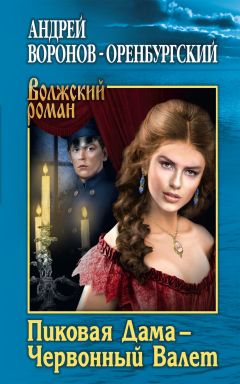
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц)
Глава 7
Потягивая прохладный малиновый сок и лениво погладывая белую зайчатину, Алексей, задрав голову, рассматривал знаменитые номера, возведенные по воле Корнеева. Все они теснились друг возле друга уровнем выше, и в них подгулявшие парочки могли уединиться и скрыться от любопытных, нескромных глаз.
Шапки густолиственных пальм терялись в пластах табачного дыма, и надо было изрядно напрягать зрение, чтобы углядеть там, наверху, похожие на «ласточкины гнезда» маленькие кабинетики, из которых нет-нет да и доносился развязный женский смех. Со стеклянного потолка временами срывалась и капала холодная влага.
– Нет, милый, это не дождь, – поправил удивленного Алексея Дмитрий. – Это охлажденный пар людского дыхания и порока.
Запахи в «корнеевке» и вправду стояли угарные и душные, несмотря на часто устраиваемые сквозняки. Отчасти тянуло «могилой» – крепко слышался подопрелый «дух» сырой земли, что исходил от бесчисленных горшков и кадок с растениями.
– Правильно, Алешка, приглядывай, выбирай, – похлопывая по плечу младшего брата, усмехнулся Дмитрий. – В одной из них тебе нынче быть. Скоро объявятся жрицы любви, тогда гляди в оба, не проворонь.
От этого разговора Алешка нахмурился. Брат заметил и искательно улыбнулся:
– Не хочешь воспользоваться подаренным случаем? Глупый, уж тут-то, оглянись, чего лучше? Кровь играет, чай, мужик!
– Оставь ты меня в покое. Не знаю я… не знаю! Вам хочется – вот и…
– Зато я знаю. Ты только попробуй! Ну, дай мне слово, что хоть попробуешь, а?
– Может быть…
– Помилуй, братец, славные душки здесь, и быть лишь зевакой? Ты лоб-то потрогай, чай, не жар у тебя, мелешь что? Отчего себе портить жизнь и не брать, что само в руки плывет? Так обещаешь?
Алексей неуверенно дернул плечами и вновь уткнулся в стакан с соком.
В это время на подиуме заслышался дребезжащий, что ложка в стакане, звук фортепиано, пискнула скрипка, и отовсюду, точно куры на зов петуха, начали сбегаться певчие. Одни из них вырывались из липких объятий купцов, другие выходили из-за тяжелых портьер, отделявших зал от гримерок, третьи спускались по лестнице сверху, наспех поправляя растрепанные волосы и кружева летящих юбок, а из открытых дверей номеров им летели то пошлые комплименты, то откровенная нецензурная брань.
Алексей скривился, когда после долгих сборов, выстраиваний в линию и перемигиваний с кавалерами, хор, наконец, затянул истасканными голосами:
Степь да степь кругом,
Путь далек лежит…
От такой тоски братья не удержались и пропустили по рюмке, отчего стало теплее на душе, но по-прежнему кисло слуху.
Веселее дело пошло, когда на сцене и между столов замелькали цветастые шатры цыганских юбок, зазвенели монисты и бубны, а красные лица посетителей опалили горячие взоры цыганского племени:
Еще в пятнадцать лет
Себе я цену знала… —
летело под кудрявый гитарный перебор слезливое признание черноокой смуглянки и взрывалось в припеве, подхваченное лихим аккордом хора:
Гей, гей! – нам ли о потерях жалеть?!
После таких откровений в цыган летели скомканные ассигнации – нет, не радужные сотенные, как в столицах, но все же четвертные и красненькие! А цыгане – ушлый народ: при виде этой радости громче гремели песни, пыльче заходились в танце и все более срамно потрясали оголенными грудьми и плечами и лезли в объятия к хмельным купцам и гусарам со своими бесстыдными ласками.
– Позвольте, дорогие, папиросочку, право, в прах искурился… Угу… – неожиданно раздался за спиной заплетающийся шепелявый голос, и в следующую минуту к их столу подошел в облитом красным вином сюртуке незнакомец.
– Прошу простить, господа, безмерно пьян-с, безмерно извиняюсь… Адвокат Шнюков, к вашим услугам… Pardon, папиросочки не найдется?
Дмитрий без слов, брезгливо поджав губы, протянул распахнутую коробку.
– Еще раз прошу простить. Благодарю-с, благодарю-с, добрая душа. Дай бог вам, милые, от сглазу, порчи и каторги… ик, быть в стороне. Я – адвокат Шнюков. Запомните, господа! – едва не падая с ног, поднял вверх палец чиновник. Его с жалкими остатками слипшихся бесцветных волос голова приветливо склонилась набок. – Дозвольте серничков – прикурить… Угу… угу… покорнейше благодарю… Я-с, собственно, не один, с друзьями… во-о-он в том укромном уголку, господа, заседаю. Вон в том гроте, ежели угодно-с, прошу к нам…
Алешка, в отличие от Мити, из зеленого любопытства посмотрел мельком, куда указывал добродушно щерившийся господин. Действительно, в закрытом ползучим цепким плющом гроте угнездилась теплая компания земцев и адвокатов: эти кутили тихо, без купеческого ора, но вплотную и пили «мертвую». Явно не довольствуясь существующими винами, не удовлетворяясь их крепостью, они тянули «медведя» – нечто смертельно-убойное по своей чудовищной смеси. Вместе сливалось различное вино с водкой и делалась некая спиртовая бурда, коя и называлась грозно – «медведь».
– Здесь ведь только-с влюбляться… – не унимался адвокат. – Заметьте, ход из номеров прямехонько в залы, через коридор отдельных кабинок… сватайся и женись! Здесь есть, есть, господа, сказочные экземпляры, одно слово – Шахерезады! Арбузные грудки, их пяточки созданы для ласки, и сто процентов – не сифилис.
Адвокат Шнюков мечтательно задумался, огладил ладонью свой плешивый затылок и после глубокой затяжки философски заметил:
– А впрочем, все тлен, господа, суета и глупость. Вот и я пью-с, чтоб ничего этого не замечать. Удивлены – извольте-с. Взять хоть наш русский народ: ведь упрям и глух, хуже татарина, честное слово… В трудные времена-с Россию проще простого сбить с толку. Вот вы, я вижу, молоды-зелены, а я пожил жизнь, судари… Пардон, позвольте-с сернички, потухла, зараза… Угу, благодарю… Посему нынче и дурят наш темный люд всякие политические. Смутные времена грядут, ой смутные… ведь до чего дошли – виданное ли дело! – на государя!.. хотят руку поднять! Право, за Россию обидно становится. Да кому-с за нас молитва? Кому-с печаль? Увы, в жизни всегда виноват тот, кого облили дерьмом… Ладно-с, что бога гневить? Адью, господа, но ежели что, подходите… Я-с во-он там заседаю… Я-с не один, я с приятелями…
Новый знакомый только вдруг насторожился и поторопился откланяться, как его прихватила за ворот рука Белоклокова, встряхнула так, что послышался звон мелочи в карманах, а в мятое страхом лицо прозвучало:
– Ах ты, мелкий шибёр! Опять под ногами путаешься? Ну, я тебя подчеканю, старая пройда!
Корнет замахнулся ударить кулаком бледного адвоката, когда Дмитрий успел удержать его руку.
– Одумайся. Грэй! За что? Разве жаль табаку? Ну подошел, ну пьян… Да и господь с ним… Такой же блохи не обидит…
– Вот, вот, такому только в остроге блох и кусать на цепи. Впитал, черт? Пшел вон!
Гусар зло оттолкнул вызывающе глядевшего на него человека и пригрозил кулаком:
– Видишь, смотрит-то как, сволочь? Ровно гвоздем царапает…
– Да сядь же, успокойся! – Дмитрий торопливо выдвинул стул. – Отчего так лют? Ужли из-за этого пьяницы – смех! Странный, однако, но таких полно на Руси. Тем паче адвокатом сказался…
– Какой адвокат? Еще брякни – полководец! – Белоклоков расхохотался. – Просила-ловчила – вот он кто. Таких вот олухов, как вы, по кабакам с дружками рыщет. Знаю я этих карманников-бритворезов… Шныряют крысами по трактирам, выберут кого попьянее, заболтают, а потом… Ай, к бесу!.. Лучше карманы проверьте, целы ли?
Братья озабоченно сунули руки в карманы, хотя и знали, что там ничего особого не было.
– Ну-с?..
– Да как будто пронесло.
– То-то… Пить – пей, но ухо держи востро в кабаке. Тут разный народ гуляет: и купец, и шулер, и банкир, и вор.
– А как же те?.. – Алексей растерянно кивнул на сидящих в гроте.
– А ты спроси их, брат, знают ли они твоего «адвоката»? Вот так-то, помни о сем! Ну, да ладно, то обскакали. – Корнет вдруг снизил голос до торжественного шепота и, поманив братьев пальцем к себе, сказал: – Поздравьте, обо всем договорился… сейчас обещалась быть сама, со своими дру́жками. Вы уж, братцы, не подкачайте: чтобы носок – в стремя, пуля – в туза! А сейчас хлопнем за успех. Алешка, давай шампанского!
* * *
– О, да тут и вправду червонные валеты, кумушки… Надо же, не обшутил нас гусар. Заждались? Будем знакомиться?
У Алеши положительно оборвалось все внутри. Он, как во сне, поднял покрасневшие от вина глаза – прямо перед их столом, в окружении двух ярко накрашенных девиц, стояла мифическая Марья Ивановна Неволина, имя которой он уже слышал за сегодняшний день по меньшей мере раз сто.
Последние часы, пожалуй, с того момента, как Ефрем вздевывал на ноги своего господина сапоги, Алешка еще никогда не ощущал себя столь обескураженным и несчастным в вопросе альковного наслаждения. Никогда он не испытывал и такого однозначного отсутствия хоть какого-то любопытства к женскому телу. Причиной всему была неуверенность в себе и как следствие – заурядный страх. Однако все чудесным образом изменилось, когда Марья Ивановна, протянув для поцелуя в ярких перстнях руку всем троим, задержала ее у губ младшего Кречетова, после чего тепло улыбнулась и легко, без затей, сказала:
– Довольно вам, сударь, глаза прятать да отводить. Юность… она ведь всегда ликует, готова вершить и познавать… Давайте будем дружить… Для вас, Алешенька, я буду просто Маша.
Еще более подкупило то обстоятельство, что села за стол она не напротив, а рядом с ним, как, впрочем, и сопровождающие ее подруги; те тоже, не теряя времени даром, рассыпали шуршащие кринолины впритык возле своих кавалеров.
Марья Ивановна непосредственно, точно всю жизнь знакомы, болтала со всеми сразу, при этом не обделяла вниманием Алексея, и вскоре от его смущения не осталось и следа.
Вновь пили шампанское, вновь переводились десятки папирос, для женщин заказывались засахаренные фрукты и бисквиты. Осоловевший от выпитого и душевной теплоты, Алеша не заметил, как две четвертные бумажки адъютанта перешли из рук в руку, даже не захрустев. Не слышал он и приглушенного разговора, когда Белоклоков, склонив голову к обнаженному, пахнущему духами плечу Марьи Ивановны, забросил вопросец:
– И как он тебе? По душе пришелся?
– Лучше не спрашивай, – игриво изгибая черные бархатные брови, рассмеялась она. – Я слишком увлечена его молодостью, чтобы быть объективной.
– И все же, не крути?..
– Ох, и наскучили мне твои глупости, Грэй! Все хорошо… только бы мой Ланской не пронюхал… – напряженно, скользя по залу красивыми, темными, как у турчанки, очами, тихо выдохнула она и, надкусывая белыми зубами миндаль в шоколаде, добавила: – Если по совести, он такой молодец! Сокол растет. Красавец, аж страшно… Куда тебе! Да и братцу его… не козырная карта выпала. Уж поверь, будут по нему бабы сохнуть… Заставит он их, дур, пореветь.
– Будет, Марьюшка, ворожить, чай, не цыганка у тебя была мать?..
– А ты-то откуда знаешь? – насмешливо посмотрела ему в глаза корнеевская певица и, морща пухлые губы, холодно подчеркнула: – О своей забаве подумай, а то заскучает… и прыг с колен.
– Не спрыгнет, Марьюшка. Хватит на меня тень наводить, ведь не чужие. Смотри, не избалуй мальчишку. Заморочишь голову… Возомнит из себя, мал еще…
– «Мал»? Так на кой черт водишь с собой? Скушно?
– Ну, уж это не моя боль… У него и брат старший есть, да и своя голова не мякиной набита.
– Ошибаешься, милый. Как польешь, такой и плод жди.
– Так вот и «поливай» осторожно! Не забывай, в чьих шелках да рубинах ходишь.
Андрей с шалой улыбкой в глазах сильно сдавил унизанные перстнями пальцы Неволиной, так что она едва не вскрикнула от боли.
– Так поняла меня, душка?
– Как не понять… Да отпусти же, больно.
И уже под скатертью разминая ноющие пальцы, с ласковой ненавистью прошептала:
– Я же как бабочка, мой корнет, пользы от меня никакой, но и вреда – пшик…
И еще тише, закрываясь от всех прозрачным хрусталем, горячо молвила:
– Что же в горе меня оставляешь? Ведь не старика я люблю, не Ланского, а тебя, свет мой гусарик. Зачем в чужие руки передаешь? Зачем юнца нынче привел? От кого сам бежишь, как от чумы?
– Ты неисправимая дура, – вежливо склоняясь к ее уху, глухо и зло прозвучал ответ. – Нашла кого любить… А бегу я от любви твоей грешной, Марьюшка. Молод я еще… да и рано мне о венце думать.
– А что ж я без тебя делать стану? – В агатовых глазах певицы стояли слезы.
– С мужчинами то же, что и со мной… Гляди, не отстанешь от меня… скажу графу, что проходу мне не даешь… а теперь забудь. Развлеки молодца. Тебе деньги плачены, золотко, так ли – нет? Эй, господа, внимание! – Корнет, крепко целуя в губы сидящую рядом Катюшу, поднял фужер: – Марья Ивановна спеть нам желает, так попросим, господа, попросим!
– Марья Ивановна! – Алеша вспыхнул душой на призыв Андрея, но осекся: язык его стал крепко заплетаться. Вместо слов он накрыл ее руку своей. Брови певички сошлись, образовав морщинку, но тут же она рассмеялась:
– Смелее, смелее, Алешенька…
И вдруг прижалась бедром к его бедру и, перестав шуршать белой салфеткой, взяла заботливо поданную ей гитару:
Весна – пора любви. Лови ее, лови…
Пока жар юности еще горит в крови!
За ближайшими столами стихли голоса, уважительно грямкнули отложенные столовые приборы, и народ, развернувшись в сторону Марьюшки, налился слезливым вниманием, готовый настежь распахнуть свою душу.
У Неволиной было глубокое меццо-сопрано, не ахти какое удачное, на взгляд Кречетовых, но высокая природная чувственность исполнения придавала ему убедительность и силу. Чуткие пальцы легко перебирали струны, и лившийся голос то порывисто, то томно бередил грудь и выдавливал слезу у тяжелого во хмелю и личной думе слушателя. Музыка и слова были откровенно дешевыми, в обычной манере ночных кабаков, признававших лишь страсти кровавой любви, коварного обмана и жестокой, не знающей милости мести. Однако братья, равно как и другие, были зачарованы в эту минуту: они ощущали волнительные ноты в душе и потребность в близких слезах.
Алеша сидел неподвижно, что камень, ощущая упругое тепло ее бедра, не смея оторвать взгляда от красивых лукообразных губ певицы, и с нервным беспокойством отмечал, что под животом у него начинало пульсировать, твердеть и токать все нарастающее желание.
Стараясь как-то приглушить в себе разгоравшееся пламя, он судорожно, в три глотка допил холодный компот, но его глаза уже вновь скользили по прихотливым лоснящимся складкам бордового платья. Сейчас он не понимал, да и не желал понимать вычурности его силуэта и кроя. Напротив, он восхищался красивым корсажем и юбкой, которые нарочито плотно стягивали ее пышную грудь и такие же крупные фигурные бедра. Подсознательно Алексей испытывал чувство стыда, чувство вины, но одновременно и чувство щекотливого азарта, раздевая Неволину мысленным взором, при этом интуитивно понимая, что тело ее изначально было создано для этого развлечения. И право, в красивом дорогом белье, полуобнаженное-полускрытое пеной кружев и лент, оно должно было завораживать вечно ищущий мужской взгляд.
Продолжая пребывать в нервном волнении, испытывая потребность уткнуться горячим лицом в обнаженное плечо Марьюшки, Алешка сквозь тени эмоций все же низал обрывки приглушенного разговора, что велся за его спиной.
– Жизнь этих «певчих пташек» – одна драма, друг мой, – откровенничал ротмистр Крылов с корнетом Хазовым, ковыряясь вилкой в рыбе. – Ей-богу, какая-то беспросветная хмурь нравственных страданий… для тех, конечно, у кого в груди еще сохранились зерна добрых чувств. Почти всякая из них, прежде чем попасть в трактирный хор, проходит суровую стезю в жизни… И вот что любопытно, поручик: в большинстве случаев будущая певичка прежде, как пить дать, была героиней какого-нибудь скандального романа, жертвой настойчивой любви, да чего там… животного сладострастия бульвардье, и уж потом попала на подмостки.
– Ваша правда, Валерий Иванович, – соглашался корнет и, хитро щуря лисий глаз, глумливо замечал: – Оно бывает и так: будущая певичка прежде числилась в горничных, швейках, и уж прилипла, как муха, к кабаку после того, как ее кинул «проклятый изменщик». Мне ли не знать, дорогой Валерий Иванович, что контингент этих хоров состоит из подозрительного, плохо промытого материала…
– Да иначе и быть не может: чтобы окунуться с головою в трактирную грязь, надо не иметь в жизни решительно никакого выхода…
– Но нам-то, выходит, все это на руку, брат, – усмехнулся Евгений, изящно снимая с рыбьих костей белоснежное мясо.
– Выходит, что так, корнет. Стоит ли переживать по сему? У каждого свой путь. Нет, я ничуть не жалею сих пташек. Как говорится, кошка скребёт на свой хребёт… Вот и Марьюшка – забава графа – так ли уж, брат, проста?.. Известное дело, откуда «в жизнь вышла»… Слыхивал я тут от Михалыча, что прежде у Свечина эта штучка «огни зажигала», та еще цаца… Говорят, удачнее и выше других закидывала в кордебалете ноги…
– И не только! – подмигивая, воткнул Хазов.
– В десятку, корнет! – хлопнул его по плечу ротмистр и уточнил: – Главное, что нам стоит держать в памяти, дружище, – Крылов через сытую отрыжку склонился к уху Хазова, – последняя любовь, как и первая, – обе одинаково мучительны, и обе яркие, черт возьми, как пылающий факел. Вы поняли мою мысль, корнет? Так выпьем же за шлюх с золотым сердцем, которым за тридцать.
Алеша напрягся всем телом, когда за спиной послышался тихий издевательский смех офицеров. Радушная улыбка сошла с его губ, лицо помрачнело. Все, что было сказано господами, он воспринял на личный счет, потому как успел проникнуться к этой статной, красивой певице, тепло и ласку которой так ощущала его душа.
– Митя! – Алексей едва не вскочил, пожалуй, впервые в жизни ощутив сердечный разлад.
– Алешка, заткнись! – Глаза старшего брата сверкнули черным огнем, рука повелительным обручем обвила его плечи: – Не сейчас! Не смей! – Брат все понял и сделал свой вывод, сердито и зло прошипев на ухо младшему: – Гости мы тут… Сиди и смотри! Все остальное не наше дело!
В следующий момент всплеск оваций и крики «браво!» заглушили их речь. Марья Ивановна отложила гитару, качнула кокетливо головой и отпила из поднесенного прислугой фужера. Бог знает откуда появились цветы, у стола замелькали красными пятнами лица поклонников. Но Марьюшка, точно не было вокруг никого, приветливо смотрела лишь на Алешу, все крепче прижимаясь к нему бедром.
Глава 8
– И что же, Алешенька, понравилось, как пою? Ведь я для одного тебя… старалась! – Она налила ему шампанского, и он тут же осушил фужер благодарным махом, расплываясь в улыбке, желая согреть ею оскорбленное сердце певицы. – А на этих… – Марья Ивановна снисходительно качнула крупными рубинами, что, как два сгустка крови, сыро сверкали в ее ушах, – стоит ли обращать внимание? Бог им судья, Алешенька… Он ведь все сверху видит, все знает… Ему и судить.
Алеша согласно кивнул головой, не смея оторвать взгляд от ее больших глаз, в уголках которых тепло лучились едва приметные морщинки, а про себя подумал: «Она, конечно, не та юница, чтобы стать мне парой, чтоб ее можно было привести в дом, познакомить с маменькой и отцом… однако как хороша… Ах, ежели б у меня была такая красивая, добрая старшая сестра! Но что ей сказать, чем порадовать? Что дать замен? Я-то, я… что я могу?.. Ничего, совсем ничего! Нет, это ужасно!»
Он от стыдливого отчаянья решился было пригласить Марьюшку на танец, как вдруг из того самого грота, на который указывал перстом сомнительный адвокат Шнюков, заслышался гам-ор, и отчаянный крик одного из крепко заливших за воротник земцев сотряс стены трактира:
– Господа-а-а! Я – ефиёп! Я требую… немедля свезти меня… на родину, в Африку-у!! Кукареку-у! Э-эй, мавры, мать вашу еть! Будем ли пить да гулять?! Ромалы, а ну разделывай под орех мою сучью, непутевую жизнь! Плачу-у, е… меня в спину! Жги цыганочку с выходом!
– И пить будем, и кутить будем, дядя! – грянуло в ответ из цыганских уст, которым с пьяным визгом и ревом поддакнули гулявшие столы.
Цыгане схватились, как оглашенные, брызгать по струнам, а заливистый хор из звеневших монист и колец рявкнул с припева без обычной раскачки и нудного нытья:
…Я ничем, кажися, там
Не подорожила,
Для тебя и стыд и срам —
Все я позабыла…
А дальше началось такое невообразимое проявление разгульного непотребства и куража, что Алексей, впервые видевший купеческий и гусарский разгул, застыл соляным столбом.
– Дяржи-и его, черта-а! – заслышался сквозь треск ломавшихся стульев и грохот опрокидываемых столов заполошный голос Корнеева.
Тот самый земский чиновник, что прежде блажил в голос: «Я – ефиёп!», нежданно вскочил на чинный купеческий стол и, опрокидывая графины, салаты и блюдо с жареной птицей, махнул обезьяной на пальму.
Ни Дмитрий, ни Алексей так и не поняли, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор, да только они и глазом не успели моргнуть, как вокруг началась такая драка и круговерть, что зубы из гнезд вон да носы вдрызг! Из-за столов с медвежьим ревом поднялось на дыбы бородатое купечество и второпях принялось сбрасывать с плеч комлотовые сюртуки на китайском подкладе да засучивать рукава. Следом взметнулись, как языки пламени, ментики гусаров, замелькали мундиры студентов и жилеты приказного люда вперемешку с пестрым атласом цыган и белым льном половых.
– Братцы-ы! Не выдавай наших! Чука́ло покатило! Постоим! – грянуло возбужденно-радостное за соседним столом.
Алешка крутнул голову, пригибаясь от летевшего в него цветочного горшка.
Белоклоков, с горящим взором, при поддержке своих павлоградцев, ринулся в атаку, счастливо блистая глазами, лихо бросая кулаки без разбору по сторонам.
Женский визг завис под потолком, разбиваемый оглушительным звоном битых зеркал и посуды.
– Лешка, держись! – Митя умело, поднырнув под ручищу ошалевшего от драки пузатого купчины, от души чокнул свой кулак в багровую рожу с разверстым ртом.
Алексей хотел было броситься на выручку брату, но тут во всех залах залились полицейские свистки и в разгоряченной толпе показались гербастые фуражки городовых.
– Следуй за мной… – тихо, но властно прозвучал рядом голос.
Алеша обернулся: бордовое платье с обнаженными плечами уверенно скользило в гудящей толпе, направляясь к ближайшей лестнице, ведущей на второй этаж.
* * *
Марьюшка приехала пытать счастье в Саратов еще восемнадцатилетней девицей. В те времена каюты для пассажиров устраивались на буксирных пароходах, а о начале устройства в губернии телеграфа отцам города не приходилось и мечтать[49]49
Устройство телеграфа в городе и губернии было начало лишь в 1859 г., в период царствования Александра II.
[Закрыть]. Саратов, по газетным сводкам и хроникам, к тому времени насчитывал 720 каменных домов и около тысячи деревянных, а также был богат многими сотнями действовавших торговых лавок…
Предрасположенная к танцу и вокалу, обладая яркой внешностью, она скоро была замечена «недремлющим оком» устроителей развлечений и приглашена на заработки в качестве танцовщицы и певички.
Шло время, и ее природная грация и чувственное исполнение романсов нашли своих обожателей – чичисбеев – в разношерстной толпе у артистического входа. Верткие поклонники, соревнуясь между собой, посылали ей за кулисы в гримерную букеты и корзины цветов, соперничая за право устроить rendez-vous с Неволиной в какой-нибудь модной забегаловке. Там, в обществе очередного щеголя, она до осуждаемого часа предавалась веселью: кружила улыбками обожателю голову, а себе – шампанским и крымскими винами с романтическими названиями… Как правило, в тех заведениях их окружало пестрое общество: журналистов, артистов, купцов и просто богатых беспутных отпрысков знатных семейств, которые, ровным счетом не создав ничего, премного тратили родительские капиталы, отнюдь не думая о завтрашнем дне… Позже из липких сетей этого полусвета она возвращалась в экипаже к себе, в куда менее престижные окрестности Саратова – порою одна, но чаще нет. «И если говорить по совести, – не раз с грустью открывалась она своим подругам, – это времечко было для меня – золотым…»
Этим годом Марье Ивановне выпало двадцать семь лет… Критический возраст даже для красавицы, но Неволина, дочь астраханских мещан, была реалисткой и в восемнадцать, и в двадцать пять. Проявлялось это качество как в мелочах, так и в крупном: в отличие от иных «канареек», что кружили и порхали вместе с нею по сцене, Марьюшка не питала иллюзий, ни когда принимала цветы, ни когда приглашалась на загородную прогулку… Она не отказывалась принимать подарки и была им рада, но при этом не ожидала от кавалеров предложений руки и сердца.
Саму Неволину, как видно, вполне устраивало устойчивое положение любовницы-содержанки. Раз в два года, а то и чаще она сменяла себе покровителя, либо они сами удачно сменяли друг друга. Однако по мере увядания ее рано расцветшей юности другими становились и ее благодетели. Среди них уже было трудно сыскать молодого аристократа. На смену им пришли другие имена и фамилии.
Но эта закономерность не удручала певицу. Возвращаться в родную Астрахань ей не улыбалось… Марьюшку там никто не ждал, а престарелых родителей уже давно отпел приходской поп… Здесь же, в Саратове, на расчетливо сбереженные капиталы у Неволиной был куплен ладный, сложенный из красного кирпича дом, имелась и своя выездная коляска, пара человек расторопной прислуги и деньги с ценными бумагами в тайном ларце на замке, методично откладываемые на старость. А посему случившуюся перемену в окружавших ее по жизни милостивцах она приняла без бабьих слез, без лишнего ропота, а как должное.
«Что ж, когда-то это, один шут, должно было статься, – сидя за разложенным пасьянсом, ровно и трезво рассуждала она. – А коли сие неизбежно, как смертушка, так стоит ли убиваться и горевать?..»
Нынче она находилась на попечении у командира павлоградского гусарского полка графа Ланского. Веселый старик-гусар, как ни странно, во многом устраивал весьма искушенную жизнью Марьюшку. У нее, как у большинства женщин, имелся свой заветный дневник, который у педантичных немок зовется «гроссбух». В нем у Марьи Ивановны имелись любопытные списки почти на все случаи жизни. Так уж издревле повелось, что женская половина просто обожает составлять всевозможные списки и реестры: что следует купить завтра, что обменять сегодня, а что выкинуть за ненадобностью раз и навсегда, дабы не раздражало глаз.
И, право, никакая свадьба или судебная тяжба, ни одно рождение или смерть – не обходятся в России без составления пышного количества списков, а позже долгого утверждения их на домашнем совете.
Так вот, по этим спискам, чуть ли не по всем пунктам цепких женских «предъяв» к мужнему полу – Николай Феликсович подходил совершенно. Во-первых, он не был скуп и щедро помог отделать ей спальню, гостиную и будуар, при этом баловал модным платьем, кружевами, духами и прочими подарками, до которых ненасытно и жадно женское сердце… Во-вторых, он не был навязчив, как молодые хлыщи, что в прежние годы «божьими жеребчиками» осаждали крыльцо ее дома. Ланской оживлял колоколец на дверях Марьюшки не более одного-двух раз в неделю. К тому же он крайне редко любопытствовал, как она справляет досуг, куда расходует ссужаемые им «амурные» деньги и как планирует свою дальнейшую жизнь.
И лишь одно условие, которое позволил себе выдвинуть при их добровольном альянсе граф, настораживало прозорливую содержанку.
Полковник с характерной военной категоричностью и предгрозовой хмурью в голосе упредил свою пассию:
– Могу простить многое… Но ежли прознаю сам, либо доложат, что путалась с кем… пеняй на себя, моя милая, со свету сживу, раздавлю, как моль, так и знай.
Это откровение старика отравляло вольную жизнь Марьи Ивановны, холодило грудь своей суровой, не дававшей отступного, правдой… Однако шелест купюр, суливших безбедную жизнь, внимательное, по-отечески ласковое отношение, а также подлинная любовь к ее пению под гитару растапливали сердце Неволиной, вызывали уважение к графу и даже некое подобие привязанности.
Прежде, до появления в ее жизни полковника, ей и в голову не приходило, что она кому-то своим поведением приносит боль. Время, проведенное в объятиях других мужчин, на ее свободный от морали взгляд, никакого отношения к их договору не имело, да и урона никакого принести не могло, поскольку всегда оставалось тайной за семью печатями. Еще в свои пятнадцать, когда она только-только решилась выйти на распутную стезю легких денег, уже тогда врожденная интуиция, а быть может, древний женский инстинкт подсказал ей: чем меньше знают мужчины, тем лучше и легче живется их сестре… Уже в Саратове, танцуя в шумном кордебалете у господина Свечина, она привечала в своем будуаре многие толстые кошельки города. Все они без исключения: старые и молодые, гражданские и военные, наведывались к госпоже Неволиной ради одного и того же… и она, по отзывам местных волокит, обхаживала их «во весь опор» своих немереных способностей и талантов.
Из-за какой напасти она скрытно бежала из родного дома, никто не знал, как и не знал, куда периодически из города исчезала сия улыбчивая особа.
И даже господин Ищейкин Владимир Кузьмич, бывший при губернаторе Панчулидзеве несколько лет в Саратове полицмейстером, и тот не мог подкопаться к невесть откуда объявившейся певичке.
Все «пронюхивания» и «подкопы» Ищейкина в адрес подозрительной с точки зрения полиции Марьюшки вскоре закончились, потому как Владимир Кузьмич по злой иронии судьбы сам надолго оказался под пристальным оком окружного суда. После же оправдания незадачливый сыщик был скоро определен по ходатайству князя Голицына балашовским городничим, где год ли, два спустя Ищейкин тронулся умом, был вновь привезен в Саратов и вскорости приказал долго жить, отдав богу душу в доме умалишенных.
При губернаторе Федоре Лукиче Переверзеве должностью полицмейстера правил пристав Скворцов, однако, будучи человеком чрезмерным в подобострастии к начальству, он суеверно боялся бывать в отлучке даже по делам службы и поэтому неотрывно находился при губернаторе, пользуясь премного его расположением.
Марья Ивановна, в отличие от покойного Ищейкина, ничуть не занимала голову и сыскное чутье Скворцова; его тайная агентура сообщала в докладах, что сия особа весьма активно, с выгодой для себя пользуется благосклонностью многих известных мужей города, а это обстоятельство было для нового полицмейстера равносильно табу, иными словами, госпожа Неволина, словно по волшебству чародея, переходила в касту неприкасаемых…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































