Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
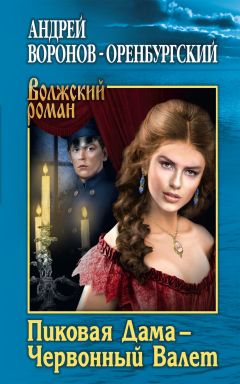
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 48 страниц)
И пока она рыдала, Ферт не вымолвил ни слова. Он просто крепко держал ее, прижавшись лицом к ее волосам, и думал о чем-то своем, суровом и темном. И когда она наконец затихла, он двумя пальцами приподнял ее подбородок и заглянул в глаза:
– Хватит тебе… Все путем, мы снова вместе. Распишем партию в лучшем виде. Что притихла? Помнишь, как мы брили богатых козлов? О чем ты все думаешь? Эй, не спи…
– Знаешь, – она нежно коснулась пальцем его бровей и грустно улыбнулась, – смотрю я на нашу жизнь и вижу одну только злость да ненависть. Вот ты говоришь – «помнишь»… А я и помню-то вокруг только страх и ненависть.
– Ну, уж прям так? – Ферт криво усмехнулся. – Там, за решеткой, тоже не сахар. Хапнул я горюшка… выше крыши. Но бог милостив… – с угрюмой задумчивостью закончил он.
Однако по его колючим и холодным глазам видно было, что и сам Ферт ждет от этой жизни не рая, но ада и как будто свыкся с сей мыслью, как и со своею преступной, жестокой судьбой. «На земле ад и на небе ад… Много видел, много познал… Но рая не видел…» – говорил его тяжелый тюремный прищур, и желваки зло перекатывались под обветренной кожей.
– Да, Сереженька, да… – тихо продолжила Мария. – Жизнь скупа на другие краски: черное, белое… ну разве еще серое… Серого даже больше… Все скребутся, тужатся, кусаются за свое место на помойной куче, не оступиться бы, не соскользнуть чуть ниже. А я и так почти у самого низа правду черпаю… и потому вижу, во что это превращает людей.
– Хватит мораль читать! Не у попа в постели лежим. Вот она где у меня – азбука твоя! – Он чиркнул себя ногтем по горлу и зло рассмеялся. – А ты полагала, милка, благодать и милосердие к тебе на всех четырех приползут и будут руки твои лизать от восторга? Ишь ты о чем задумалась, роза! Раньше, красивая, надо было рогом шевелить, когда из своего гнилого стойла бежала! Да! – в этой сучьей жизни страдания неизбежны. Да только к дьяволу на рога такую философию. Другим тавром прижигай себя! Чего видел, того не помню, что помню – того не видел… так спокойней – вот мое кредо. Эй, монашка, ты лучше о любви подумай! Я ее восемь лет на нарах во снах видел… губы твои на своей ладони серниками корябал…
– О «любви», говоришь, подумать? – Мария приподнялась на руке и села на кровати, подложив под спину подушку. – Мне и о ней, Сереженька, страшно думать. Я ведь давно не юница, многое повидала в жизни. С другой стороны, спорить с судьбой тоже глупо. Разве артачится пуля в полете, посланная чьим-то выстрелом? Нет, она лишь пробивает цель – всецело покорная воле пославшего. Нам дано Небом прекрасное свойство жить, видеть свет, быть любимыми – и что из всего этого станется, пожалуй, и есть Божья воля, смысл задуманного. Помню, как в детстве принимала роды у нашей кошки. Котята слепые, беспомощные, дрожат, смешные такие. Возьмешь этот теплый комочек в руки, прижмешь к груди, а он пригреется, уткнется носиком и дремлет доверчиво. А ведь только стисни пальцы, и все… Так и мы все, грешные, Сереженька, в сильных Божьих руках… И верить, наверное, следует в милость Господню, раз этот пушистый комочек верит в нашу людскую благость и сердце.
Ферт удивленно посмотрел на нее, словно впервые увидел, и покачал головой. Потом посмотрел снова, но по-другому: она продолжала сидеть на перине все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами.
«Похоже, головой тронулась», – подумал он, нахмурился, посмотрел на нее вновь, захотел что-то сказать, но только застонал, опрокидывая ее на спину:
– Глупая, глупая моя девочка! Да неужели ты думаешь, что я бы искал тебя по всей Волге, если б не жил тобой? Если б ты не сводила с ума меня – жигана и картежника – до такой степени, что я ночи в остроге не спал и, вот крест, перестал понимать, куда меня заносит?
Пламя свечей задрожало от сквозняка. Из спальни хозяйки не доносилось ни звука, и тетка Дарья, измученная бессонницей и любопытством, чуть-чуть приоткрыла не запертые на ключ двери.
Подозрительный гость и ее госпожа были сплетены в яростном объятии. Оба были в чем мать родила. Голова незнакомца прижималась к ее груди. Они были заняты только собой и не заметили, что на них смотрят.
Служанка, зажав рукой рот, так же бесшумно прикрыла дверь и, возмущенная, вернулась в свою обитель. Где-то в тайниках души она уже давно подозревала, что ее госпожа отнюдь не так проста… «В тихом омуте черти водятся…» – ревниво ворчала она, убирая с подноса пустой графин и стопку грязных тарелок.
– И давно ли в таком грехе живет девка? Тьфу, пропасть! Прости меня, господи, старую.
…Влюбленные ласкались до рассвета. Долгожданная ночь прошла как во сне, который и ей, и ему снился в течение долгих, что вечность, восьми лет разлуки. С первыми лучами они безмятежно уснули. Мария ощущала себя ленивой и сытой кошкой, нашедшей наконец-то покой в надежных руках хозяина.
Глава 3
Мария еще крепко спала, когда Ферт, умывшись нагретой водой из кувшина, облачился в почищенный Дарьей костюм. Чувство опасности не подводило его никогда. Вот и сейчас, стоя у окна, он ощущал, как знакомым холодком цепенела его плоть, словно целились в нее невидимые штыки, и как ни резонил себя: дурь, нервы, – убедить не мог. Знал он: и на воле, после долгого срока, глаз за ним будет – стервячий… Теперь для законников он клейменый, меченый до могилы. «Эти организованные овчарки не поленятся… У них рука не отсохнет перо в чернила макать: во все губернии “малявы” обо мне полетят с портретами. Ни дышать, ни жить не моги! Всех под свой аршин кроят, суки… А то, что у меня есть свой мир? Не меньше вашего… С этим как быть? Но вам плевать… прежде всего красные флажки закона… Ну, так я тоже плевать хотел на вас с каланчи… И так же буду стрелять в ваш мир, в котором вы мне не оставили места».
За окном гремели колеса телег, экипажей, мелькали освещенные полуденным солнцем лица людей, слышались голоса, откуда-то пряно тянуло подгоревшим кофе.
Ферт медленно выдохнул воздух из легких, осмотрелся коротко и чутко. Интуиции он верил свято: пусть сейчас не идут по его следу, пусть дремлют до сроку ищейки, но это только до сроку…
Он зажмурил глаза, с силой тряхнул головой, словно отгонял наваждение. Но перед мысленным взором стояла тайга, черная, хвойная, мертвая. Ни шороха, ни звука. Только дятел нет-нет застучит, ровно крышку гроба заколачивает. Жутко, тихо. Ветер сбивает в колтуны мохнатые вершины сосен.
«Кому-то из господ контролеров поблазнилось спьяну, что здесь не худо будет устроить поселье… Его непременно окрестят по имени и отчеству инициатора: каким-нибудь Петро-Ивановским или Борисо-Афанасьевским.
Туда, в этот угрюмый северный лес, пробираясь по валежнику, по тундре, и пригнал их конвой. Пил, как водится, не хватало. Выдали топоры и веревки – вот и все “оружие” для борьбы с тайгой»[69]69
Дорошевич В. Каторга. СПб., 1994.
[Закрыть].
Ночевали под открытым небом: дождь, ветер, снег – не скули, забудь – улыбнись судьбе. Валили деревья и мастерили землянки. Кое-как из стволов сколачивали сруб; для теплоты обкладывали землей, вместо крыши наваливали валежник. В этих темных берлогах спали, а поутру надзиратели гнали поднимать новь без лошадей, без сох – одними заступами.
Раз ударил мотыгой – два вершка земли сковырнул, другой раз, со всего плеча – еще два вершка. Так вершками отнимали землю у тайги, а тайга горстями отнимала человеческие души.
Вспоминались и бараки каторги – от этих «царских палат» несло затхлым деревом, камнем и моровой смертью.
Спасали разве карты. «Игра в каторге – далеко не игра, – это лютый запой, страшнее всякой болезни. Игра меняет весь строй, весь быт тюрьмы и человеческий облик. Недаром говорят: “заразился игрой”. Жуткие сюжеты раскладывают карты на каторге: благодаря ей – злодейке тяжкие преступники освобождаются от наказания, к которому приговорил их суд. Благодаря игре люди меняются именами, полами… и несут наказания за преступления, коих в жизни не совершали. Проще говоря, старую формулу “приговаривается к каторжным работам без срока” здесь легко подменяют другой: “приговаривается к бессрочной картежной игре”»[70]70
Дорошевич В. Каторга.
[Закрыть].
– Шеперка (шестерка)!
– Солдат (валет)!
– Мамка! Барыня! Шелихвостка (дама)!
– Помирил (на пе)!
Такие рулады слышались в камере и в обеденный час, и вечером, когда арестанты возвращались с работ, и ночью, и рано утром перед раскомандировкой. Игра в сущности продолжалась непрерывно: когда не играют, то обязательно говорят и думают только об игре.
Думал, говорил об игре и Ферт, но глаза его при этом не горели лихорадочным огнем, и за картами он жил не в угаре, не таял и не горел, и дачку хлеба не проигрывал, как иные.
– Бардадым! Братское окошко! Полтина мазу!..
Что ни говори – карты были его спасением. И стоит ли копья ломать, если вся Россия от восьми вечера до восьми утра играет в карты, а от восьми утра до восьми вечера думает о них. А главное, человеку, попавшему на карторгу, не на что надеяться, кроме случая: «выйдет случай – удачно сбегу». Это правило и создавало у заключенных слепую веру в «фарт», в счастливый случай, целый культ «фарта». И картежная игра – это лишь жертвоприношение богу-«фарту»: где ж, как не в картах, случай играет самую важную роль. Да и арестанту зашибить копейку негде. Выиграть – это, пожалуй, единственная надежда отчасти скрасить свое положение: купить сахарку, поправить одежонку, нанять за себя на работе. И наконец, этой всепоглощающей игре, этому азарту, в который человек бросается с головой, отдается как пьянству, как средству забыться, есть еще объяснение: это страстное желание уйти от тяжких дум о родине, о воле, о прошлом, это старание заглушить мучения истерзанной совести.
– Два сбоку! Поле! Фура с кушем! По кушу очко!
«Страсть к игре круче голода, – с удовольствием ослабляя тесную петлю галстука, усмехнулся Алдонин. – А чувство голода – сильнейшее из человеческих чувств».
Выпив принесенный теткой стакан чая, Ферт распахнул окно и с удовольствием прикурил папиросу. Высунулся и огляделся. Солнце и толчея продуктового рынка напротив не оставляли места для уныния. Всюду было движение, кипение жизни и яркие краски весны. Люди толкались у прилавков, заглядывали в бакалейную лавку, рядились за товар; индейки и гуси гоготали в клетках; какая-то молодуха держала на плече корзину с выпечкой, такой же румяной и свежей, как ее щеки. Все было и уму и сердцу!
– Вот она… жизнь! Это тебе не тощий матрас с засохшими от голода вшами… – на выдохе процедил он, перевел дыхание и вновь глубоко и радостно ощутил терпкое чувство свободы. В золотистом воздухе дня были разлиты запахи молодой травы, первых цветов мая и речная бодрящая свежесть. Ах, как хотелось жить и кормить с ладони капризную Фортуну! Еще там, в остроге, он крепко, до волчьей выти мечтал о теплом, быстротечном, волшебном мае, который подарит ему свободу. Хотел видеть, как наливается зеленью трава, как по-девичьи робко набухают почки черемухи и сирени, ощутить вольные запахи серебряной Волги и незадачливую суету уютных провинциальных городков.
Ему вдруг припомнился забытый давний июнь… Он был тогда еще нескладным волчонком, стоявшим у порога своей норы, и ловил чутким носом зыбкие запахи сладостной неизвестности романтического будущего. Вспомнился и дядя Костяй – матерый шулер и вор, ныне покойный, что натаскивал его по малолетке разным премудростям.
– Гляди-ка, братва, а ведь из этого поца ловкий малый выйдет, пальцы-то какие музыкальные, язвить меня в душу…
«И вот действительно, – Ферт рассеянно посмотрел на свои большие, костлявые белые руки, – вы, милые, и решили мою участь».
Дядя Костяй, зорко присматривавший за своим «пасынком», водил его в бильярдную Антипыча, где, кроме сетчатых луз и шаров, «за скрытыми дверями имелись другие игры: и бикса, и судьба, и фортунка, а рядом за китайской ширмой день и ночь резались в карты на деньги. Старый шулер заставлял Сергея проделывать всевозможные штуки с картами, натаскивал все новым и новым приемам, временами хвалил, но каждый раз говорил Антипычу:
– Чует сердце, из Сергуни выйдет толк. Руки на редкость музыкальные, и не дурак»[71]71
Гиляровский Вл. Москва и москвичи.
[Закрыть].
Так, под крылом дяди Костяя, Ферт и вышел в люди, стал своим человеком на «мельницах» и прочих игровых сходняках. В свои шестнадцать он уже умел играть наверняка, с ходу подбирать карты, кроить вольты, делать всевозможные коробки, фальшивые тасовки, словом, все, что требовалось для стоящего игрока, то бишь шулера-исполнителя. Старик до смерти держал при себе «руки» Ферта, ставил крупные суммы на своего воспитанника, будучи дольщиком, и под конец игры, вытирая пальцы от мела, которым бильярдисты «фабрили» носы своим киям, начинал аккуратно складывать в кожаное портмоне выигрыш.
Внезапно, словно оступившись, Ферт отшатнулся от окна, в стиснутых зубах его застыла недокуренная потухшая папироса.
Напротив окна задержался красномордый городовой и как будто бы подозрительно зыркнул по второму этажу дома.
Алдонин почувствовал нервную тошноту, точно от удара под дых. Заскакали мысли – давал о себе знать въевшийся в кожу страх каторги.
«Дурак, чего боишься? Надо же… как нервы шалят…» Он чиркнул спичкой, глубоко затянулся. Городовой между тем сочно хрустнул соленым пупырчатым огурцом и, нахмурив брови, заинтересованно направился к дальним рядам, где торговали чернявые инородцы.
Ферт усмехнулся. Ему в самом деле сделалось весело и отдохновенно. «Козыри крести – дураки на месте… Нет, брат, ты в жизни еще не устроился, а в театр, как известно, босяком не пускают. Нужен тебе еще один козырный рывок, так чтоб верняк и сразу в дамки».
Философия неизбежного риска и неизбежных потерь горячила кровь: жизнь – копейка, судьба – индейка, раньше сядешь – раньше выйдешь, деньги – мусор, и наметет его завсегда негаданным ветром. «Эх, отвяжись плохая жизнь, привяжись хорошая!»
Сергей, остановившись у керамических изразцов, с силой вогнал печные заслонки обратно в пазы. «Нет, рано глаза от сытости жмурить. Сначала поймай в мутной воде крупную рыбину, так, чтоб на всю жизнь… вот тогда и ныряй вместе с илом на золотое дно… Осядешь где-нибудь в столицах… там, в листопаде адресов и лиц, способно укрыться, отгородиться стеной из денег и наблюдать сквозь ее бойницы за шабашем жизни… лишь бы тылы были крепкие, без гнили и червоточины. Я, может быть, тоже рожден от благородного отца и честной матери…»
Ферт вновь ухмыльнулся своим мыслям: сколько в них было наивной мечты, жиганской надежды и телячьего восторга. «А твоя Маша не сядет на измену? Гляди, свяжет тебе новый срок вместе с носками…» – спросил сам себя Ферт, холодно впиваясь в нежное лицо спящей. На какое-то время Сергея окутала паутина сомнений, и он раздул ноздри, чувствуя, что его одурачили, поймали в ловушку. «Ну, сплю я с ней, ну, ходил на фарт… Ну так из-за нее и срок поимел…» В один миг карий бархат глаз любимой утратил свое очарование, а выражение доверчивой любви стало его бесить. Внезапно она показалась ему навязчивой и бестолковой – качества, которые он в женщинах не терпел. Она словно напрашивалась на то, чтобы ее бросили прежде, чем это ему взбредет в голову. И чем откровеннее и прямолинейнее он был с собою, тем больше она виделась ему опостылевшей, нудной бабой.
Мария сложила во сне руки – жест, который он за эти мгновения уже успел возненавидеть. «Да и где гарантии, что она мне была верна? Как пить дать, у нее между ног за это время столько кобелей побывало, что и пробу-то ставить негде!»
Глава 4
Ферт сжал кулаки: глухая ревность железным кольцом сковала сердце, давила на него сверху, снизу, пытаясь вонзить свое ядовитое жало.
Он снова обвел ее взглядом и, стиснув до скрежета зубы, остался на месте: Мария была женщиной редкой красоты. Темный каштан кудрей свободно и вольно разметался по белой подушке, карминный и без помады рот был широким, а губы пухлыми.
– М-м-м… ты уже встал, котик? Мне холодно без тебя! – ворвался в его сознание голос Марьюшки. – Который час?
Он перехватил взгляд ее ярких глаз, увидел, как губы ее растянулись в счастливой улыбке, и поежился.
– Так сколько сейчас: обед, ужин? – Она сбросила одеяло и беззаботно потянулась всем телом, так что между манящими округлостями грудей образовалась узкая лощинка.
– А пес его знает, – проворчал Ферт.
Она опять улыбнулась ему и, свесив одну обнаженную ногу с кровати, примиряюще сказала:
– Сереженька, что ты стоишь как неродной. Иди, сядь ко мне, милый, не бойся. В моем доме чумы нет… Что-то не так? Что ты чувствуешь?
– Свободу, мать твою! – Ферт судорожно заложил руки в карманы брюк, тут же вынул и сунул вновь.
– Ну если так, то конечно…
Она говорила вскользь, мягко, как хороший друг; Мария, впрочем, всегда при нем говорила так – на воркующей какой-то ноте участия и совета. Затем соскочила на пол с той быстрой нервной грацией, которая его неизменно очаровывала, и принялась надевать платье.
Алдонин не удержался. Ревность бесновалась в нем, ощупывая своими огненными руками вздымающуюся грудь, дышала гневом, поднимала мириады колючих иголок и бросала их с размаху в измученное сердце.
– Слу-шай, ты-ы! – Он не дал ей надеть платье, а напротив, содрал его через голову и швырнул на пол, продолжая уничтожать ее остребенившимся взглядом.
– Я что-то не понимаю тебя, Сережа? – Она, стараясь сохранять спокойствие, тем не менее торопливо укрыла груди в кружевные чаши французского лифа. – Господи, как все сложно!
– Все очень просто! Разберемся, поймешь!
Он больно схватил ее за волосы – так берут собаку за шкирку, – и притянул к себе.
– Я хочу знать, понимаешь? Я хочу знать, с кем ты тут весело дни коротала?
У Неволиной замерло сердце. Она дышала часто, не смея поднять глаз.
– Мне кажется, – выдохнула она, – ты сам… мало веришь в то, что говоришь…
– Ой, не ври, кареглазая! Еще скажи, что все эти годы была одна и поливала эти дурацкие цветы? – Совсем белый, но все еще с виду спокойный, он сверлил ее взглядом, следил за каждым движением и словом.
Марию заколотило отчаянье: за всю ее память о Ферте ей плюнули в душу. Перед глазами мелькнуло искаженное гневом лицо графа Ланского, потом надменная маска наглеца Грэя – те тоже в неистовстве «рыли землю», пытаясь докопаться до истины. «Эх, мужчины, все вы одним миром мазаны – только и можете, что силу показывать… Ай, будь что будет…»
– Да, здесь бывали люди, – ответила Мария бесцветным голосом и попыталась вырваться из жестких рук – тщетно.
– Я хотел бы их видеть.
– Это несложно. Только зачем? Я и сама могу тебе все рассказать.
– Ну, ну… прокукуй, милка, что ты еще всегда думала обо мне, когда парилась с другим под одеялом.
– Да руку-то отпусти! Ой, волосы… Больно-о!
– Молчи, сука, знаю.
– Господи! Да что тебе от меня надо? Исклевал ты меня!
– Все, как совесть подсказывает. Бог тебе судья, Марья Ивановна.
И тут ее прорвало: оставляя в цепких пальцах ревнивца волосы, она вырвалась из его рук и отбежала в другой угол спальни. Бретелька лифа соскочила с ее плеча, и одна прозрачно-розовая, нежная грудь обнажилась совсем.
– Что уставился? – зло крикнула она и неожиданно для себя прибавила циничное ругательство.
Он усмехнулся насмешливо и отер ладонь о ладонь, смахнув ее волосы, как стряхивают ржавчину и прах старой, облезлой краски. Однако это только подхлестнуло Марию:
– А-а, да ты ревнуешь никак? Так только шепни мне, век верной буду. Да, да, да-а-а! У меня были мужчины… А что ты хотел, чтоб я молча сидела здесь взаперти и считала свои морщины? А кто, скажи на милость, позаботится обо мне? Откуда мне было знать… вернешься ты или нет?
– Ты знала! – Глаза Ферта сверкнули льдом.
– Ложь!
– Ну что за лярва?..
– Жена твоя – Акулина пико́вая! Знала, с кем жизнь свою связываю… вот и поклялась стать достойной тебя. Умру, если вру!
– Заткнись. Разве я к тебе относился как к шлюхе?
– О, не-ет. Разве что сейчас, – нервно захохотала она.
– Словами не бросайся… Цеди базар…
Алдонин ковырнул ногтем лежащую на комоде колоду карт. «Убить ее, что ли?.. Взять эту лебединую б… шею и – р-раз… Крикнуть она, тварь, конечно, успеет… Тогда придется и ее старуху кончать…»
– Ты что задумал? – В женских глазах скакнул страх, сменившийся вызовом. Она бесшумно перебежала босыми ногами к трельяжу. Путь к спасительной двери был отрезан. Там стоял Ферт и смотрел на нее с тяжелой задумчивостью. – Убить меня хочешь, убить? Это что у тебя в кармане – нож, револьвер? Ну так давай, прирежь, застрели! Жаль, что тогда, двенадцать лет назад, на рынке, ты не сделал сего! Только не думай, что это сойдет тебе с рук. Я эти годы тоже не тамбуром вышивала – завела знакомства. Тебе фараоны махом крылья подрежут. Так и знай, живой не дамся! Плевать я хотела в твое лицо… А теперь давай кончай, ты же у нас герой!
С яростью, которую больше не мог сдерживать, Алдонин отшвырнул ее от себя. Девушка ударилась головой о дверной косяк и, тихо застонав, медленно сползла по стене. А он все так же молча, с высокомерным видом, быстрым и решительным движением выхватил револьвер, и – точно улыбнулся чей-то черный, беззубый рот. Ферт крутнул большим пальцем вороненый барабан, тот механически затрещал, словно давал жертве время одуматься. Но она не видела ни его холодных глаз, ни револьвера, в стальных сотах которого гнездилась смерть. Закрыв дрожащими ладонями лицо, она прошла быстрыми крупными шагами мимо него и бросилась на постель, лицом вниз, отдавшись беззвучным рыданиям.
Ферт мысленно выругался, сунул во внутренний карман ненужный револьвер – дело принимало бессмысленный и нелепый оборот. Путаясь в хаосе мыслей, он прошелся по комнате, прислушался у дверей – тихо; скользнул напряженным взглядом по спальне. Шторы были приподняты, яркий дневной безоблачный свет золотыми квадратами лежал на полу, отражался в трельяже, на спинках бронзовых щеток для волос, в гранях флаконов. Набивные стулья жались друг к дружке и, казалось, с немым испугом таращились на своего опрокинутого вверх дном собрата.
«Черт… ну, баба… ну, шестикрылый серафим… совсем спятила… – Сергей передернул плечами и, наморщив лоб, подошел к своей пассии. – Что ж, если я говорил столь зло и сардонически, значит, на то имелись причины». Он остановился над нею, потрепал по плечу, но Мария, лежавшая ничком на кровати, продолжала безутешно рыдать в отчаянной, нестерпимой муке. Голые лопатки почти сходились вместе, точно грудь ее жгли раскаленные угли.
– Эй… кареглазая! – Он потянул ее за руку. Если Фламинго и слышал ее протесты, то вида не подавал. – Слушай, голуба, хватит нам играть в детские игры, договорились? Ну прости меня. Я горячий, ты горячая – вот и обожглись при встрече. Второй день вместе, а грыземся, как кошка с собакой.
Он сел возле нее на кровать и погладил дрожавшие женские плечи.
– Ты ведь у нас красавица… все время под обстрелом внимания… Тяжело, наверное… – шептал Ферт, наклонившись. На губах его воровато скользила улыбка, в голосе слышались нетерпеливые нотки. – А хочешь подарочек чинный? Ты только будь со мной ласковой, мм? Как прежде… Совсем ручной; ты, я знаю, это умеешь.
Хрипло рассмеявшись, он снова вложил ее ладонь в свою.
– Не ломайся. Хватит меня дразнить, ты разве не знаешь, что мужчины не любят женщин, которые их дразнят?
– Ты меня никогда и не любил! Ни до, ни после… – в ответ прозвучало далекое, налитое слезами эхо.
Алдонин недоуменно вздернул бровь: «Психует девка… Характер выказать надо…»
– Разве я когда сказал, что люблю тебя? – Он сам себе подмигнул в зеркало и показал сквозь зубы кончик языка.
– Именно что нет! Ты хоть имя-то помнишь? Для тебя я всю дорогу: «милка», «кудрявая», «кареглазая»… Что я тебе – телка двуногая или овца? А туда же – «любовь», «мужчины не любят женщин, которые их дразнят…».
– А мое погоняло – Ферт, Фламинго – тебе тоже не по ноздре? Я так… как будто привык, не жалуюсь…
– Вот и погоняй себя дальше, а у меня имя есть.
– Ты сядешь наконец? – Он крепче сжал ее запястье. – Или прикажешь разговаривать с твоей ж…
– Ну села, села, дальше что? – Мария вырвала руку и отвернулась. Ее начинала бить дрожь, ей хотелось исчезнуть куда-нибудь до того, как он это заметит, но Ферт был непреклонен. – Что ты все бродишь, Сережа, вокруг да около? – Злость и обида внезапно вырвались на волю, как джинн из бутылки. – Чего тебе надо? Откровенности? Правды? А унести-то сможешь? Так знай: я ребенка хочу! Мне скоро тридцать. У нас вообще он когда-нибудь будет? Говорят, дети – вершина любви…
– Говорят, в Москве кур доят. Глупая, на бездетной бабе глаз отдыхает.
– Ну, ну. – Марьюшка печально усмехнулась в ладони. – Еще скажи, что сходить под венец – стать кораблем без парусов. Ладно, не надо песен, плавали – знаем. Только и ты знай: я не позволю тебе разрушить мою жизнь.
– А что ты, черт возьми, сделаешь, чтобы ее спасти или хотя бы приукрасить? – Ферт хищно усмехнулся, и что-то волчье просквозило в его чертах. – Нет, милая, не время сейчас колыбелью голову забивать. Мы должны думать о будущем.
– Мне не нравится твое будущее. – Она наградила его холодным взглядом и горько сказала: – Когда-нибудь я навещу тебя в тюрьме. Можешь на это надеяться.
– Не каркай, не прокурор! – Ферт мстительно сузил глаза. – Чего ты сама от меня добиваешься? Чтобы я расплакался в голос? Меня не переделать – топор сломаешь. Ты-то, как вижу, себе два века намерила? Только вот с кем? С фраером пудреным, что любовь обещал крутить?
– Не умеешь ты ревновать, Сереженька. Глупо выглядишь. – Она насмешливо улыбнулась и гордо откинула голову.
Алдонин потемнел от злости. Закусил удила и не задержался с ответом.
– Ну вот что, разлюбезная Марья Ивановна, рога полируйте лохам портяночным… Им забивайте и мики-баки насчет сопливых детей. А я, когда устану от запаха вашей постели, скажу… врать не буду.
Он начал спокойно, со знанием дела, затягивать узел галстука, когда Мария, дико взвизгнув, наотмашь с силою ударила его по гладко выбритой щеке. Ферт пошатнулся. Страшно бледный, почти синий, но все такой же молчаливый, с той же невозмутимостью и недоумением, он уставился на Марьюшку своими холодными, неподвижными глазами. Ее обнаженная грудь высоко и часто вздымалась, глаза глядели на него с ужасом.
– Ну?! – Она сорвалась на крик. – Сделай же что-нибудь! Ударь, убей, обзови!
Он продолжал молча стоять и смотреть на нее. Странно: этот решительный поступок, похоже, встряхнул его, заставил осечься и сменить гнев на милость.
«Вот это да-а! – мелькнуло в голове. – Кремень девка! Не побоялась кошка показать свои когти».
– А ты стала с вывертом, – уже в голос сказал он, растирая пальцами пылавшую щеку. – Надо же, такие дивертисменты откалываешь… Верно говорят: «Земля ходит вокруг солнца, но не обхаживает его…»
– У нас, у женщин, все сложнее. Разве не знал: любовь зла, полюбишь и…
– Ну ты и стерва… – Он погрозил ей пальцем. – Щука, одно слово.
Ферт элегантно одернул сюртук и бросил колоду карт в карман. В его зелено-серых глазах мелькнул хитрый бес лукавства.
– Ладно, подобьем бабки. Если я сейчас уйду… то навсегда. Ну-с, ничего не скажешь?
– Это ты шутишь или опять хамишь?
– А ты как думаешь? – Он неопределенно пожал плечами и взялся за бронзу дверной ручки.
– Перестань фиглярничать! Я действительно не знаю!
– Что ж. – Алдонин сочувственно развел руками, изобразив на лице скорбную мину. – Тогда, пожалуй, это дело стоит оставить, раз оно столь безнадежно. Впрочем, могу на прощание дать дельный совет: освободись от привязанностей и познаешь истину. Засим позвольте откланяться, Марья Ивановна.
– Се-ре-жа! Сереженька! – Вконец одуревшая от надменной бесчувственности, пугаясь правды происходящего, она замерла на кровати, глядя в пространство невидящими от слез глазами. Затем всплеснула руками и вновь упала лицом в подушку.
– Ну будет, я пошутил! Мария, сердце мое! – Ферт подхватил ее на руки, закружил по комнате, целуя горячую соль слез. – Прости дурака. Черт попутал… Что было, то прошло – похоронили. Ударим по рукам? Ну вот и славно! Ты только будь со мною рядом… Я ведь без тебя, как нож без рукоятки!
Он силою усадил ее в кресло и, сам пугаясь своей опасной игры, встав на одно колено, склонился к ее губам:
– Ты боишься меня?
Она отрицательно качнула головой и, запустив пальцы в его черную гриву, чуть слышно шепнула:
– Я боюсь себя.
– Тогда обними меня быстрее… и я защищу тебя.
Нежные руки обвили его шею. Сергей облегченно вздохнул. Мария выгнулась назад, с трудом удерживая эхо недавних рыданий. Но только губы Ферта коснулись ее плеч, как тут же карие глаза вспыхнули торжеством и вниманием. Она и в самом деле искренне отозвалась на его ласки, но теперь, после утреннего инцидента, какая-то часть ее души осталась запертой, загороженной слепым женским упрямством. И она искусно подыгрывала сему настроению. Все было просто: Сергей желал показать ей нечто, а она была полна решимости не позволить ему этого, вернее, лишь дать то, что считала необходимым.
Мария прекрасно видела, что происходит, от нее не ускользнул ни один самый деликатный штрих в действиях Ферта. Она, казалось, читала его мысли, знала, что у него на сердце: «Нет, он не тот, что был восемь лет назад…» Неволина почувствовала это в первый же час их встречи в его независимом повороте головы, в его голосе, жестах. Скрытое раздражение Ферта росло час от часу: ему, похоже, стремительно начинал надоедать мещанский эдем старой подруги, впрочем, как и она сама. Мария ощущала это и по тому, как поспешно он целовал ее, и как много пил водки, и как не торопился лечь к ней в постель. «А его заверения, клятвы? – Она цинично усмехнулась в душе. – Ну так надо же что-то врать после долгой разлуки… Разве мы оба не мастера розыгрыша?» Однако она делала вид, что ровным счетом ничего не замечает. Мария не боялась потерять любовника и лишиться семейного уюта – с ней это уже случалось. Одного воздыхателя потеряет, другого найдет, подумаешь, какое событие! Но она не допускала и мысли, что инициатива будет принадлежать Ферту, что он выкинет ее на улицу, как выкидывал своих прежних любовниц. «Э-э, нет… – вновь усмехнулась она. – Если кто и бросит, так это я его… и не иначе. Ах, Сереженька, милый Сережа, леденчик мой. – Она томно прижала его голову к своей груди. – Ты хотел подшутить надо мною, гадкий шалун, но… клюнул сам на мою наживку. И знай, негодник, так будет всегда… Увы, дорогой, я не расположена, чтобы кто-то, пусть даже ты – любовь моя, – отыгрывался за мой счет».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































