Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
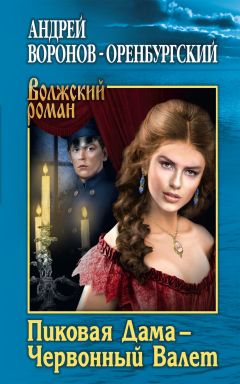
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
Опешившие Митины друзья так и застыли с кружками в руках. Зло хлопнула трактирная дверь, точно съела Алешку, а из-за плюшевой занавески все продолжал гикать и хрипеть, будто борова давили, ошалевший от водки голос; наперерез ему неслись высокие женские голоса, и кто-то из пожарных, в углу за соседним столом, с важными усами, громко заказывал:
– Гуся мне с кашей в полнейшем порядке, по-расплюевски, и водки графин – со льда, чтоб зубы ломило.
Глава 6
Облокотившись на перила, Алексей еще долго смотрел на загадочную игру зеленой воды, отдавая свою душу знакомой и тихой летучей грусти. Искренне сожалел о раздоре с братом: после этой ссоры до сего дня он так и не виделся с Митей. Увы, горечь обиды еще была велика… и сердце саднили брошенные ему в лицо слова. Вспомнил и о том, как, прибежав в училище, он изумил своим видом дежурного, без объяснений принял протянутый ключ и, закрывшись в своем дортуаре, бросился на кровать, уткнувшись красным лицом в подушку. Тогда передумалось многое, что объяснить ни себе, ни кому другому Алешка никогда не сумел бы. Ясное понимание краха своих надежд – с чем возможно было сравнить это чувство? Раз случившись, более этот момент в жизни не повторится, его не вернешь, не догонишь… «Конечно, жизнь долгая… Бог знает что еще будет? Быть может, даже очень похожее, – рассуждал он и тут же сам подводил черту, – но прошлого не вернуть». Память проявила перед мысленным взором «корнеевку»: алые хищные женские рты, жирно подведенные тушью глаза, бесстыжую наготу плоти… Нет… это была не любовь, это была ошибка, имя которой – обман.
Кречетов не помнил, какая тайная сила заставила его оторваться от своих дум и посмотреть в сторону, где галдели неуемные чайки, но то, что он увидел… заставило обомлеть.
Позже Алексей не раз вспоминал это мгновение, и оно проступало в его обостренной памяти с чеканной точностью, совсем как тогда: звонкие детские голоса, отрывистые выкрики команд речников, влажистый хлюп воды, ощущение ярких солнечных пятен в уголке глаз, нарастающее томление и одновременно отчаянье в груди, а затем она – его прелестная незнакомка. При виде ее для Алешки все внезапно, кроме нее самой, куда-то кануло, растворилось. Исчезли звуки, пристань окуталась тишиной, и все пространство, вся непомерная ширь разлившейся Волги, решительно все сузилось до места, которое занимала она. Он видел только ее – сияющую красоту, ее благородный профиль – простой и спокойный, как у всякой порядочной девушки.
Она стояла спиной к речным кассам у тех же перил и, откинув голову, кормила крикливых чаек. Верткие птицы ныряли в прозрачном воздухе, резали белыми крыльями яркую солнечную синь и ловко подхватывали летящие хлебные крошки. Локоны цвета белого золота вились на теплом ветерке, кутая ее профиль в светлую вуаль.
Полный недоумения и восторга, Алексей продолжал неотрывно смотреть. И чем пристрастнее он вглядывался, тем значительнее и важнее становился для него ее образ. И, как казалось влюбленному, образ этот был куда как нежней, а более несхож со всем тем, что его окружало.
Другие барышни-модницы нарочно гордились тем, как вычурно броско они одеты – точь-в-точь рождественские игрушки на сверкающей елке, а она напротив – сдержанна и скромна, точно сторонилась яркого назойливого света, хотя и была затянута в голубой атлас с лентами, но с тонким вкусом, без особенной пышной уродливости.
И право дело, над излишествами женских туалетов, скажем, дамских турнюров, которые провинциальными магазинами доводились до чудовищных размеров и видов, саратовец развертывался во всем блеске своего остроумия. Многие образцы этих туалетов действительно были некими архитектурными сооружениями, какими-то зыблющимися, живыми «монбланами»…
– Боже, какая же она… какая!.. – тихо самому себе сказал Алешка и ощутил облегчение. Сердце забилось спокойнее, мучительный раздрай души исчез, и ему даже показалось, что он почувствовал девичий запах, тот самый прохладный запах ванили, которым дышала оброненная муфточка.
Девушка неожиданно обернулась, слегка нахмурилась, точно уловила мужской пристальный взгляд, словно кто-то окликнул ее. Взглянула на Алексея чуть подведенными глазами и как-то особенно быстро мелькнула бледным, с матовым румянцем щек, лицом. Их взгляды встретились лишь на краткий миг. Но этого было довольно, чтобы он успел разглядеть красивые серо-голубые, со льдинкой, глаза, темно-русые с изломом, как крыло чайки, брови.
Барышня, похоже, не обратила на него внимания и вновь принялась кормить птиц. Он продолжал молчать, не смея шевельнутся, и все смотрел, как заколдованный, не в силах оторваться от совершенного профиля.
«Вот я и влюбился… Это она, Алексей, она – твоя судьба. Другой такой, знай, никогда не будет! Разве ее можно с кем-нибудь сравнить? Нет, нет и нет!»
И то правда: на бульварах и аллеях Саратова, на набережной нашлось бы немало милых барышень, славно одетых, совсем не хуже. Но эта особа ни в чем не была похожа на прочих. В ней жило что-то иное, чего лишены были другие прелестницы. На ее лице играли те же живые краски, так свойственные юности, но лежала на нем печать и иного чувства, которое вряд ли возможно передать словами, которое не определяется мыслью, а доступно для понимания, пожалуй, лишь такому же чувству.
Ей было шестнадцать, а может, как и ему, немногим более. Грациозная. Удивительно стройная, легкая… Кидая чайкам хлебные крошки, она временами едва заметно склоняла голову к плечу. Это бессознательное движение придавало ей отчасти утомленный вид, но было очень изящно и мило.
Время бежало неумолимо, и в какой-то момент Алешка интуитивно почувствовал, что теряет ее. Следовало немедленно действовать, ухватиться за любое удобное средство. Но лишь только он собрался сделать решительный шаг к знакомству, как из толпы отдыхающих к его возлюбленной направилась гувернантка – та самая строгая дама со светлым ореолом седеющих, высоко зачесанных волос. «Она как жаба, только уродливее, – выстрелило в голове Кречетова, – чтоб ей провалиться! Проходу не дает… старая ведьма!»
Гувернантка жестким шагом пересекла галерею, достав на ходу из узкого ридикюля носовой платок, закутала в него свой унылый нос, высморкалась и, как почудилось Алексею, поглядела в его сторону с таким выражением гадливости, будто он был по меньшей мере грязным помойным котом. Затем все так же молча, с высокомерно поджатыми губами, не удостаивая его взглядом, она что-то требовательно сказала своей подопечной и указала гипюровым зонтиком на лестницу, ведущую к выходу.
Юная воспитанница колебалась недолго, но прежде, чем последовать за своей бонной, быстро обернулась и посмотрела еще раз на Алексея. Это был краткий, но прямой оценивающий взгляд, без праздного кокетства и робости. Прелестная незнакомка глядела на него, будто пыталась запомнить его лицо, и прежде, чем он успел в ответ обходительно кивнуть головой, она поспешила уйти.
Алешка снова испытал чувство, что падает в пропасть, и, не желая больше испытывать судьбу, бросился им вослед. «Господи, что же это я?! Я – актер Императорского театра Кречетов Алексей… И не смею… боюсь… Вздор! Тысячу раз вздор!»
– Ради бога, прошу извинить меня, – забегая вперед, остановил дам Алексей. – Я понимаю… я хотел… – сбивчиво начал он, стараясь говорить как можно учтивее, но выходило еще более бестолково и путано.
Старая дева как будто и не слыхала, пытаясь обойти стороной неизвестно откуда объявившегося юнца, но Алексей не замедлил придержать ее за локоть.
– Да что вам, молодой человек? Отчего не даете нам пройти? – Она сердито вскинула выцветшие нитки бровей. – Не будьте назойливы. Это дурно и некрасиво. О, да вы, похоже, не знаете, где проживает вежливость?
– Еще раз простите… Я прошу вас выслушать меня…
Гувернантка мельком глянула на него с тем равнодушным презрением, с каким умеют смотреть на окружающий мир только получившие нежданное большое наследство мещане.
– Позвольте представиться, Кречетов Алексей, выпускник театрального училища.
Он с галантной предупредительностью склонил голову, глядя из-под бровей на нежное лицо. Девушка смотрела на него чуть изумленно, точно он показался ей знакомым, и сейчас силилась вспомнить, кто он такой. – Алексей теперь видел не только совершенство ее черт, но многое другое – ум в глазах, волю в складке губ и большие черно-лучистые ресницы с тонко изогнутыми концами, которые с близкого расстояния читались заметнее.
– Так вы удовлетворены, молодой человек? – резко заметила гувернантка.
– Но…
– Вы уж не маленький. Дайте пройти.
– Но позвольте! Смилуйтесь! Лишь две минуты…
Алексей попытался сделать шаг к барышне, но зонт уперся в его грудь, точно жандармский штык, а сама хозяйка сего «оружия» косо воззрилась на нарушителя спокойствия, как индюшка на горошину.
– Голубушка, милая дама… будьте добры, – отрывисто, без остановки, говорил он.
Но данный прием, имевший временами благотворное влияние на сердобольных торговок и лотошниц, нынче – убей – не срабатывал. Все увещевания, все вежливые обращения Алешки на старую деву ровным счетом не произвели впечатления.
– Да нельзя же! – возвысив голос, она угрожающе завертела жилистой шеей, словно искала урядника. – Прочь! Прочь! Немедленно отойди, мерзкий негодник!
И тут же, подхватив под руку воспитанницу, гувернантка застучала английскими каблуками по деревянному трапу. Кречетов был в полном отчаянье. Горло его снова перехватил щипцами горький комок. Отказываясь что-либо понимать, он медленно побрел за ними, бессмысленно глядя то на зло шелестевшее черное платье, то на перламутр голубого атласа. В эту драматичную минуту в его горячечно работающем мозгу вскипали картины справедливого мщения, одна ужаснее другой. «Раздавлю гадину!» – стучало загнанно в голове, когда… Нет, он опять не мог поверить своим глазам. К нему, оставив свою «замаринованную злюку» в гордом одиночестве, быстрыми шажками приближалась она. Ее бледное лицо заливал яркий румянец гнева, серо-голубые со льдинкой глаза потемнели, став темно-синими, и ничего хорошего не сулили.
– Может, вы поделитесь своей скромностью с другими? А то у вас ее слишком много!
Кречетов неопределенно пожал плечами, наблюдая за прихотливой игрой изящно изогнутой верхней губки, которая лишь в одном месте, у левого уголка рта, вдруг заламывалась и приподнималась, выказывая удивление или пренебрежение.
– Что ж, браво, Кречетов, как вас там?.. Ах да, Алексей… Браво! Чувствуете себя героем? Что вы смотрите на меня, как на белого медведя? Извольте объясниться!
– Я сказал… теперь вижу… признаюсь, все получилось неловко. Простите мне дурацкую выходку. – Алешка с неподдельным раскаяньем посмотрел ей прямо в глаза. – Но я, право, хотел как лучше, мадемуазель…
– Но не получилось. Я угадала? – Она насмешливо усмехнулась, блеснув ровными, белыми, как эмаль, зубами, и едко добавила: – Если хочешь показаться умным, подойди к спорящим и помолчи. Вам не известна эта древняя истина?
Кречетов нахмурил брови, но она спокойно встретила его взгляд, а затем вновь улыбнулась. Улыбка была чуть насмешливой, дразнящей, но не обидной, как прежде, словно незнакомка изменила свое настроение и решила отчасти ему помочь.
– Мне отчего-то кажется, что мы прежде встречались.
Она говорила по-русски правильно, но не безупречно, с едва заметным акцентом.
«Прав был Гусарь… По всему, полячка или хохлушка из западной Малороссии», – отметил он и, наливаясь уверенностью, ответил:
– Мне тоже так показалось.
– Выходит… и вы, и я ошиблись? – Она опустила длинные темные ресницы, прикрывая чуть приметную лукавую улыбку глаз. – Или напротив… не ошибались.
Алешка заметил, а скорее почувствовал, как при последних словах часто и упруго задышала грудь его незнакомки над низким мысом декольте, там, где покоилась нежная тень ложбинки.
Время, отпущенное судьбой, катастрофически кончалось. Кречетов кольнул взглядом стоявшую в удалении, рядом с фонарным столбом, поджарую тетку, потом снова посмотрел на девушку, опять улыбнулся ей, но тут же сломал улыбку, отчетливо понимая, что обязан немедленно что-то сказать, что-то сделать, иначе…
– Только не надо во всем обвинять госпожу Войцеховскую. Пани премного достойная дама. – В девичьих многоцветных зрачках вспыхнули и тут же погасли жаркие искры. – Долг для нее превыше всего. И она не виновата, сударь, что на ее плечи возложена обязанность – ревностно исполнять все пункты нашего устава.
И снова наступило молчание, которое, как ему показалось, длилось часы. Ему вдруг отчаянно, до комариного зуда, стало смешно. «Господи, это я – который легко всходит на театральную сцену! Я – о самообладании которого трещат мастаки и воркуют в кулисах поклонники. Я – который познал густой и влажный запах борделя, где пахнет отнюдь не только духами и мылом!.. Так где ж оно, это чертово самообладание? Где моя сила воли?! Опыт?! Нет, брат, ты не актер… Ты – тряпка!»
– Мы так и будем молчать? – Она разочарованно дрогнула губкой, но, встретив его доверчивые глаза и предупредительное: «Конечно нет!», серьезно и просто пояснила: – У меня осталась одна минута, господин Кречетов.
Алексей понимающе кивнул и спокойно сказал:
– Вы позволите узнать ваше имя?
– Барбара, – все так же просто ответила она, беспокойно бросила взгляд на пани Войцеховскую и уточнила: – Можете просто Бася, так меня зовут родные. А в гимназии – Варенька… это по-вашему, по-русски. Что? Вам не нравится мое польское имя? – схитрила она. – Только не смейте лгать. Это дурно, и я сего не потерплю.
– Напротив, даже очень мило… Ба-ся… – с почтением повторил Кречетов, слегка наклоняясь к ней.
Девушка напряженно рассмеялась и, дрогнув изогнутыми ресницами, посмотрела на острый носок своей маленькой белой туфельки, который был виден из-под подола платья.
– Мне надо идти, – тихо напомнила она.
– Да, да… – огорченно кивнул головой Алексей и торопливо, глотая окончания слов, сообщил: – Через неделю… нас распустят на каникулы… Мог ли бы я надеяться?.. Мне хотелось…
На миг его сознание замкнулось так, что он терялся отыскать хоть какое-то следующее слово. «Что, если она истолкует неверно мое желание?..» – Внезапный страх сковал грудь, пальцы сделались влажными.
– Вам «хотелось»? – насмешливо переспросила она, снова дрогнула верхней губкой, но тут же ее лицо прояснилось: – Думаю, вы можете надеяться… Итак, через неделю, здесь же, на галерее… Я буду к двум часам.
Алексей ничего не успел ответить, голубое платье, подобно воздушному облачку, уже летело к застывшей начеку фигуре пани Войцеховской.
Эти последние минуты разговора буквально ошеломили Кречетова. Щемящее чувство отчаянья исчезло, а его дух точно омылся родниковой водой, обретя удивительную ясность и чистоту. Фигуры женщин давно истаяли в сумеречных переходах речного вокзала; их силуэты заштриховали иные шляпки, картузы, сюртуки и жилеты, но он продолжал стоять все на том же месте, переживая в душе увиденное совершенство и красоту, столь же неоспоримую и властную, как всякое другое совершенство… «Радость моего сердца всегда была сцена, – услышал он внутренний голос. – Теперь еще и она».
– Однако какие варварские тучи грядут! Ой, ёченьки, Исусе Христе! Дети, дети, не разбегаться! Не мешкать! – раздался за спиной Кречетова беспокойный голос. Он обернулся. Хлопотливая нянька в белом чепце, словно наседка, собиравшая своих цыплят, грозила крючковатым пальцем расшалившимся детям и, тыкая сложенным зонтиком в небо, громко вещала: – Время домой! Пошли! Пошли! Надо поспеть до дождя.
Но дождь не спешил, и Алексей без приключений добрался до училища. Но если бы он даже промок до нитки, то вряд ли опечалился бы данной оказией, потому как не было в этот день на земле человека блаженнее и счастливее, чем он, потому что любовь, как кто-то сказал: «…самое утреннее из наших чувств. Любовь – это желание жить!»
Глава 7
Династия купцов Злакомановых была размашисто и шумно известна, почитай, по всей Волге. Свою родословную они начали еще с середины прошлого века: крепостной мужик, старообрядец Савка-кузнец, скопив работами денег, взял да и поднял собственную кузнечную мастерскую «на все руки» – тут ковали любые подковы, ограды, решетки, мастерили замысловатые балконы с растительным орнаментом, словом, все, что фантазия пожелает, были бы деньги… Работа шла ладно, заказов было невпроворот, грех бога гневить, и после ряда лет упорных трудов и кровавых мозолей кузнец смог наконец-то выкупить у несговорчивого барина себя и родных; перебрался в торговый Саратов – и в конце жизни завещал каждому из трех сынов по славной кузнечной мастерской в придачу с домами, экипажами и крепким начальным капиталом.
Позже старший брат Тимофей, ослепленный заезжей модисткой-француженкой, буквально потерял голову. Несмотря на все увещевания родных, на старообрядческие догматы и слезы старухи-матери, он спешно продал свою долю и укатил в Париж. В кровавой мясорубке наполеоновских войн, что через пять лет после его отъезда сотрясли Францию, а затем и весь мир, след непутевого, взбалмошного Тимофея навечно исчез.
Средний брат Филат, подававший на коммерческом поприще большие надежды, человек основательный, крепкий, без вредных привычек, нежданно захворал, простудившись зимой в обозе, возвращаясь с январских торгов из башкирских степей. Две недели кряду нещадно бились над ним лучшие врачи города; с Волжской стороны были тайком званы знахари-лекари – напрасный труд, чудодейственные травы, заговоренные грибки и вымоченные в бычачьей крови сушеные лягушачьи головы не действовали на больного. Безутешная мать за бешеные деньги выписала доктора аж из самой Москвы; с лучшей тройкой навстречу был послан расторопный приказчик Семен, но тщетно. Когда заскрипел снег под полозьями саней с московским эскулапом у ворот Злакомановых, Филат уже четвертые сутки метался в бреду, обложенный то колотым льдом, то горячей горчицей с солью, то уксусными компрессами.
Доктор, не снимая бобровой шубы, скрупулезно исследовал больного и, сняв пенсне, лишь мрачно покачал головой:
– Поздно, голубушка Матрена Владимировна. Весьма сочувствую вам, но-с… слишком поздно. Крупозное воспаление легких… Рад бы помочь. Ан бессилен. Что попусту врать? Не удивлюсь, если к утру богу душу отдаст. Впору за священником посылать, а мне дозвольте откланяться. Деньги извольте-с дать лишь на дорогу, работы моей здесь нет никакой. Вот такие дела невеселые…
Мать, как услышала приговор доктора – обезножела, рухнула на пол и заблажила взахлеб, с воем и причитаниями, как умеют только русские бабы. Благо вокруг тесным кольцом стояли свои домашние, служки, приживалки и близкие соседи. Василий, ее младший сын, подхватил мать на сильные руки и в хороводе бабок-богомолок отнес несчастную в спальню.
Филатушка помер за день до Святок, так и не приходя в сознание, под монотонную, как скрип колеса, молитву местного дьячка Серафима. Хоронили его солнечным погожим днем. Стоял морозец. Гривы у лошадей, которые тянули траурный катафалк, кудрявились инеем, легкий белый снежок порошил угрюмые лица родни. Василий, оставшийся главой дома, после смерти брата долго стоял с непокрытой головой возле украшенного позолоченной бронзой гроба, и по его широкому, еще безусому лицу текли горячие слезы. Громыхнула крышка гроба, и застучали молотки плотников, вгоняя в мореный дуб золоченые гвозди… Могильщикам были даны щедрые чаевые: в январе земля – камень, кайло сломаешь. Установили по такому случаю временный крест. Василий принародно пообещал по весне поставить мраморный, как у покойного тяти, могила которого была тут же, на выкупленной частной земле Злакомановых. Помянули покойного добрым словом, вопреки старообрядческим правилам выпили по стакану ледяной водки и закусили икрой, после чего траурный поезд потянулся в город, где высохшая и почерневшая от горя мать устраивала пышные поминки.
Василий ехал особняком, в шикарных хозяйских санях, укрытый теплым медвежьим пологом, и думал о скоротечности жизни, о матери, об ушедших из жизни отце и братьях. Думал и о том, как много ему надо успеть сделать, как еще большего стоит добиться. В тот далекий год он еще смутно понимал, в каком качестве возвращается в родные пенаты…. В тот год ему было лишь двадцать, а вокруг до горизонта тянулось, блистая серебряными искрами, широкое русское поле.
* * *
Теперь Василию Саввичу Злакоманову перевалило за пятьдесят, он был почетным гражданином города и кавалером ордена Святой Анны второй степени. За плечами стояли годы кипучей и деятельной жизни, которые не пропали даром – злакомановский род процветал, премного умножив свои прибыли. В Саратове им принадлежало многое: они содержали две школы, земскую больницу, две часовни и церковь, обширные кузнечно-прессовые мастерские, которые давно уже переросли в механический завод. На его литейном производстве изготавливалось множество чугунных изделий – лестниц, каминов, оград, балконов, колонн и навесов; и помимо этого, три лесозаготовки, пилорамы со своими смолокурнями, объединяющие десятки артелей, и многое другое, чем твердо правил Василий Саввич.
– Злакоманов! То настоящий купец! По природной жилушке… в батю своего покойного пошел, таких умов на Волге еще поискать! – с глухой почтительной завистью цокали в Саратове языки. А позавидовать и вправду было чему. Шутка ли? – миллионщик! «Такого, брат, конем не объедешь!» Уж больно широк был Злакоманов, однако из трезвого расчета не выходил, хотя и имел известную склонность к прожектерству. Но более в этой натуре было трудолюбия, крепкой деловой хватки, русской смекалки и редкого для купечества качества – великодушия. Будучи истым почитателем театра, он не любил пафосных аллегорий и не имел привычки кичиться своей благотворительностью, как иные… он просто давал деньги из своего кармана на русское искусство, во славу таланта, во славу своей фамилии.
Нынче Злакомановы жили на Московской. Одно время казалось, что эта главная улица города уступила свое первенствующее значение Немецкой, сравнительно молодой и более модной. Но Злакоманов не переживал – это только казалось. Правда, Немецкая улица была полнехонька магазинов и лавок, на ней помещались редакции обеих местных газет, она была нарядна и служила любимым местом для гуляний публики. «Во-первых, она не длиннее крысиного хвоста, раз-два – и прошел, – рассуждал сам с собой Василий Саввич, – а во-вторых, она гораздо беднее, да и по характеру легкомысленнее нашей Московской».
На последней, тянувшейся через всю толщу Саратова, от самой Волги были построены целые ряды монументальных зданий, из которых дом общества купцов и мещан с окружным судом и судебной палатой, пассаж Лаптева, да и собственно особняк Злакомановых могли бы украшать и столицу. Впрочем, и в Петербурге, и в Москве Злакомановы тоже имели каменные палаты, потому как у Василия Саввича, кроме паев родового предприятия, были еще и собственные коммерческие интересы в столицах.
В близких друзьях купца хаживал губернатор, чей дом тоже важно стоял на Московской по соседству с двумя церквями, обе из которых были подняты во имя архистратига Михаила. Более старый храм, который относился еще к началу закладки города, был отдан старообрядцам, которые примкнули к единоверию. В эту древнюю церковь исстари хаживало и семейство Злакомановых, убежденных, коренных старообрядцев.
На дворе стояли шестидесятые годы, а Василий Саввич с непробиваемым упрямством продолжал жить по старинке: добрая половина его двухэтажного дома, где прежде главенствовала покойница-мать, все так же была набита богомолками и приживалками, масляных ламп и кранов с горячей водой тут отродясь не было – их бы не потерпели. У почерневших от времени икон теплились лампадки, умывались, как встарь – французским одеколоном, и личную посуду в чужие руки не давали. Да и у самого хозяина важные бухгалтерские книги и справочники завсегда лежали рядом с молитвенником, написанным старообрядческим полууставом.
Все здесь подчеркнуто делалось и велось, как того неукоснительно требовала единоверческая церковь. Старообрядцы-единоверцы, хотя и находились в лоне православия, продолжали строго соблюдать все обрядовые особенности, которые некогда имели место в храмах седой и Древней Руси. Странное зрелище для стороннего глаза представляло собою богослужение этих людей: тут и двоение аллилуйи, и хождение «посолонь», и гундявое носовое пение по крюкам, ле́стовки и подушечки. Словом, при входе в этот храм, в этот осколок старины с низкими душными сводами, куда скупо, будто с оглядкой, проникал свет, на непосвященного человека веяло могильным духом. Живая противоположность этому был православный храм Михаила Архангела, стоявший неподалеку. Там была масса света и духовного веселья, исходящего как от самого здания прекрасной архитектуры, так и от обрядности православия…
Однако эти «фонари духовной жизни» мало занимали Василия Саввича. Хотя, конечно, в зипуне ниже колен, как его дед и тятя, он уже не ходил; хромовые сапоги с атласной иль шелковой косовороткой надевал лишь в церковь или на ярмарку, и то все больше для куража, по велению, так сказать, сердца купеческого. На деле реалии современной жизни вносили свои коррективы, меняя фасон и облик миллионщика. Строгий, без малейшего намека на щегольство, английский костюм, тщательный пробор и почтительное «с» через каждые два слова были его визитной карточкой в известнейших домах Саратова и Москвы. При этом он был лоялен к высшей власти и суров с местной, которая, по его разумению, за лишнюю тысячу целковых готова была черту душу продать.
Зато с простым людом, со своими артельщиками Злакоманов был добр. Быть может, потому, что сам был выходцем из простых и умел понимать сермяжную правду мужика. На мануфактурах и заводах других купцов о Саввиче ходили легенды: дескать, в его мастерских на четверть больше платят народишку, да и сами рабочие чуть ли не запросто подходят к хозяину: «Василий Саввич, дайте закурить». Где быль, а где небыль – пойди разберись, но то, что Злакоманов знал свое дело не понаслышке и часто бывал на предприятиях – то правда, как правда и то, что рабочие его с кваса на хлеб не перебивались и дома, хлебая мясные щи, на своего кормильца не жаловались. Правда, и спрос с артельщиков был велик. «У Злакоманова каждый час на рупь поставлен» – этот фамильный девиз Василием был усвоен с малолетства. Он хорошо держал в памяти то далекое время, когда после смерти тяти мать железной рукой правила семейным предприятием; людей своих Матрена Владимировна видела насквозь и знала, чего от них можно ждать. Это качество перенял у матушки и младший сын Васенька – ее главная надежда и гордость. Надежды матери оправдались: кипучая деятельность Василия Саввича не прерывалась и по сей день; на механическом заводе все время что-то меняли и перестраивали. Злакоманов ссудил крупную сумму денег на устройство телеграфа в городе и губернии, выписывал из Англии и Германии новые станки: нажитый капитал разлетался, но оборачивался новым богатством.
Вот и сейчас, вернувшись чуть ли не заполночь от своего должника и компаньона Барыкина, Василий Саввич, отпустив на покой челядь, перво-наперво занес в свою учетную книжицу нужные цифры. Заниматься сведением дебета с кредитом было делом нудным, но крайне необходимым и полезным. Григорий Иванович большей частью рассчитался со своим кредитором по векселям, но при том остался должным Злакоманову еще на треть. Этот щекотливый момент был малоприятен, однако не тяготил Василия: «Барыкин – мужик надежный, основательный, временем проверен… со схожей биографией в жизнь вышел. Слово свое купеческое не срамит, держит… Ну-с, а ежели что, управу найдем… так согну пополам, что дышать не моги! У него, слава богу, недвижимость имеется: те же бани, гостиница “Москва”, дом каменный со складами… эй, брось голову ломать, брат, найдем, чем взять».
Злакоманов шумно перевернулся на другой бок, потянулся всем своим тугим и дородным телом, так что жалобно зазвенели пружины обширной кровати. «Это только немец иль осторожный британец знает свой потолок в коммерции, а для русской души горизонтов нет!» Жгла его любопытнейшая задумка, которая сама собой родилась у него при разговоре с Барыкиным. «Да, славно и дальновидно устроена пассажирская пристань… однако для чьих паровых машин? Астраханских, царицынских, тверских иль самарских? Те, что у нас в Саратове есть, все старые… да и мало их – пальцев на руке хватит».
Злакоманов поделился этими соображениями с компаньоном и услышал в ответ живой отклик. Барыкин твердо обещал встречу с нужными людьми, которые могли помочь в устройстве закупки новых пассажирских судов.
«Дело, конечно, новое, рискованное… затрат великих потребует, – раскладывал в уме Василий Саввич, – однако, ежели-с выгорит, сулит огромные барыши и новые перспективы. Хотя ухо с Барыкиным держи востро – береженого бог бережет. Уж больно ловок. Ладныть, на сегодня будет ум маять, довольно. Наша порода слез не льет – не осталось. Да и не любим мы нюнь-распустёх. Покой себе дай. Угомонись».
Купец, раздув щеки, шумно выдохнул скопленный в легких воздух, ровно освободился от душевного груза, закинул тяжелые руки за голову и прислушался к ночи. Тихо… только на обширном крытом дворе, у ворот, нет-нет да и угрюмо звякал цепью сторожевой пес Медведь, прозванный так за свою свирепость и небывалую мощь.
Василий Саввич приоткрыл сомкнутые веки – не спится. Посмотрел в низкую арку окна, к стеклу которого жадно присосалась молчаливая тьма, и против воли поежился. Почудилось, будто оттуда с хищным спокойствием глядели на него чьи-то глаза, и не было в них ни Христа, ни молитвы. Злакоманов наложил на себя крест, отгоняя худые мысли. «Это все от усталости, мил человек, от суеты. Не бережешь себя… так и захворать впору», – резюмировал он, а краем глаза опять посмотрел на агатовый лик окна, не удержался. И на этот раз, как в дурном сне… больно, невыносимо больно кольнуло под сердцем… Что-то горячее медленно обволокло грудь, прошибло потом.
– Господи… – Василий Саввич, с молитвой на устах, сжимая в руке бронзовый подсвечник, подошел к окну. Видение пропало, а вместе с ним и страхи. «Матерь Божья, привидится же такое!» – Злакоманов растер широкую грудь, устроил подсвечник на стуле, возле кровати, лег на перину, облегченно вздохнул.
Мало-помалу беспокойство ушло, уступив место иным картинам. Василию Саввичу теперь увиделось далекое время, когда жив был еще тятя, а их семья обитала близ Тулупного переулка. Безмятежное было время, солнечное и яркое, как любое детство.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































