Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
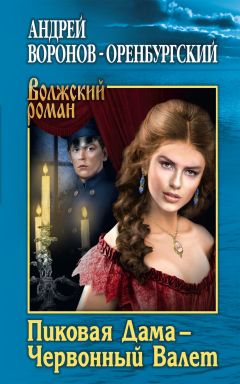
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 48 (всего у книги 48 страниц)
У Алексея от этих простых, но искренних слов подкатил к горлу полынный ком. На глаза навернулись слезы.
– А больше ты ничего не хочешь сказать мне?
– На сем мысль-зараза ушла в подполье, – размазывая по щекам слезы и кусая губы, пытался улыбнуться Сашка. – Ты сам знаешь, потерянная мысль кажется самой значимой.
– Ладно, бывай, брат… – Алешка скованно помахал рукой. – Ежели что, запомни меня веселым и счастливым.
День был на излете, сквозь свинцовую зелень дерев красным петухом пылало солнце, поджаривая воздух, превращая его в огненную золотистую пыль. Свет и тень обозначились ярче, преобразив улицу и притихшие ряды домов в театральные декорации.
Отчетливо зримая прежде фигура Алешки почти истаяла, растворилась в пламенных красках заката, а Сашка все продолжал стоять у ворот, провожая ее беспокойным взглядом; и чем дольше стоял он, тем горче ощущал в груди непонятную, странную боль, что точила его изнутри, наливала глухой тошнотой одиночества и словно давала понять: нет, не забыть, не залить эту утрату никаким зельем, никаким заговором.
* * *
«Вот никогда б не подумал – где имение, а где наводнение…» – Алексей, бледный как полотно, стоял у ворот отчего дома, не смея тронуться с места, как ребенок, которого напугал страшный сон.
– Молись! – обронил кто-то из соседей. – Таково решение твоего батюшки.
Он не ответил, облизал губы, продолжая стоять у распахнутых настежь ворот, словно нечто огромное, жуткое, как беспредельная пустота, надвигалось на него в глухом, молчаливом желании поглотить в свои бездны.
– Эй, что вы делаете? Куда? Куда? Так нельзя! – Крик его потонул в неряшливо-грубом гомоне слаженно работающих мужиков.
Вещи, которые любила его маменька, которые были близки его сердцу, теперь ходко стаскивались во двор, укладывались на подводы, убирались в узлы и переходили в чужие руки.
– Скотину вашу еще вчерась на рынок угнали продавать. Да ты больно-то не горюй, паря… Заваляща скотина-то ваша была, телка хломущая, одна тропа – на забой. Да и коровенка-пеструха много ли молочка давала? Нет, не кормилица она вам была. Вот разве бычок-трехлеток да птица… Мать-то твоя, покойница, чинных гусёв дёржала… Да без еённых рученек како хозяйство? Горе одно.
Алексей бросился в толчею: мебеля, сундуки, исшарканные временем ковры, фикусы в кадках и посуда – все выносилось из дома одно за другим. А вокруг пуржила метель голосов:
– Из Татищева, говорят, купец объявился, дом ваш облюбовал, вернее, место… Перестрой полный, пужал, будет ладить.
– Митрий давеча приезжал, старшой твой, как будто одобрил тятькино задумье…
– Да уж больно дешево дом спродали. Считай, даром. Какой-никакой, а о двух этажах… с мезонином.
– Сад жаль, дюже добрый, клети хоть куда, венцы-то, глянь, не гнилые…
– Так ведь удержу нетути у хозяина – одна блажь да бутылка на уме. Вот и подпоил его купец, а Платоныч наш по пьянке все тайны на ветер выболтат, на любой расклад согласится. Хто б ему глаза на правду разул, Исусе Христе!.. А у него на все однёшенько: «Огурец – овощ семейства закусочных. Певчему ставют голос, музыканту – руку, мастеру – стакан». А он-то у вас «мастер» еще тот… Шибко праздники любит Иван Платоныч.
Алексей насилу протиснулся к крыльцу и тут увидел сего «варяга». Сонно-надутый, в белом картузе с синим околышем, в парчовом жилете, при золотой цепурке и в хромовых сапогах, купец делово расхаживал по двору и перечислял изменения, которые внесет. «Плодовые деревья долой под корень, чтобы, значит, не загораживали беспричинно вид. Конюшню к дьяволу раскатать и по бревнышку перенести, баня тоже не радует глаз, и прочее, прочее, прочее…»
А рядом то на полусогнутых, то едва не на цыпочках скакал и прыгал ощипанным воробьем папенька, суетливо отворяя перед новым владельцем все двери, и угодливо журчал:
– Пожалуйте-с… извольте-с… Здесь ступенька-с… С премногим удовольствием-с, помилуй бог!
– Крыша-то не течет ли? – Малиновая рожа покупщика вспыхнула подозрением, рьяно наваксенный сапог тяжело опустился на ступень крыльца.
– Не понял-с. Извольте-с огласить еще раз? – Отец, вспорхнув наперед купца к дверям, подобострастно осклабился.
– Крыша, говорю, не дырява? А то, может, и она каши просит?
– Ни в коём обстоятельстве, помилуй бог! Все в лучшем виде-с, железом крашеным крыта – цитадель!
– Ну гляди, гляди, попрыгун, неровен час гнильем окажется. – Парчовый жилет с золотой цепуркой по-хозяйски перешагнул порог.
Алешка вздрогнул: этот чужой большой человек с крупными пальцами и такими же чертами лица заставил его почувствовать себя неугодным в своем собственном доме. Купец еще и глаз на него не вскинул, словом не обмолвился, но Алексей видел по всему: татищевский делец хочет, чтобы Кречетовы поскорее убрались отсюда. И у него самого, потерявшего последнюю твердь под ногами, вдруг не осталось иных желаний, как поскорее покончить со всем этим кошмаром и броситься хоть в омут вниз головой, хоть уехать, куда глаза глядят… Лишь бы не задерживаться здесь, лишь бы не быть свидетелем этого позорного торжища.
Папенька, вновь показавшийся на крыльце, точно забыл что, бегло окинул двор блестючим от водки взором и… споткнулся на сыне.
– Спесивый высоко мостится, да низко ложится! Что, нагулялся, колобихина ты корова? Вот-с, полюбуйся, помилуй бог, до чего дожил отец твой! Один как перст, без сыновьего плеча, делами ворочает! Да успокойся ты, акробат – глаза на мокром месте. Не ты первый, кто оплакивает родительский дом. Не будь дураком! Не такие палаты ждут нас. На Урале – толковый люд государю челобитные пишет: так, мол, и так, Ваше Величество, дозвольте крышу золотом крыть, деньжищи девать некуда! – а ты сопли тут на кулак мотаешь…
Алексей, стоявший внизу у крыльца, не мог разглядеть в сумеречье лица папаши, но слышал, как тот победно икнул.
– Пошто молчишь? Поди сюда, не мешай, ишь, народец мотыжится. Вот и получается: не много читай, да много разумей. Заторопка со спотычкой живет. Чаял ты, что тебе твои «жуфруины с гримом» помогут, ан накось, выкуси! Отвернулись они от тебя, по-моему вышло! У меня и бумага с печатью имеется за подписью твоего ненаглядного антрепренера. Так что живи с разумом, лекарей не надо, и слушай родителя, покуда хрящи не срослись.
Радующийся своей победе отец свесился с крыльца, и сын разглядел его лицо, напоминавшее расколотую пополам маску, которая изображала играющую на тонких красных губах бесовскую улыбку. Алексею стало не по себе, показалось, и не иначе, что он заглянул в замочную скважину и увидал то, чего видеть не полагалось.
– Ты что же, Алешенька, мил мальчик, вылупился на меня, аки новорожденный на попа? Али задумал что?.. Уж не убить ли, когда отец спать будет? Ладно, ладно, шучу. Ты ведь и сам небось рад в тайниках души, что так все случилось. Знаешь, куда везу тебя? Ха-ха! В Калифорнию!
Алексей смотрел потерянно в глаза отца, и ему нечего было сказать. Эта пауза была страшна и унизительна в своей беспомощности. То, что он проиграл в этом споре, было очевидно и в доказательствах не нуждалось. Собравшись с духом, он все же попытался урезонить отца, но ладонь того зажала ему рот.
– Да ты никак ерепениться вздумал? Гляди-ка, ерш из серебряной лужи. Тебе привиделось, что ты меня не боишься? Глаза твои смеются надо мной? Ах, простите, милостивый государь, ваш кучер пьян. Да, я пьян! – Отец крепко пошатнулся и лягнул зазевавшуюся под ногами кошку. – Пьян, как царь, язвить тебя в душу, мне-с один черт. Нынче мы еще повеселимся на славу: ты и я. А завтра, помилуй бог, в путь! А ну не галдите мне тут! – с петушиным вызовом крикнул он толкавшимся с мебелью мужикам. – И землю крепче трамбуйте, мать вашу, чтоб завтре выезжать мне сподручней было!
На прощание он что-то гаркнул совсем лихое своей мнимой свите и был таков. Ближняя к крыльцу молодая кобыла испуганно заржала. Сермяжное мужичье матюкнулось сквозь смех и принялось нагружать последнюю подводу.
Глава 6
Осмотревши на несколько рядов купленное хозяйство, уехал восвояси татищевский купец, пригрозив на прощанье, что завтра, после обеденной, приедут нанятые им работники, а следовательно, дом должен быть предоставлен в их полное удовольствие.
«Уговорясь на берегу – на реке не поворачивай». Алексей подавленно молчал, глядя, как развеселый отец упаковывал и укладывал в дорожные баулы и сундук их немногочисленные пожитки, и сердце юноши переполнялось немой болью. Впрочем, раздумывать было поздно. Все мосты были сожжены. Их дом продан, и места здесь для него не осталось. Как бы ни рушилась судьба, стоило продолжать жить, и только это, пожалуй, теперь имело значение. Старая жизнь, увы, оставалась позади – дорогой сердцу театр и просторные берега милой Волги. «Что делать? Горек будешь – расплюют, сладок станешь – расклюют». Впереди – его грядущая жизнь и, черт с ним, – демидовский Урал.
– Хватит буканиться, хватит кукситься, чай, не невеста перед венчанием. Небось не ожидал, что родитель твой столь быстро на одном кругу обернется, перевернет вверх дном рюмку и сделает шаг навстречу судьбе? Оно и понятно, мечтал, что я, как отпетый дурак, червяков в навозной куче копаю да удилишки готовлю к рыбной ловле? А ну давай, подмогни, не стой снопом. Раз уж пришел – добро пожаловать. – Папенька ухмыльнулся и потеребил сына за щеку, приглашая к покорности, словно говоря: «Трех врагов не держи себе, а с двумя – помирись».
– Позволь мне проститься с театром… – Голос Алексея был ровным, но твердым, темные круги пролегли под глазами.
Руки папаши перестали вязать узлы, конопляная бечевка выпала из пальцев, он пристально, с недоверием оглядел исподлобья сына. Какое-то время он молчал, ровно прислушивался к ударам своего сердца или неведомым голосам, затем мельком посмотрел сквозь щель в ставнях и сипло сказал:
– Так уж скоро ночь на дворе… Кто тебя пустит?
– Это мое дело.
– Да, да… твое. – Отец тяжело опустился на стул, положив на колени вытянутые венозные руки. С трудом втянул воздух, провел языком по запекшимся губам. И вдруг вспыхнул, что порох: он уже не говорил, а кричал от гнева, впадая в знакомую домашним истерику. Хмельное бешенство сковывало речь, путались мысли, но дышала огнем его неприкрытая ненависть:
– Ты властен, гаденыш, вообще не приходить! Думаешь, я с горя намылю веревку или встану перед тобою, сучонок, на колени? Сдохнешь, но не дождешься! Артист, твою мать…
Он вскочил на ноги, с грохотом опрокидывая сиротливо оставшийся колченогий стул, ухватил сына за подбородок, дернул к себе и заглянул в карие, как у покойной супружницы, очи:
– Полагаешь, я клюну на твой крючок и разрыдаюсь, помилуй бог? Держи карман шире… меня этими бабьими штучками не проймешь. Ты все равно будешь делать то, что я прикажу! И выжги подо лбом: можешь катиться куда хочешь, но ежели завтра тебя к полудню не будет… знай – ты мне не сын! Прокляну тебя, откажу в наследстве и подыхать буду, но родительское благословение черта с два дам! А теперь пошел прочь. И до завтра чтоб духу твоего тут не было и даже запаху!
* * *
Алое пожарище заката скрылось за горизонтом, длинные несуразные тени умерли, дорожная пыль саратовских улиц стала холодной и серой, как пепел, и все вокруг сделалось бледным, немым и безжизненным, когда Кречетов подошел к ступеням театра.
Многое передумалось за последний час, многое переосмыслилось. «Как я живу? Зачем? Для кого? Кто я такой и почему меня преследуют черные ветры?» – и еще тысячи «почему» и «зачем» опалили душу Алеши.
«Да, наверное, можно привыкнуть, смириться с самодурством отца, возможно, даже разделить его бредовые приступы золотой лихорадки; суметь по-христиански, без ропота переносить превратности судьбы и не думать о загубленных грезах… В конце концов, то, что для гусеницы смерть, для бабочки – жизнь. Кто знает, как судить бытие? На все воля Божья… Вот же гримаса кривых зеркал: за последние год-два я даже стал находить мрачное, скрывное удовольствие в нравственном поединке с родителем, в этой дурацкой психологической дуэли двух поколений, противоположных характеров и устремлений. Порою думается: я смогу переломить ход событий, что бы ни проповедовал он, как бы хлестко ни рубил сплеча. Ведь как говорят: “Исподволь и ольху согнешь, а вкруте да дурости и вяз переломишь”. Может быть, мне посчастливится через год-два вернуться в Саратов?.. Я буду тренировать свое тело и речь, чтобы быть всегда в форме, в готовности… Но пока… Господь не дает строить планы и думать о своей карьере. Обстоятельства затягивают меня в бучило[153]153
Болото, трясина.
[Закрыть] неволи, и все из-за человека, коего я презираю, но где-то и по-прежнему люблю, которого ненавижу и которого отчаянно жалею, которого отчасти понимаю, но сердцем принять не могу. Господи, как не хочу, как не желаю я постылой обывательской доли! Для меня это каторга – унижения и страдания, скука и серость длиною в жизнь. Нет, Господи, не о сем я молил и просил Тебя во снах и наяву. Не приму я такой постылой жизни, как не смогла ее принять моя бедная маменька. Это ее женское, материнское сердце ради мужа и ради нас, детей, не было способно ни к свободному порыву, ни к восстанию в настоящую жизнь… Держала ли она злобу на папеньку? И да и нет… Порой она ругала его в душе, но чаще говорила сама себе – бог с ним. Сердитый сам себе мстит. Тому тяжело, кто помнит зло. Можно ли обижаться на несчастного, больного человека? Всю жизнь он бился как рыба об лед в желании преуспеть, достичь неких высот в своей биографии, а “выпился только в пьяницы”. Ах, маменька… ах, папенька… Господи, душа-то ведь что-то тоже значит… Вон она осинкой на ветру… Жаль вас до слез, родные, исстрадались вы, истратились во лжи и обмане своих иллюзий, а жизнь прошла, облетела, как белый цвет… Ну а я-то сам?.. Господи, Ты знаешь все: не сломлюсь ли духом? Не ослепну ли душой, не омертвею слухом к волшебству звуков гармонии и красоты?»
Внезапный дождь косыми россыпями хлестнул по земле. Кряжистый гром ударил – кажется, прямо в темя. Влажный воздух стремительно набух запахом сырого дерева, сладкой черемухи и чем-то еще, таким знакомым с детства.
Алексей погремкал бронзовым кольцом. Двери отпер старый служитель театра дед Тимофей. Ореольно, благостно и светло блеснула в свете фонаря его голова.
– Никак Кречетов Алексей? – подивился, лохматя брови, служитель. – Эва, поспел из-за моря синицей! Пошто в ночь? Заходь, внучек, дожж не помилует.
– Спасибо, Тимофей Евграфович. – Он шмыгнул в темный от густых сумерек вестибюль, отряхнулся уткой, уважительно укрылся крестом, глядя на торжественные стены актерского храма.
– Вид у тебя хворобый, голубь… Случилось ли что, али так… по веленью души забрел?
– По-разному, дед Тимофей.
– Ой, ёченьки… Наслышан, наслышан… Вишь, всяко в жизни быват. – Старик опустил от лица желтый глаз фонаря, точно принакрыл шапкой-тенью свою лунную лысь. – Не горуй, братец, счастье с бессчастьем двор об двор живуть, на одних санях ездиють. Да и по совести, ты уж доверь моим летам: счастье-то в нас, милай, а не вокруг да около. Думе о нем не поддавайся – сгоришь. Чайку, может, с вареньем испьешь? Бабка моя Настасья шибко добро малинку обхаживат, сахеру, как цыган, не жалеет.
– Благодарю, уволь, Евграфыч… С театром проститься хочу.
Старик понятливо промолчал, лязгнул щеколдой и, сочувственно кивнув головой, зашаркал обрезью валенок в свою прокуренную дежурку.
* * *
Как ни настраивал себя Алексей, как ни пытался сгорстить волю в кулак, но чувства вырвались букетом, когда ноги его ступили на родную сцену. Глаза разъела соль слез, грудь сдавили объятья щемящей печали, будто и не на сцену поднялся он, а на эшафот; и все знакомые запахи красок и клея, силуэты кулис и громадье тяжелого нависа колосников, и угадывающиеся в смуглом сумеречье зрительские места, расположенные амфитеатром, и ярусы лож, и партер, и оркестровая яма, и расписанный маслом плафон – все это в последний раз.
У Алешки заходил под рубахой горячий воздух, когда он подошел к театральному занавесу, преклонил колено, приподнял тяжелый бархатный край и бережно трижды поцеловал его. Так солдаты целуют свое полковое знамя, так паломники склоняют колени у порога долгожданных святынь.
Да, здесь он прежде находил отдохновение для души, где за кулисами шумело их простое актерское братство, где после тяжелой работы на сцене они предавались скромному застолью, где верность и дружба были не в зазор и не в службу и где, выходя на сцену, каждый помнил: «Без публики нет артиста».
«С чем можно сравнить чувство, когда владеешь полным зрительным залом? – спрашивал он себя и отвечал словами маэстро: – Восторженные взоры и крики “брависсимо” – не самоцель. Актер должен выходить на сцену не для того, чтобы овладеть залом. Он должен желать одного: отдаться публике, раствориться в ней и не думать в этот момент о том, что надобно что-то оставить себе. Только тот может называться актером с большой буквы, кто готов жертвовать собой без остатка! Страшитесь, ежели вашу душу и творческий порыв никто не алчет принять в подарок, от сего может разорваться сердце. Это как если набрать в легкие побольше воздуха, а выдохнуть нельзя… Вы часто спрашиваете меня, волновался ли я перед выходом на сцену, когда всецело владел троном короля балета. Многие думают – нет… Но все решительно наоборот. С возрастом волнуешься более. В молодости все легче и проще – по неопытности: не ведаешь, какие срывы могут ожидать тебя, посему и нет разумного, должного страху. О, если бы кто-то знал, сколько потов сошло, прежде чем смог я чего-то добиться. Увы, кто-то мнит, что Фортуна сама вручила удачу мне в руки. Опять ошибка, для того чтобы удача начала к вам благоволить, необходимо невероятно много трудиться. И все равно обыватель будет считать: ты – везунчик! Видимо, так уж устроен человек».
Полноликая луна, похожая не то на двоюродную сестрицу китайского императора, не то на фарфоровое блюдо, заглядывала в окна спящего театра, освещая его коридоры и стены сказочным перламутром. Где-то еще громыхала медными раскатами полуночная гроза, вырывая из своей сумрачной плоти огненные языки молний, но это уже где-то за Волгой, как рокот далекой, призрачной канонады.
Глаза привыкли к черному серебру ночи, и Алексей без труда мог разглядеть центральные и боковые ложи, что соединялись двумя ярусами других лож, причудливый изгиб бронзовых шандалов на стенах, кресла и бортики барьеров, отделанных темно-вишневым бархатом. Все здесь для его души непостижимым образом соединялось воедино: торжественная красота и интимность.
Увы… все это он видел и осязал в последний раз. Со всем приходилось прощаться. К горлу вновь подступали слезы.
…Потерянный и одинокий, сотканный из узелков воспоминаний, он сиротливо бродил по верхним рекреационным коридорам театра, и в пустых анфиладах гулко и отчетливо раздавалась его скорбная ступь. Уж было много заполночь, но Кречетов, точно часовой былого, верно нес свою службу. Мглистая тревога не отпускала сердце. Временами, задерживая шаг у того или иного окна, он то бессознательно ерошил длинные пряди волос, то нервно пощипывал заметно пробивавшийся пушок на верхней губе.
Руки сами по себе скользили в карманы брюк, сюртука в поисках непонятно чего, но очень нужного, необходимого. «Что же это я, Пресвятая Богородица? Где моя крепь?.. Почему ничего не могу поделать с собой?» – терзался Алешка, но в груди была лишь карусель растрепанных чувств. Здесь, в храме Мельпомены, как в зеркале, отразились и все пять лет его учебы в «потешке». И новая, тихая волна сердечной грусти прошла по нему; колким ознобом стянула узкую полоску кожи между лопаток и остро заныла где-то в груди, словно старая рана. Кречетов облизал сухие губы; пестрота и яркость картин памяти обострялась.
Он до деталей вспомнил дорогу от дома к училищу, что круто сворачивала за чугунной оградой к парадному входу. Зимой на сем повороте всегда намерзала толстая, отполированная ногами корка зеленоватого льда, на котором он, как и прочие, неоднократно поскальзывался. Чуть дальше, все так же справа, три длинных лавки, пестрящих кличками прежних выпускников и нынешних «мучеников». Среди прочих видна и его – «Кречет», почерневшая от времени, вырезанная перочинным ножом, который некогда подарил ему Митя. Впереди палисадник, где вдоль «потешки» застенчиво стоят старые, добрые яблони-ранетки, которые они упрямо, несмотря на строжие окрики Чих-Пыха и мастаков, из года в год обивали палками, когда с первыми октябрьскими заморозками яблоки становились мятными и необыкновенно вкусными. А вот и большие, четырехстворчатые школьные двери.
…И вновь учащенно стучит сердце. И вновь какая-то непонятная сладко-горькая грусть заполняет собой самое Алексея.
Дорого, значимо нынче все: и пронзительный колоколец дежурного, и особый потешкинский запах, состоявший из мела и краски, кожаных ранцев и спертого воздуха танцевальных классов, подгорелой картошки из трапезной и переживших свой срок, откровенно протухших чернил. Дороги и высокие лепные потолки, и окна, с которых в канун Рождества весело смотрели праздничные украшения, а через запушенные инеем и покрытым алмазным лапником стекла проникали розовые и золотые лучи утреннего зимнего солнца, что наполняли холодным, но радостным светом дортуары воспитанников. Дороги и скрипучие деревянные полы, и классы, и фонтанчики с водой, из которых, набрав в рот воды, они опрыскивали друг друга. Детская шалость – сладкая, от языка до пяток, как леденец. Дорого все, куда ни падает мысленный взгляд.
Вот мимо «бытовки», громко топоча, пробегает первогодок – «щенок о пяти ногах», с большим классным журналом в руках. На мгновение он замер у двери, точно насторожившийся сурок, оправил задравшуюся куртку со следами мела. Дверь кабинета, как горошинку, проглотила его.
«Неужели все это прошло навсегда? Неужели я никогда, никогда уже не смогу вот так же, как этот малец, бойко пробежаться по коридору? Прокатиться на животе по широким перилам? Выйти на сцену? Неужели никогда?.. Господи, жизнь – ты несправедлива, ты жестока, ты колюча, как придорожный осот!» – задыхаясь от душевного протеста, шептали губы. Но когда крик издерганной несправедливостью души угас в угрюмой отчужденности ночи, он постепенно, смиряясь с велением судьбы, повторил слова вечной книги: «Не суди и не судим будешь…» Говорят же люди: «Кто малым доволен – тот Богом не забыт». Значит, так угодно Небу. Надуваться от собственной значимости любят лишь мыльные пузыри. «В конце концов, природа и Господь подарили мне талант, и я просто делился им с людьми. В том, как я играю, танцую на сцене, моей особой заслуги нет… Ежели не считать, что свое мастерство берегу и каждодневно тренирую. Я просто стараюсь не испортить замысел автора. А посему театр не умрет, если Кречетов Алексей перестанет вдруг выступать. И публика с ума не сойдет от горя, ежели я больше не выйду на сцену. Театр вечен, театр будет жить. Зато я никогда не смогу простить себе брошенную старость отца и никогда не смогу замолить сей грех перед Богом. А мастерство не коромысло, плеч не оттянет, из головы птицей не вылетит. Вот и все… вот и все…»
Светало, когда дед Тимофей, щуря со сна заспанные глаза, отворил двери Алешке:
– С богом, внучек. Говори по делу, живи по совести.
Узловатая, мозолистая рука потрепала на прощанье плечо юноши.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































