Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
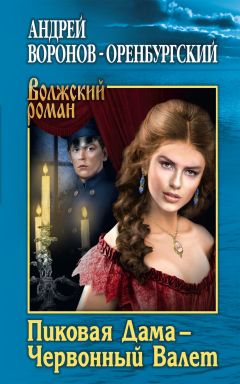
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 48 страниц)
Алексей хотел было обежать траурный ход, но голос папаши нагнал его и здесь:
– Ты что, сынок, стороной пройти хочешь? Никак в штаны нафурил?.. Ужли все артисты вот так? Ха-ха! А в гробу-то, чай, не чужой человек лежит. При жизни просто грезил тобою, боготворил. Ты уж соблаговоли! Будь любезен! Поднатужься, голубчик… Ты ж замахнулся в сей жизни на… ого-го-о! И не спорь: в закрытый рот муха не залетит.
Алешка на ватных ногах, супротив воли подходит ближе, ближе… «Нет! Нет!! За что, Господи! Мама! Мама! Маменька!» – бешеным криком рвется душа, взор стекленеет, дрожит слезами, придавая лицу ту страшную откровенность, какая свойственна людям, потерявшим рассудок. Из деревянного чрева гроба, убранного венками и черными лентами, смотрела на него мертвая маменька, такая же неподвижная и восковая, как бабушка; и вечную тайну бесстрастно хранили ее посиневшие сомкнутые уста.
Алексей закрыл глаза – ему больше не хотелось жить.
* * *
– Эй, эй, помилуй бог! Живой ли ты, Лешка?
Отец настойчиво тормошил сына за плечо, с трудом разумея его молчание.
– Ты брось эти шутки – пугать! Понял?
Тяжело дыша, Иван Платонович утер мятым платком красный, распаренный лоб, шею и снова подлил себе из полупустого графина. При этом он угрюмо зыркал по сторонам в поисках, к чему бы еще придраться. Неожиданно он ударил кулаком по столу, так что звякнуло столовое серебро и задребезжали тарелки.
– Да, сынок, живет во мне грех, но я тебе, как на духу… – щелкнув ногтем по рюмке, сказал он. – Водка-с… угу… Это мое проклятье, а может, и нет, шут знает. Но верно одно: когда-нибудь сия зараза доконает меня… Это как пить дать. Помилуй бог, порой я днями остановиться не могу-с, вот как нынче. Но ты ведь мне друг, не правда ли, любишь отца, а значит, прощаешь? Вот ведь как, – папенька лукаво ухмыльнулся и состроил рожу, – когда я под мухой, то чувствую себя человеком, под стать Ганнибалу или еще кому в этом роде. Мне в такой час впору дать корпусом командовать, да что там – армией! Было бы только доверие, уж я сумел бы поставить себя, занял наипервейшее положение. Думаешь, это с руки только купцам-миллионщикам, что ворочают сделками? Дудки! И я развлекался бы вечерами: наезжал в театр, делал подарки актрисам, устраивал ужины с шампанским и стерлядью… А то! Ко мне б прислушивались… Меня б трепетали… Что может быть краше, когда толпа всецело находится в твоей власти: смеется и замолкает, ликует по твоему повелению? Ты ведь у меня, голубь, имеешь облик поэтический, должен понять отца… Знаешь, поди, как может благодарно и истово, из самых глубин сердца, аплодировать публика? Ну-с, вот-с, а наша матушка-барыня Людмила Алексевна мне всякий божий день, как гусю, крылья подрезает, деньги от меня, паскуда, прячет под половик и алчет, змея подколодная, чтоб я перед нею во фрунт стоял. А то, что ейный законный супруг из последней мочи кожилится семейство наверх поднять, детев в люди вывести, так сказать, на это ей – фук, как до свечки… И вишь что подлая хочет, чтоб я себе язык отковал потоньше, манерам другим обучился, чтоб, значит, ей, титьке с лорнетом, перед соседями в конфуз не входить. Только и знает, что дергать бровями: «Ах, не говорите так… фи, от тебя, Иван, как от мужика, пахнет бочкой». А ты мне скажи, сын, чем от меня должно пахнуть?! Бабой, что ли, да душными их панталонами? Накось, выкуси! И так нынче домой хожу, как на Голгофу! Видеть ее не могу, стерву, вот-с потому и пью-с горькую… а ты, я вижу, думал, я тут мед лакаю. Шалишь, брат… – Отец, кое-как ворочая языком, опять обмочил губы рюмкой и, обнаружив, что графин пуст, с удовлетворением крякнул: – А ведь я ее таки приговорил, собаку кусучую. В этой самой водке, Алешка, запомни, сокрыты и ад и рай. Но ты, слышишь, не смей присесть на нее, гиблое дело. Вишь, как меня рассупонило-растащило? Э-эх, благодать, вроде как снова жизнь налажается. Но только: тсс-ссс!
Папаша навалился на стол грудью, едва не опрокинув синюю вазочку с марципаном, и возбужденно зашептал сыну в лицо:
– Да будь я неладен… В такие мгновения меня-с пучит на болтовню, ровно бес какой крутит… Вот меня и порывает, что греха таить: могу-с сболтнуть лишнего, открыть, так сказать, важный секрет. Мать-то твоя, богиня чертова, в такой раз запирает меня в комнате на ключ или в кладовке, там уж я и даю-с волю языку… То шкапу доложу всю обстановку, то сундуку, то комоду откроюсь, что, значит, наболело на душе. Позже, когда в башке у меня яснится, Людмила Лексевна, понятное дело, отпирает меня, рассолом отпаивает… Но о сем никто не ведает, кроме нас двоих, ну-с теперь и ты, значит… Эге… о чем бишь я…
– Муху сгони.
– Что-с? – Папаша насторожился, непонимающе глядя на сына.
– Муха у тебя на носу сидит, – устало уточнил Алексей.
– А-аа… У-ух, сука! Благодарю-с.
Иван Платонович прогнал крылатую настырницу и, еще ближе придвинувшись к собеседнику, сипло сказал:
– Так вот-с, предупреждаю, Алешка… Однажды, Бог свидетель, отец твой, – он с важностью выпятил грудь, – всех вас удивит. У меня-с есть чем, угу.
Он таинственно подмигнул сыну и торжественно замолчал.
– Это и есть ваш секрет, папенька? – недоумевая, пожал плечами Алексей.
– Именно-с!
Папаша вновь озабоченно заерзал на стуле в поисках спиртного и вдруг, как волшебник, извлек из внутреннего кармана своего сюртука мерзавчик, заткнутый черной пробкой.
– Что ж, за совет да любовь! Дай бог тебе, душа театральная, всякого успеху и побед с Мельпоменами. Уж за такую чеканку в нашем альянсе, я полагаю, нам самое времечко клюкнуть по махонькой. Оно-с ведь так, Алешка: хорошее дело не помеха в работе.
Иван Платонович ласково, как грудное дитя, поцеловал бутылку.
– Предлагаю по граммульке, так сказать, символически. За русские колокола – они нигде не звучат так искренне и чисто, как у нас в России. Ты что, неужто откажешься? Ах, да-а… Душа не берет, ну-с, голубь, примером будь сыт. Шуруй, швырчи свой глупый кофей.
– Вы бы хоть закусили, папенька. Дурно будет.
– Дурно-с? Кому, мне? Пустое. Закуски, как и ночи, чреваты сюрпризами. В одном разе случаются дети, в другом теряются градусы. А оне, родимые, так мурашами и бегают у меня под кожей, так и бегают. Как дед твой, покойничек Платон Артемьевич, Царство ему Небесное, любил шутить, усаживаясь за стол: «Ежели закуски пшик, значит, бум водкой мозги глушить!» Ха-ха!
– Так ведь есть! Стол ломится. Закусите, ей-богу.
– Ну-с, разве налимьей печенки с хреном подай.
И тут отец, испугав младшего, без лишних проволочек взял да и замужичил с горлышка «мальца». У Алексея заныло между зубов: это была та последняя, роковая ступень вразумительного состояния папеньки, после которой он напрочь терял человеческий облик.
Потемнев лицом, как спелый гранат, он малое время неподвижно сидел, хватая ртом воздух, а секундой позже, так и не притронувшись к закуске, рухнул трупом под стол.
Алешка бросился поднимать родителя, но тот, дико выпучив на него ничего не видящие глаза, заблажил на весь дом:
– Ты кто? Кто?! Руки крутить мне, зверь?! А-аа! А-аа! Убивают!!
На шум прибежала испуганная маменька. При виде ее отшибленная память отца на удивление сумела собраться в горсть. Но это обстоятельство на деле лишь подлило масла в огонь.
– Царевна! Картина моя! Люда, Людочка… Лексевна… Богиня, дай тебя расцелую, родная! Куда хошь, до любого горизонта на руках донесу! Али я для тебя недостаточно хорош? – слезливо было тронул лирическую струну своей души Иван Платонович, но вдруг завыл вурдалаком: – Ах ты, гадюка! Не сметь! Не сметь подходить ко мне! Расшибу! Я в доме хозяин, чтоб ты знала, тварь! Пикнешь… сапоги заставлю лизать. И ты с Митькой заруби на носу! Я! Я! В доме лев! Я царь зверей! Ишь, гордецы, поганцы херовы, водку – с родителем брезгуют пить. Так знайте: всю жизнь морковь сосать будете! В гробу я вас всех видал! В гробу-у! О-о… О-оо… Судьба-то какая паскудная… Плохо мне, плохо… О-о… О-о… Ненавижу жизнь эту проклятущую, ненавижу! Пропади все пропадом! Гори огнем! Сдохнуть мне не даете, сво-лочи!!
Остекленевшие от пьяных слез глаза папаши с минуту таращились на валявшийся рядом стоптанный штиблет. Потом левое веко его по-птичьи затянулось, лицо скомкалось, как лист бумаги, стало бесформенным и жалким. Дыхание сделалось резким и частым. Губы поджались валиком, образовав тонкую кривую щель, и она скорбной трещиной чернела на трясущемся мокром лице.
– Держи ему руки! – запричитала в отчаянье маменька.
Сама она упала супругу на ноги, крепко, насколько позволяли ее женские силы, обхватила их руками…
– Отпустите, сволыги! Отпустите! Больно! Ай, больно! Убью-уу! – напрягая багровую шею, дико орал Иван Платонович.
Казалось, им овладело безумие: он бился головой, пытался хватить сына зубами за руку. Его костлявые пальцы крючьями впились в рукав Алешкиной сорочки… Затрещали нитки. Жилистое тело корчилось, подпрыгивало, ревело:
– Аа! Аа-аа! Ироды, отпустите! Больно!!
Минуло еще минут пять-семь, прежде чем глава семейства, вконец обессиленный, обмяк. Он перестал сопротивляться, и плоть его теперь вздрагивала лишь от тихих всхлипываний.
– Ступай ко мне в спальню, Алеша, – тихо сказала мать. – Он сейчас уснет. Знаю его… Я закрою отца здесь на ключ. Ступай, моя радость, ступай.
Глава 9
Покинув гостиную, Алексей поднялся по деревянной лестнице на второй этаж, повернул ручку и вошел в спальню. В углу, против образа, мигала лампадка. Алеша перекрестился, огляделся. Сердце тронули бережно сохраненные маменькой оловянные солдатики – французские и русские, – которыми долгими зимними вечерами они любили играть с Митей, и теперь стоявшие двумя длинными шеренгами на подоконнике, рядом с цветочными горшками. Его губы тронула теплая улыбка: «Когда-то мы выстраивали их по противоположным концам нашей детской, а сами, лежа на животах, катали свинцовые картечины во вражеские полки и лихо истребляли их».
Но все эти сердечные, сокровенные воспоминания детства сейчас не могли переломить настроений Кречетова.
Нынче Алексея в родителе раздражало решительно все: и его одежда, которая выдавала скаредность, и дешевое важничанье, сквозь которое проглядывали длинные уши нищеты и трусоватости, и грубые неуместные шутки в адрес родных, и площадное хамство, и развязный смех. Бесила и глупая идея отца о благородном происхождении, с которой он носился как с писаной торбой, и дурацкое убеждение, что якобы толщина и дородность красят мужчину, придают ему солидности и весомости в обществе, а стало быть, и «ума».
– Нет, не так я видел встречу с родными, совсем не так…
Он выложил на стол свои забытые подарки – пуховый платок и цирюльную бритву: теперь они не радовали глаз. Все обесценилось, все перечеркнуло поведение Ивана Платоновича. «Почему у других отцы как отцы, а у меня?..»
Смеркалось. Алексей оживил подсвечник, подошел к окну. Погода испортилась, колючий моросящий дождь стекал слюдяными струйками по стеклу. Маменьки все не было, и он присел в кресло, подперев ладонью подбородок. Так он сидел четверть часа, не в силах успокоить нервы, охваченный отчаяньем, и спрашивал себя: «Может ли быть какой-нибудь выход из этого замкнутого круга? Хватит ли у меня сил преодолеть и пережить все эти мещанские катаклизмы папаши? А ведь впереди у меня – совершенно новая жизнь…»
Через три месяца его ждала профессиональная актерская труппа театра. «Единственная дама, мой юный друг, которую должным образом стоит уважать, – это ее величество сцена, – пришли на ум слова маэстро Дария. – Все остальное глупость и мираж… Занавес грез, более подходящий для романтических страданий наивной юности».
Алексей с последним доводом был не согласен, но в спор не лез. Воспитанник закрытого учебного заведения, Кречетов жизненного опыта имел самую толику. Жизнь «потешки» была отгорожена от внешнего мира и замкнута, по сути, в себе самой. Все ограничивалось училищным бытом, закулисными отношениями; сведения о том, что происходит вокруг, извлекались главным образом из пьес, что шли в императорских театрах. До ушей воспитанников лишь изредка доходили слухи, будоражившие Саратов или столицы. Но как бы там ни было, а жизнь «за стеной» наконец кончилась. Прощай, «потешка»!..
Сашка Гусарь, другие друзья и приятели не раз уверяли Кречетова, что ему-то, восходящей звезде, бояться грех. «Ты, Кречет, уже и так сыграл выше крыши ролей, тебя знает публика… На тебя идут!» Но он все равно волновался не меньше остальных. Кто поручится, как улыбнется Фортуна? Человек предполагает, Господь располагает…
Тем не менее, когда в конце апреля дирекция собрала выпускников в Белой зале вынести вердикт, Алексей все же верил в свою удачу. И не напрасно! Кречетов был назначен в драматическую труппу с жалованьем семьсот пятьдесят пять рублей в год, получал единовременно триста на экипировку и двести квартирных, или «постоялок», как говорили в потешке. Алешка боялся поверить своему счастью, но тут услыхал из уст директора Соколова то, о чем не смел и мечтать: его на целый предстоящий театральный год оставляли в училище пансионером! Это было огромной, если не сказать более – исключительной удачей, потому как в пансионеры определялись советом администрации лишь самые одаренные и талантливые воспитанники. И, право, весьма редко, когда из целого выпуска их оказывалось один-два. Ко всему прочему, положение пансионера давало вожжи известной свободы: не надо было посещать общих занятий и соблюдать жесткий распорядок, следовало лишь совершенствоваться в своем амплуа.
Для Алешки это значило следующее: работать он будет с лучшими мастерами, иметь стабильные карманные деньги, постель и стол, а главное, ходить не в казенной, а в собственной одежде и постепенно, от года к году, обзаводиться актерским гардеробом.
После этого торжественного события в жизни у него за спиной будто выросли крылья. Он порхал на седьмом небе, счастливая улыбка не сходила с лица. Алексей старался держать свои чувства в узде, но где там!.. Да и он ли один не мог надышаться случившимся? Все выпускники искренне радовались концу обучения, гудели, как пчелиный рой, и с нетерпением готовились к разъезду по домам.
Алешка не удержался и уже через неделю в кредит заказал себе чудную фрачную пару. Грубая казенная шерсть, в которую рядили воспитанников, за пять лет сидела в печенках. И вот сбылась заветная мечта! Прекрасный закройщик – еврей Соломон Зиновьевич Кац, в портняжной мастерской которого обшивался чуть ли не весь саратовский бомонд, – после долгих уговоров взялся за изрядную плату справить Кречетову концертное платье. «Ох, вашими бы мольбами дорогу в рай мостить, молодой человек, – по-стариковски скрипел Кац, снимая мерку с Алешки, и, стряхивая мел со своих ловких пальцев, в сотый раз повторял: – Только уж вы не обидьте старого Каца, молодой человек… Время, работа, это, знаете ли, не баран чихнул… У меня большая семья, и все, знаете ли, все больные, ай-ай!»
Но, как говорится, дело мастера боится. Через пять дней заказ был готов в лучшем виде. Облачившись во фрачную пару, Кречетов – весь волнение – вышел из душной примерочной. Это был первый в его жизни личный фрак!
– Ну что же вы, как «каменный гость»? Встали и не уходите… Сюда, сюда, смелее, молодой человек. Я вас уверяю, сидит прелестно, прелестно! Как будто вы в нем и родились… О, я вас умоляю, поверьте старому Кацу, я стряпал гардеробы для особ и повыше. И вот что я вам скажу, юноша, никто ни разу не жаловался на Каца. Прошу, пройдите сюда, к зеркалу. Алле!
В огромном амальгамовом зеркале резко и четко отразились оба: низкорослая, с раздутым шарообразным животом, фигура лысоватого Каца, на шее которого болталось сразу несколько сантиметровых лент, и Алешкина – высокая, стройная как тростник, вся в черном, с узким мысом белого жабо.
– Ну ка-ак, молодой человек? – заглядывая в глаза заказчику, хитро щурясь, поинтересовался портной.
Алексей молчал. На миг у него замерло сердце. Он был потрясен совершенством покроя и строгостью линий.
– Как будто не я… – уважительно слетело наконец с его губ.
– Вы, вы, молодой человек! Носите на здоровьице. Но вот что я вам скажу… Не обижайте старого Каца и его больную семью. У меня, знаете ли, молодой человек…
– Конечно, конечно, всенепременно-с, – поторопился заверить Алешка и, растроганный, обнял сетовавшего на жизнь старика.
И вот сегодня он хотел забрать фрак, который хранился в родительском доме. «Соберемся с Басей в театр, не премину надеть его, то-то будет фурор! Однако как долго нет маменьки. Не стряслось ли чего? Да нет, все тихо. Уж позвала бы».
Не желая больше попусту тратить время, он поднялся из кресла и пошел в бывшую детскую, чтобы уложить в саквояж фрак. Каково же было его состояние, когда вместо сшитой пары платья он обнаружил лишь сиротливо болтавшуюся на медном крючке оголенную вешалку.
Возмущение окольцевало обручем грудь Алексея. Он отказывался верить глазам. Сейчас он не мог и не хотел со скромным достоинством человека, научившегося мириться с ударами судьбы, спустить это на тормозах. И ради чего?! Ведь для того, чтобы справить концертное платье, он залез в долг, рассчитывая на деньги, которых еще не видел, а стало быть, впереди его ожидали заметные лишения. «Но кто посмел взять мой фрак?!» Он хотел было броситься к родителям и поделиться свалившимся на его голову горем, как внезапная мысль ослепила сознание: «Роскошный обед… Мятые купюры, что выпали из карманов отца при падении со стула… Водка… Беспокойный взгляд маменьки и глухое молчание на мой вопрос: “На какие деньги весь этот стол?” И многие другие мелочи…»
Он крепко шибанул дверцей шкафа и в расстроенных чувствах кинулся назад в спальню.
Людмила Алексеевна теперь была у себя. Она сидела на кровати и, бережно разложив на коленях платок, любовалась его ажурным рисунком.
– К чему такие траты, Алеша? Это мне? – не отрывая благодарных глаз от подарка, радостно спросила она.
– Вам, вам, мама! – срываясь на крик, бросил он и, путаясь в чувствах, с плеча рубанул: – Где мой фрак?!
На миг их взгляды встретились. Мать изменилась в лице, побледнела, глаза ее виновато забегали – она все время облизывала пересохшие губы.
– Что вы молчите, мама? Это не объяснение. Я спрашиваю: где мой фрак?
Из дрожащих рук Людмилы Алексеевны соскользнул на пол оренбургский платок. Маменька не находила, что ответить. Похоже, она исчерпала все свои силы и доводы с отцом и теперь сидела молча, упрямо глядя в одну точку.
– Но как же так?.. Как же так, мама? Вы все знали и молчали? – Тонкие ноздри Алексея трепетали.
– Боялась. – Мать опять нервно сжала руки, губы ее, давно не знавшие помады, снова стали подергиваться, а рука, из которой выпал подарок сына, судорожно искала опоры. – Боялась, – беззвучно повторила она. Дальше Людмила Алексеевна говорить не могла, закрыла лицо руками, плечи ее сотрясали чуть слышные рыдания.
Алексей опустил глаза – мать выглядела загнанной в угол. Он быстро подошел к ней и бросился на колени, поднял платок и стал целовать ее руки. Все было ясно без слов. Отец, сгораемый вечной жаждой залить за воротник, снес и заложил платье в ломбард. Часть денег он, по всему, пропил в трактирах и рюмочных, другую отдал жене, легко наврав, что сумел получить их за услугу в канцелярских делах, в которых он, по его же клятвам, был дока.
– Господи, маменька, умоляю… Ну-ну, не плачьте. Я грубый, бестактный хам! Конечно, я не имею права задавать вам такие вопросы. Мне, ей-богу, совестно перед вами, мама… Простите и забудьте… Это я виноват…
– Нет, нет, мой мальчик, не казнись. Во всем виновата моя нерадивость… Недосмотрела, прости меня, Господи, Алешенька, радость моя. Старая стала, скорее бы умереть… Это невыносимо… Он просто вконец потерял голову. Хоть бы Господь его прибрал… прости меня, грешницу, что говорю?.. Но ведь не пасынок ты ему, а родная кровиночка! Ой, какие тут высокие отношения, милый Алешенька? Одно наказание. У него на все: «Я лучший! Незаменимый!» А по мне, если б такой, как наш отец, и вправду был лучшим, то колесо бы не изобрели, вот крест.
– Но надо что-то делать, мама? Так дальше нельзя! Как можно терпеть столь дикое обращение? Пьяный он зверь…
– Хуже, – горько кивнула мать.
– Вот именно. Убить может, тьфу-тьфу…
– Да уж скорей бы… Устала я жить с ним, сил нет… Так не возьмешь же грех на душу? Опять жена я ему, в церкви венчаны. Значит, Богу угодно такое мне наказанье… А успокоить твоего батюшку во хмелю – деликатное дело, мое сердечушко. Тут не знаешь порой, на какую стену кидаться… Но, видно, долюшка наша такая женская.
Маменька вновь закрыла лицо ладонями. Она сидела неподвижно, глубоко уйдя в себя, будто окаменела, и Алеше казалось, что мать не замечает его присутствия. Так они снова долго сидели, как прежде в гостиной на диване, и Алексей все гладил и целовал ее руки. Снизу, через пол, слышалось жалкое мычанье, то невнятная брань отца, то натуженные обрывки песни:
…До поры, до время
Всем я весь изжился.
И кафтан мой синий
С плеч долой свалился…
Когда стоны на время смолкли, Людмила Алексеевна склонила голову к сыну, все еще сидевшему на полу у ее ног. Напряжение исчезло с родного лица, осталась тихая печаль. Она ласково посмотрела ему в глаза и, положив руку в свою, спокойно сказала:
– Видишь ли, я затрудняюсь ответить на твои вопросы, впрочем, как и на многие другие… За последние годы, пока ты учился у господина Соколова, много утекло воды, Алешенька… увы, многое изменилось. Нынче в доме происходит такое, чего я и сама не понимаю. Ну, да бог с ним… ушедшего не воротишь. Теперь ты знаешь, что главное для меня… – маменька с надеждой посмотрела на сына, – прости, повторюсь: ты обязательно должен уехать в Петербург. Хорошего от Ивана Платоновича ждать не приходится.
Она нервно обернулась на дверь, словно опасаясь, что пьяный супруг может ее услышать.
– Перестаньте пугать, мама…
– Что делать? Такая судьба. Ты мне, как и Митенька, родной человек, плоть от плоти… мой младшенький… и я считаю своим материнским долгом предостеречь тебя: останешься здесь – добром это не кончится.
– Но помилуйте, маменька. – Он развел руками. – Почем вы знаете?
– Господи, Алеша, хоть ты не выводи меня… Пожалей мать. Вы, актеры, все такие упрямые?..
– Почти. – Он примирительно улыбнулся и добавил: – Ладно, будет вам, мама… Я же пообещал…
Людмила Алексеевна удовлетворенно вздохнула и поманила пальцем сына. Когда они подошли к комоду, она достала из антикварной шкатулки маленький ключик и отворила им верхний ящик. Затем сунула в него руку и достала небольшой сверток. Глазам Алексея предстали старые, пожелтевшие письма, аккуратно стянутые атласной голубой ленточкой, и разная другая трогательная мелочь, которую бережно хранила мать.
– Вот, не откажи, прими мой подарок… – Людмила Алексеевна протянула крохотный, величиной с наперсток, бархатный футляр.
– Что это?
– А ты полюбопытствуй, открой.
Алешка повиновался. На тончайшей коже, которой было затянуто дно и которая от времени стала мшисто-зеленой, одиноко, но гордо лежал розовый бриллиант, ограненный удлиненными конусами. От этого драгоценного камня пахнуло прежними эпохами: напудренными париками с буклями, звонкими шпагами, галантными поклонами кавалеров и дам и чем-то еще сказочным, что безвозвратно утратил век девятнадцатый. Алексея до глубины души тронуло, что маменька жертвует, возможно, последним и самым дорогим ради его благополучия, ради того, чтобы загладить вину отца.
– Нравится? Правда, он превосходен? Жаль, раньше их было пять у твоей бабушки Аси, но после ее кончины три наиболее крупных камня были проданы… А два последних отданы нам с сестрой. Не знаю, жив ли у Катеньки бриллиант, жизнь – ведь она полосатая…
– Господи, мама, какой подарок! – Он с благодарностью обнял ее и поцеловал в щеку. – Но я… я не могу принять его от вас.
– Это еще почему? – возмутилась она.
– Но… потому что это очень дорого… Ваша реликвия, память… А Дмитрий? Что я ему скажу? Нет, нет, нехорошо так…
– Все хорошо. Мне лучше знать. Митенька обижен не будет. Его доля ждет своего часа. Завещание составлено. На смерть у нас отложено. Бери, или обидишь до гробовой доски. Это мелко, Алеша, отказывать материнскому сердцу.
У Алексея на глазах заблестели слезы. Он еще раз приник к прохладной руке маменьки, бережно уложил подарок во внутренний карман сюртука.
В спальне наступила тишина, за окнами угасал день: густой, золотисто-медовый предвечерний свет сменялся лиловыми сумерками; двор пересекали длинные тени, где-то за воротами уныло грёмкала боталом заблудившаяся корова.
– Так ты не останешься ночевать? – Людмила Алексеевна задержалась у столика, на котором в подсвечнике таяли свечи.
– Нет, побегу. Гусарь меня заждался… Я обещал непременно быть… Да и вам, мама, так, думаю, будет проще. За все низкий поклон.
Мать перекрестила на дорогу сына, признательно кивнула головой и, провожая, уже у самых дверей сказала:
– Благодарю, Алеша, ты был сегодня на высоте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































