Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
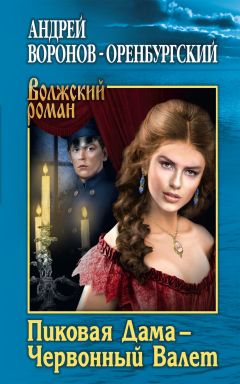
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 48 страниц)
Глава 4
Неделя была на ущербе, но Гусарем по-прежнему и не пахло. Кречетов не на шутку извелся, ломал голову: «Уж не случилось ли что?», а потом перчено выдал в адрес бесчувственного хохла:
– Лучшее средство от седины – гильотина. А для тебя, Тарас Бульба, – ошейник с намордником. Нахватал ты в потешке тьму знаний, а до света так и не дошел. Ужли не понимаешь: я волнуюсь за тебя, гад? Может, башку твою дикую уже завернули… Знаешь ведь, как случается. Ах, сучонок, объявишься… будет тэбэ на орехи и на шмат сала!
Весь день Алексей посвятил уборке дортуара: подметал, выносил скопившийся мусор, натирал мастикой паркет, стирал пыль, менял постельное белье; распахнув рамы, проветривал прокуренную комнату, но когда часы в рекреационном коридоре пробили шесть, Кречетов все бросил и начал зашнуровывать свои прюнелевые ботинки.
«Ну, сволочь, погоди!» – Алешка, заторцевав подальше свои обиды, решил бежать на бурлацкий стан и выручать товарища. Он готов был уже взяться за ручку двери, когда она, как в сказке, сама распахнулась, и перед ним предстал Сашка. Загорелый, чумазый, что чугунок, прокопченный дымом и солнцем, он довольно улыбался, подлец, беззаботно скаля белые зубы. От него пахло Волгой, костром и волей.
– Ба-а! Явление Христа народу! Ну, нашлюхался, скотина? – Алексея трясло от бешенства.
– Тсс! Це ошибочка, брат! Перед тобой возвращение блудного сына! Брось, не бурли… С кем не бывает… Поэт пёхал в гору, но гора сия… не была Парнасом. Кречет, милый, будь ласкав, ну що це таке? Я вновь слухаю «окололитературное» сопрано незаслуженной критики! Согласен, виноват, пидвив. От тупой самобрейки всегда так – ни на волос пользы… Но тильки не от Гусаря из Полтавы. Ты ж знаешь, когда хохол родывси, жид заплакал…
– Да пошел ты… – Кречетов плюнул в сердцах, сел на стул и принялся хмуро стягивать башмаки. – Что лыбишься, придурок? С тебя все как с гуся вода. Что ты мне нервы треплешь, как лен? Они у меня не железные! Вон, – Алексей бухнул себя кулаком в грудь, – все истрепал…
– Ой ли? – как ни в чем не бывало подмигнул Сашка. – А я, дурный, думал, що панночка тоби сего приданого не оставила…
– Слушай, ты!
– По́няв, по́няв – замок на морде. Тильки и ты не шипи на менэ, як забродивший квас. Ой, а чистота-то у нас какая в хате! – хлопнул в ладоши Гусарь, – в аккурат для яств и заедок. А ну, варгань все на стол и дывысь!
С этими словами Сашка артистично переломился в поясе и подхватил спрятанный за дверью от глаз дюжий куль, из которого торчал хвост копченой рыбины.
– А это откуда? – Кречетов округлил глаза.
– Оттуда, Лёсик, оттуда… Прикинь, через весь город пер.
– Артельщики угостили?
– Они, дядьки – щедрые души! Велели привет тоби снести и в гости зазывали. Ватага Васьки Филина еще неделю на перемене вялиться будет – купца ждут… Может, нагрянем?
– Поглядим.
Алексей помог перенести тяжелую ношу на стол и озадаченно посмотрел на друга, когда тот, помимо копченого стерляжьего балыка и хлеба, выудил из сумы еще и большущую четверть вина.
– А это… тоже бурлаки сподобили? – Кречетов подозрительно заглянул в голубые кошачьи глаза Гусаря.
– Да що ты ко мне, як репей, прицепився? Я ж спивал тоби: когда хохол родывси…
– Эт точно. – Алексей восхищенно покачал головой. – От тебя и кобыла монгола заплачет. Так ты расскажешь?
– Тильки давай бацнем по махонькой? – Сашка без лишних обхождений звякнул рюмками. – Верь мне, Лёсик, легче гутарить будет.
– А без этого никак? – Кречетов кивнул на бутыль.
– Было бы можно – не предлагал, – с серьезной миной ответил Гусарь. – Не судьба, брат… А ты как будто не рад?
– Ладно тебе… наливай.
– За дружбу навеки, Кречет! Будем як солнце! Оно светит и глупым.
– Вечно ты сморозишь какую-нибудь ерунду.
– Пей, пей, не поперхнись. Задарма и уксус сладкий.
Они опрокинули рюмки. У Алексея захватило дыхание и обожгло горло.
– Фу-у, крепкая штука… Это что за спотыкач такой неведомый?
– «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» – весело хохотнул Гусарь и хлопнул в ладоши. – Правда, гарна? Хотя, конечно, и не наша горилка. Эх, пенилось пиво, как море, и пьющих даже покачивало…
– Будет тебе соловьем заливаться! Расскажешь наконец, где взял?
Гусарь налил еще в рюмки, надломил буханку и поведал, как один добрый путник – не то писатель, не то художник, ехавший в коляске, вместе со своим кучером заночевал у бурлаков. Опечаленный их положением, он кликнул своего Федота. Кучер, в прошлом солдат, был человеком предусмотрительным и запасливым: всегда возил для своего хозяина бочонок с вином больше ведра. Это у Федота были так называемые «сливки». Барин меж тем простого мужицкого вина не пил; кто же из крестьян или приказных при встрече подносил ему вина в селах, будь то полуштоф или меньше, то кучер немного выпивал заместо своего господина, а остальное рачительно выливал в бочонок – не пропадать же добру! Так от села к селу емкость всякий раз пополнялась и была полнехонька. Федота, вестимо, покоробило, что он лишился своего добра, но барин уверил денщика, что купит ему вместо распитого.
– Большую часть за ночь приговорили бурлаки и караульные… ну-с, а остатки я, понятно, слил нам… – хитро усмехнулся Гусарь. – Що ж я… хуже Федота? Ему в геометрии сам бог велел быть тупым углом, хоть и георгиевский кавалер, а я чай хохол, ежели день не нае…, то помру, Лексий.
Друзья рассмеялись. Выпили еще и начали жечь табак у открытого окна.
– Ну Шурка, ну балагур! Ты, брат, со всех языков горазд переводить, но только на один – на суконный. Весело времечко, как я погляжу, проводил. Где уж тебе было о друге вспомнить…
– Вспомнил же… – с виноватым лукавством хмыкнул тот.
– Что еще скажешь? – Алексей сунул в рот кусок стерляди, пахнущий дымком, и придвинулся ближе.
– Щас, погоди, не погоняй так быстро. – Гусарь прожевал хлеб, оттопыривавший его щеку, и поднял для внимания указательный палец. – Еще слыхал я такую байку… Тоже, кстати, от того заезжего пана. Сказывал: дескать, на первый день Рождества пришел к нему поп с причтом, с крестом и святой водой. Барин оставил их у себя закусить. Священник тот был почтенный старик… Стал он извиняться перед хозяином за то, что когда тот приглашал его с метриками, его самого не было в доме… Но это как бы неважно, а теперь лови главное. Поп тот уезжал с требами в другую деревню своего прихода, за Волгой, и притом рассказывал с ужасом, что-де в том хуторе по ночам бродит не то оборотень, не то вурдалак, и так запужал народ, что те боятся ночью и нос показать за дверь: даже очередные караульщики не идут в караул. «Оборотень ходит якобы в белом саване, наравне с крышами: то хрюкает по-свинячьи, то коровой ревет, то жабой болотной квакает. А за ним собаки по селу жалобно воют…»[117]117
Попов К. Записки о Саратове. 1994.
[Закрыть]. И с таким страхом и ужасом рассказывал это поп, что всякого простолюдина озноб продирал по коже.
Однако барин, чье вино мы сейчас дуем, вскорости сметил: брехня это все насчет оборотня. В то время в Царицынском Заволжье была партия московских студентов – землемеров межевой канцелярии, кои приводили в известность земли. Позже он с ними при разъездах своих по селам зазнакомился. Студенты и рассказали ему о суеверной простоте крестьян, которым под вечер шепни, что завтра солнце не встанет, – те дурандасы тут же на двор побегут лучину щепить.
– Ну, ты-то у нас Руссо, ни в чох, ни в сон не веришь. Только в борщ и сало, так ведь? Одни утверждения. Гусь, кстати, тоже утверждал, что пером его деда писал Пушкин.
– Ну чего ты? Не буду рассказывать.
– Полно, Сашка, губы на локоть дуть. Сам же просвещал намедни, что дружба – это мирное сосуществование двух нервных систем.
– Так то «мирное»…
– Так то «сосуществование», – возразил Алексей и примирительно поднял рюмку: – За тебя, Сашка!
– Нет, за тебя! – Гусарь посоловевшими глазами тепло улыбнулся товарищу.
– Почему же?
– Ну… это ведь у тебя вечно проблемы… Как там, кстати, на твоем «Марсовом поле» – без перемен?
– Без перемен… – Кречетов опустил глаза.
Они выпили и опять задымили, глядя в прозрачные сумерки вечера. Солнце скрылось за черными крышами домов, и небо побагровело.
– Ты, Лексий, не молчи, – первым не выдержал паузы Сашка. – А то у нас тут такая могильная тишь, що прямо слышно, как уходит жизнь. Скушно живем, брат.
– Это ты к чему? Так, языком почесать?
– Ну отчего? Может, закатимся куда? С богемой нашей погутарим, а хочешь, с балеринками оттопыримся? Не хошь? Изволь, давай вернемся на бренную землю. А если честно, – Гусарь мрачно усмехнулся искривленными губами, – эта паненка не стоит тебя. Не подходишь ты ей, хоть тресни.
– Я что, костюм или зонт, чтоб подходить?
– Що ты, як упрямо тэля? Я не о том кажу… Ты ж у нас восходящая звезда. Путный хлопец! Плюнь и забудь, найдешь другую.
– Почему я… Тьфу, черт… язык заплетается. Так почему она должна что-то искать, коль, по твоим словам, я путевый хлопец и немеркнущая звезда?
– Восходящая, – аккуратно поправил Гусарь. – Ты знай греби, да не загребай! Тоби еще ого-го пахать до немеркнущей.
Сашка хлопнул недопитую рюмку и, как голоднючий кот, вцепился зубами в рыбу.
– Я говорил: эта панночка тоби не по зубам? Так и выходит. Жаловался гребень, что на этих волосах зубы съел… Но ты дерзай… авось сподобишься к пенсии, и твоя поэтическая дама в мемуаровом платье упадет тоби в руки, як сухофрукт. Она же горючими слезьми умывается, света белого не видит, все по тоби, прынцу, с ума сходит… Що тут скажешь? Не только наши балерины нуждаются в поддержке.
– Сашка! – Кречетов в ярости саданул кулаком по столу, так что тарелки и рюмки испуганно подскочили.
– Що «Сашка»? – хмельно огрызнулся Гусарь, и рюмки с тарелками вновь, как живые, подпрыгнули на столе.
– А то… будь осторожен на поворотах. Мне вот где твои малосольные остроты!
– А мне твоя полька-бабочка! Знаю я этих пташек с голубыми кровями… Чирикают про закаты, рябину, туманы… А сквозь трели видно: зараза и стерва! Дурень ты, Кречет, думаешь, нужен ей?
– Заткнись! Забирай свою рыбу и мотай отсюда!
Оба впились друг в друга налитыми взглядами, сцепив кулаки, но в это время раздался требовательный предупредительный стук, и в дортуар вошел господин Гвоздев.
– Что за шум, а драки нет? – Дежурный наставник живо огляделся и обалдел от невиданной наглости. – Та-а-ак! Та-ак! Курим, пьем в святых стенах училища. Да-а… Да-а… Прелестно, прелестно! Полный букет, так сказать. Вот только девок я что-то не вижу? – Вспыхнувшая от возмущения лысина Петра Александровича как бы ненароком заглянула под кровати и в шкап. – И оба пьяны… Мда-а… молодцы-голубцы. И это наша гордость, наши выпускнички! Какой пример молодым подаете? Что ж, завтра вам будет стыдно, голуби, а сегодня училищу стыдно за вас! Не ожидал от вас, Кречетов… Не ожидал и от вас, Гусарь… Как говорится: «В лесу тихо, потому что звери ходят без башмаков… а в тихом омуте черти водятся». Тэк-с, а это что у вас? Херес? Мадера?
Гвоздь нетерпеливо плеснул себе в рюмку, поднес ее к угреватому длинному носу, озабоченно внюхался, как легавая в след, и в один прием проглотил содержимое.
– Редкостная бурда и бочкой отдает… – Дежурный утер платком губы и, с уважением глядя на начатую четверть, выдохнул: – Так, голубчики, этот трофей, эту, с позволения сказать, отраву… я конфискую. Что вы на меня, Гусарь, смотрите, как х… на бритву? Может, вы прикажете мне извиниться за вторжение и удалиться прочь?
Сашка благоразумно промолчал, через силу сглотнув рвущиеся на волю «целковики».
Между тем Петр Александрович победно прижал к своей груди четверть с вином и, задержавшись у порога, наставительно молвил:
– Разумно… обид никаких? Благодарите случай, красавцы, что я вовремя подошел. Через рюмку-другую, видит бог, вы бы уже за вилки с ножами схватились. Ну-с, так-то… И чтобы я вас не видел, не слышал. Сидите, как два таракана под веником, и молчок. Понятно?
Выпускники понуро начали прибирать на столе. Когда дверь закрылась, Алексей выругался сквозь зубы, а Гусарь выдал нараспев:
– Налили мы по стопке, налили по другой… Речь так и журчала ручьем… Да, брат… «Жестокий век… дрожат твои ресницы… Жестокий век, кому теперь молиться?» Вот уж история… Пошел хлопец за шерстью, а вернулся стриженый.
– Увы, месье Шурка, нет ничего хуже не оправдавшихся надежд. Цена ошибки слишком высока. А как славно сидели… Как сидели! Нет пива без недолива.
– Да кабы я бачил… що тараню сию важную дуру для этого лысого злыдня… вот крест, саданул бы ее, заразу, где-нибудь о булыгу. Теперь он, пес, ее сам дуть будет с мастаками, а то банщика позовет или Чих-Пыха кликнет…
– Сами виноваты. – Алексей стряхнул хлебные крошки птицам за окно. – Сидели бы тихо – пронесло, а так – получили по замечанию. Шали, брат, но знай меру. Это еще хорошо, что Гвоздь нынче в дежурных, этот не настучит… Был бы Сухарь – пиши пропало, как пить дать капнул бы в дирекцию Мих-Миху.
– Мы же выпускники? – с сомнением повел плечом Гусарь. – Нам-то что за беда?
– Не скажи, – закрывая окно, наморщил лоб Кречетов, – и «майским жукам» могут крылышки оборвать. Помнишь, как в позапрошлом году «пришпилили на булавку» Сыромятова? Тоже выпускник был… Ну что, по койкам, сударь?
Сашка уныло мотнул головой.
– Слушай, Кречет… так ты все-таки завтра собрался к ней идти… на мировую?
– Собрался. – Алешка расстегнул пуговицы рубашки. – Ладно, Шурка, давай спать.
Часть 9. Сыскари
Глава 1
Громкое известие об убийстве Злакоманова, подобно шквальной волне, прокатилось по всей Волге и до корней души потрясло общественность. На ноги была поставлена вся полиция и жандармерия волжских городов. В Саратове не смолкал телеграф. Газеты рвали на части полицию. Ежеутренне пред строжие очи губернатора являлся с рапортом о проделанном полицмейстер Николай Матвеевич Голядкин. «И в нелетную погоду можно с треском вылететь со службы», – читал он в глазах Переверзева – губернатор шуток не любил… Злакоманов издавна ходил в друзьях Федора Лукича, имел уважение в его семействе, ссужая немалые средства на нужды города и театра. Это обстоятельство в «композициях» главы полиции господина Голядкина было едва ли не роковым. «Петух чувствовал, что его скоро зажарят, и пел свою лебединую песню», – третьего дня на утренней аудиенции мрачно заметил Переверзев. И сейчас Николай Матвеевич крепко переживал зловещий смысл услышанного в губернаторском кабинете.
О характере Федора Лукича Голядкину было известно премного, когда он ходил еще в приставах 4-й части. Губернатор был чрезвычайно вспыльчив и горяч. Если докладывалось или отписывалось «не по его мысли и не сообразно с делом», он кричал, сердился и называл чиновников «скотами», «ослами», «козлиными детьми». Когда Переверзев начинал сердиться, это становилось заметно сразу: на большом лбу все более крупно наливалась шишка и доходила до половины грецкого ореха; когда же он отходил сердцем, то и шишка уничтожалась и почти не была приметна. Кроме того, будучи «не в духах», Переверзев мял написанную «не по нему» бумагу, швырял на пол, топтал ногами; однако позже поднимал ее с пола, расправлял, рассуждая, как до́лжно написать; принимался править написанное, но с гусиного пера сливались чернила по жеваной бумаге, он вновь бросал перья, и уж только после того, как гнев проходил полностью, отдавал текст перепуганному чиновнику, приказывая переделать по своему разумению.
Ни дня Федор Лукич не переставал «шкурить» нерадивое чиновничество. Весьма часто на подносимых к просмотру черновых бумагах он делал гневливые надписи вроде следующих: «Давно долблю: маленькая “г” означает город, большая “Г” – господин; но ведь не понимают, козлы!»; «Соломой бы вас кормить, лоботрясов»; «Темна вода во облацех вышних»; «Уж ежели ты родился, батенька, дураком, то это навсегда. Горбатого могила исправит. Коли так туп, братец, спроси моего кучера Ефрема, чего проще, уж он пояснит: “То лошадь везла, а то корова ехала”… Ведь право, не надо выпить все море, чтобы убедиться, что оно солоно?»
В этой истине Голядкин не сомневался, но как было объяснить разгневанному губернатору, что дело по раскрытию убийства купца Злакоманова требует времени и архискрупулезного подхода. Как на грех, из Петербурга и Москвы понаехали в числе огромном родственники убиенного – и «пошла жара»… Родня миллионщика трясла несчастного полицмейстера, как половик, с одним и тем же вопросом: «Когда будет найден злодей?! Когда лихоимец и вор будет предан суду?!» Слез было пролито много, но более рассыпано слов с тайным прицелом: «Слышно ли что о деньгах?», «Не всплыли ли где золотые тыщи?».
– Вот такая, голубчик, «краказябра» с тремя неизвестными получается! А ты хоть разбейся: вынь да положь, мать ее еть… – ругался при закрытых дверях Николай Матвеевич. – Ну что ты будешь делать? Разве это не нахальство с позиции силы? Еще прикажи эту сволочь в клейма, выжженные на лбу, поцеловать, а то на каторгу с ним пойти? Так и поцеловал бы, будь он проклят, так где этого волка найти?! Вот тебе и вся любовь на птичьих правах…
Но крепче всего в гримасах поведения родни покойного Голядкина допекали дикая алчность и цинизм, которые сразу бросались в глаза, как уродливые родимые пятна. Слетевшиеся, подобно коршунам, на дележ крупной добычи: дядья и тетки, девери и шурины, кузины и великовозрастные племянники меньше всего думали об усопшем. Богомолки и приживалки, блаженные и прочие калики, отмеченные печатью Господней, что от веку прижились и столовались в огромном доме покойной матери Василия Саввича, были выброшены на улицу, как ненужный, путающийся под ногами хлам. «Хватит! Пожировали – дайте другим пожить! Ишь привязались, дармоеды, нахлебники чертовы, кнута на вас нет! И духовную пищу надо подсаливать! – летело взашей богомольной братии. – Знаем мы вас, босоту… Что ни дай, все пропьете! Еще допытаться надо: кто из вас крест ради Христа надел, а кто бесу на смех!»
Голядкин с трудом брал умом, кто из них человек Божий, а кто иконой прикрывает свой промысел. Зато знал твердо другое: самый благонамеренный элемент саратовских рынков и городских окраин – это нищие. Многие из них тут родились и выросли. «И ежели по своему убожеству и никчемности они не стали ворами и душегубами, а так и остались “христорадной ротой”, то теперь уж свое нищенское ремесло ни за какие посулы не променяют».
Уж кому, как не ему, Николаю Матвеевичу, было знать о сей «касте неприкасаемых». Это были не те классические попрошайки, волею судеб потерявшие средства к жизни, которых русский человек изрядно видит на улицах: те горемыки и вправду едва-едва наскребали на кусок хлеба или ночлег. Другого сорта были нищие Пешки. Они слыли великими мастерами «масок и розыгрыша». Числились среди них и ряженные под странников. Эти «перекати-поле» имели и вид-то особый: «Здоровенные, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные, не знавшие гребня и мыла волосы мочалом лежали по плечам. Это были монахи-призраки небывалых монастырей, пилигримы, которые весь век свой ходят от Пешки до соборной паперти или до волжских купчих и обратно.
После угарной ночи такой вот “святой дядя” выползет из-под нар, запросит в кредит у съемщика кружку сивухи, облечется в страннический подрясник, закинет за плечи суму, набитую тряпьем, на голову взгромоздит скуфейку и босиком, порою даже студеной зимой по снегу для доказательства своей праведности, бродит вокруг церковного подворья.
И какой ахинеи в ступе ни наврет такой “странник” дремучим купчихам, чего только не всучит им для спасения грешной души! Тут тебе и почерневшая от столетий щепочка Гроба Господня, тут и волосы из бороды Сергия Радонежского, и чудом уцелевшее копыто осла с Ноева ковчега, и все что захочешь… лишь бы монетой руку погрели»[118]118
Гиляровский Вл. Друзья и встречи.
[Закрыть].
О грехах купчих говорить и не приходилось. Те только лукаво молчали, когда кухарки при найме ставили им условие: хождение в гости «кума». Препона со стороны хозяйки имелась одна – чтобы человек был казенный, надежный, а не какой-нибудь прощелыга-ширмач с улицы.
Да и как не поощрять было такого почина, когда в те времена по всей России гуляло пословье: «Каждая купчиха имеет мужа – по закону, офицера – для чувств, а кучера – для удовольствия». Так отчего кухарке было не иметь кума-любовника!
Впрочем, все эти купчихи, «святые отцы» Голядкина занимали мало. Как говорится: не всякому слуху верь – даже слуху музыкального критика. Просто Николай Матвеевич, будучи человеком, имевшим не только погоны на своих плечах, но и сердце в груди, с мучительной яркостью осознавал трагическую бессмысленность титанических трудов Злакоманова. Горько было лицезреть, как кроилось, по-звериному рвалось и трещало растаскиваемое добро убиенного.
* * *
Похороны были пышные, едва ли не княжеские. Отпевали покойного в той же единоверческой церкви, в которую он с отрочества хаживал вместе с родными. В храме Михаила Архангела присутствовали все саратовские купцы и сановники.
Позже лакированный гроб красного дерева поставили на катафалк и выпрягли лошадей. Чести везти колесницу добивались купцы, офицеры, чиновники, студенты, мастеровые…
Весь в поту, с красным лицом, насилу пробился к козлам и Григорий Иванович Барыкин. Натужно ухватился за бронзовый поручень и горячо обратился к юнцу:
– Христом Богом прошу, пущай меня наперед, братец, повезти гроб. Ты уж довольно потрудился, голубчик, от самой церкви…
– Не моли! От церкви и до могилы не уступлю места, – глухо, но твердо обрезал тот.
– Что ж это деется?! – Барыкин закрутил головой, безуспешно пытаясь протолкнуться к покойному: – Да пусти ж наконец! Я ему как родной!
– Всем нам он был как родной, – вспыхнул молодой человек.
– Ты чей таков будешь, чертов упрямец? – Григорий Иванович впился взглядом в сырые от слез карие глаза.
– Кречетов Алексей… – долетело до слуха, и тут же сквозь молитву священника заслышался другой молодой голос:
– Що ты прилип к нему, як банный лист? Не чуешь, в какую минуту копытом бьешь?
– Эй, труни, ребятушки! Кончай базар! – сердито захрипело из толпы, и колеса катафалка тронулись.
Шествие открывали чиновники канцелярии во главе с губернатором Федором Лукичом, следом шли представители попечительского совета, а за ними саратовское купечество. Все несли множество венков.
– Вот оне, ордена нашего милостивца, – сквозь слезы, указывая на венки, сказал кто-то дрожавшим голосом.
Движение экипажей прекратилось. Улицы от храма Михаила Архангела до кладбища были запружены людьми. Артисты театра и студенческая молодежь, завидев человека в шапке, кричали, срывая голос: «Шапки долой! Злакоманова везут! Генерал, шапку долой! Злакоманова провожают! О нем, не о тебе, и после смерти вздохнет Волга-матушка!..»[119]119
Золотницкая Т. Мартынов.
[Закрыть]
Часа через три траурный поезд под мрачное молчание родни и надрывный вой плакальщиц медленно дотянулся до злакомановского фамильного погоста.
День был ясный, ни облачка – пронзительная июльская синь. Прело припахивало скошенной травой, налившимся соком одуванчиков, к запаху которых примешивался скорбный аромат ладана.
Много было сказано теплых и горьких, идущих от сердца слов. Огромная толпа пропела «вечную память». А когда могилу принялись засыпать землей, могильщик, бросая последнюю лопату, тихо сказал свой панегирик:
– Ну, православные, теперя наш родимец жиять пошел!
И действительно, память людская о купце-подвижнике перешагнула обычные рамки. Ни одному из его потомков так и не удалось обойти широтой, умом и сердечностью своего предка, хотя и их имена гремели по Волге. Увы, все они могли напомнить об ушедшем Злакоманове только фамилией. Однако память о нем в подобных «вензелях» не нуждалась.
* * *
Присутствовал при сих печальных событиях и Николай Матвеевич. Мысленный взор его держал в памяти немые спины купцов, залитые солнцем хмурые лица родни и чиновников, босые ноги простого люда и неестественно свежий, из белого мрамора крест на могиле, который смотрелся до времени чужаком среди других крестов известного рода…
С календарной цифири минуло две недели, а дело по раскрытию убийства купца не сдвинулось с места. Все усилия, предпринятые господином Голядкиным, были напрасны. Николай Матвеевич был просто в отчаяньи. Дело Злакоманова шло из рук вон худо, точно над ним и вправду тяготел суровый, таинственный рок. А между тем список удачливых раскрытий в службе Голядкина был немалый.
…Как-то в сороковых годах в лесах Петровского уезда объявилась лихая шайка разбойников, которые нападали на проезжих и вершили дерзкие грабежи по селениям. И сколько ни билась полиция, успеха в поимке грабителей не было. Вот тогда-то губернатор и командировал для захвата последних Голядкина. Николай Матвеевич взял с собой подручного полицейского служителя и с ним более месяца выискивал лихоимцев, переодевшись в солдатскую амуницию, денно и нощно шатаясь в тех буреломных местах, откуда, по слухам, выходили разбойники. Под видом беглого дезертира Голядкин, наконец-то встретясь с убийцами, присоединился к ним и пробыл в их обществе пару недель. Каким-то «ангельским» случаем, через своего лазутчика, ему удалось добыть бочку вина; перепоив всех и обезоружив, вытребовав из села помощи, заарестовал шайку. За проявленную доблесть и находчивость в сем деле Голядкин был награжден орденом. Числились за ним и другие раскрытые преступления, однако они не могли смягчить ответственности за порученное ему расследование громкого убийства.
– Грустно вам, грустно… ваше высокопревосходительство… А мне вот, черт возьми, весело! – закипая от бессилия на самого себя, вновь вспыхнул Голядкин. – «Ах, любезный Николай Матвеевич, как ваше здоровье?» – Он злорадно передразнил губернатора. – Как здоровье? Благодарю покорно-с, как дерьмо коровье! Упруг молитвами вашими, Федор Лукич. Мы прямо близнецы в некоем роде: вы злитесь – я смеюсь. Вы смеетесь – я злюсь. По главным вехам с веселым смехом, как говорится. Прямо, знаете ли-с, какой-то заколдованный круг получается. А сегодня мне приснились раки… Раки – это к драке, братец… Будет тебе, Николай Матвеевич, и белка, будет и свисток, ежели провалишь злакомановское дело. Нет уж, увольте-с, ваше высокопревосходительство… Голядкин вам не мальчик для битья-с. Мы еще повоюем. Ну-с, а ежели монетка ляжет ребром?.. Что ж, значит, судьба. Но опять-таки, ваше высокопревосходительство, прошу заметить: кролик оказался стар и забою не подлежал. Если угодно, уйду в отставку, но достойно и тихо, а главное – сам. В моем, знаете ли, возрасте сон и покой – это святое. Хотя согласен: «Интуиция импровизации в сыске – есть чистая марка гения». Но ваш покорный слуга, как видно, из другого стойла. Впрочем, все это лишь богатый, но пустой листопад слов, братец. Брось амбиции! Ты прежде всего слуга государю и Отечеству. Так что… обиды побоку – бери след!
Похрустев кофемолкой и заварив себе в турке крепчайший «бодряк», Николай Матвеевич вновь сел за анализ известных ему фактов.
Опытный пристав Колесников с двумя следователями, побывавшие в Нижнем, где был обнаружен злополучный труп, передали срочной эстафетой подробный отчет. Из оного следовало:
– Покойный был задушен волосяной петлей…
– Грабитель, разбив стекло иллюминатора, в отсутствие Злакоманова проник в каюту, где впоследствии и совершил убийство, вскрыл сейф и тем же путем, скрытым от сторонних глаз, вместе с деньгами покинул место преступления…
– Убийство произошло в каюте за час или полтора до прихода «Самсона» в Нижний… стало быть, около 2-х часов дня…
– Дверь каюты была заперта изнутри на ключ самим убиенным, чему горячо свидетельствует урядник Ф. Редькин, дежуривший на посту в то самое время…
– Другой охранник, А. Ивкин, сменивший Ф. Редькина, подтверждает, что 50-ю минутами позже (как он принял пост) пароход сделал краткую остановку у неприметной пристани под названием Петушки, где среди прочих пассажиров сошла и некая молодая пара, каюта которой находилась почти рядом с номером покойного…
– Данная чета, не то любовники, не то законные муж и жена (выяснить не удалось), внешнего виду весьма пристойного…
– Особые приметы, по словам свидетелей: молодая дама необыкновенно хороша собою, обучена благородным манерам… имеет темные волосы, карие глаза и завидную природную стать…
– Ее спутник так же учтив и приятен глазу. Рост средний, строен, широкоплеч; цвет глаз невнятный, скорее серый; носит длинные волосы и широкополую, по всему, итальянскую шляпу черного цвета; одет был в черную пару, при себе имел кожаный баул и большой дорожный чемодан…
Далее шли подробные отчеты с характеристиками других пассажиров, которые покинули борт парохода в Петушках. Все они были допрошены, а в их домах проведен обыск, который, впрочем, ничего не дал, кроме возмущений и нареканий в адрес полиции. Пассажиры эти оказались ничем не приметными людьми: крестьянами и служащими – жителями Петушков и соседних селений.
Приставом Колесниковым были также скрупулезно допрошены работники речной пристани, извозчики, паромщик, водовоз и лодочник, который по собственному почину за некую мзду перевозил опоздавших к парому людей на другой берег.
Первые на допросе поведали, что «да, видели», как со сходен на берег сошла незнакомая молодая парочка с ручной кладью, но вот куда и зачем направилась – неизвестно. «Мы, чай, своих и соседей шибко знаем, господин хороший. Век на сем месте берег трамбуем… Не наши то были, не здешние. Да и в селе хоть ковось спросите: никтошеньки их и знать не знат…», «…а вот извозчика брать они отчего-то не стали. Мы ешша с Пелагеей охнули – ведь тяжесть у них в руках кака. Барынька та – ручки белые, в обувке на каблучках – далёко с такой поклажей ног не унесет. Да и господин при ей был такой… сухолядый, никак чахоточный, али художник… Разве в сторонку они отошли, за тальники, роздых себе дать да нужду до парому справить? Тоже ведь люди, прости господи… Ну, так посему… до Прохора вам нады сходить, он-то поди знат, ковось на паром саживал?»
Однако паромщик божился насевшим на него следователям, что «на евонном плоте таких амуров не наблюдалось». Другое дело – лодочник Антип… Этот сказывал, что, дескать, «было тако замешательство» в тот памятный день, и он, как пароходу уйти, перевозил на другой берег Волги «двух чаянных». Но по причине «глубинного без про́свету пьянства» убей не помнит кого! При допросе мужик вилял в ответах, как сонный налим хвостом: «…Да нешто б я не сбрендил вам правду-матку, архангелы, хто был у меня же… в моейной лодке? Да как родным, на духу… но вот те крест, не помню… то ли мужик с бабою были, то ли две бабы, а может… погодь, ваш бродие-с, бес бы их взял, и два мужика… Ведь как на грудь примешь для сугреву, а потом на веслы-то ляжешь, мать их в бок, да как повывернешь лопатки без продыху битых два часа кряду… дык на корме не то что бабу, черта глазастого немудрено узреть, мать-то их в дышло!..»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































