Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
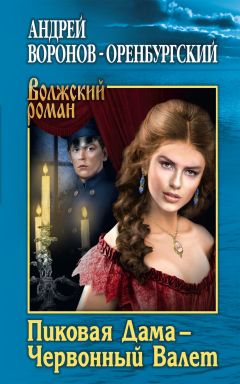
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 48 страниц)
– Ты нравишься мне, Алеша. Будь осторожен.
* * *
– Ну, красавец! На кого ты тильки похож! Сидай, сидай, погутарим. – Соскочивший с кровати Сашка загремел блюдцами, споро расставил чашки, разлил чай, выложил из жестяной коробки на стол белые как снег куски крупно колотого сахара. – Однако даешь ты жару… Один зараз супротив четырех соколовских! Беркут! Ай да хлопче! Но и они тебя… ишь как покоцали! – живого места нет… и под глазом гарный фингал – впотьмах без свечи идти можно. Но ты не боись, Лесик, для баб нет ничего дороже, чем шрама у мужика на роже. И це справедливо. Ты давай прежде сало с чесноком пожуй, не тужи. Вот хлеб…
Шумно прихлебывая кипяток, Гусарь крепкими зубами весело грыз сахар; при этом, поднося его ко рту, он всякий раз артистично кривил голову набок и созерцал у самого своего носа мизинец, украшенный серебряным колечком. Этот палец был картинно оттопырен, а остальные копытцем держали фарфоровую дужку чашки.
– Э-э… – отрываясь от кипятка, снова затрещал хохол, – так я трошки не зрозумив: вы поругались с ней?
– Нет, познакомились.
Кречетов, внимательно осмотрев у зеркала глубокую ножевую царапину на плече, призывно кивнул другу:
– Давай, прижги йодом. Чего ты? На мне узоров нет.
– А що це, не узоры? Так, погодь. Дэсь у мэни в тумбаре бинт был… А-а, вот он… руку выше держи. Эх, ешь, потей, работай, мерзни на ходу, немножко спи. Да, батьку, ты у нас нынче як свадебная лошадь: морда в цветах, а жо…
– Давай без уточнений… «в мыле», «в мыле». О-ох, как жжет, собака! Скоро ты там? – рука онемела.
– Готово. Могёшь опущать. Не туго?
– Благодарю. Устал я, Шурка, лягу. Зажги лампадку. Ух ты, уж полночь, время-то как летит.
Кречетов задержал взгляд на вензелястых стрелках, что ползли драгунскими усами по обшарпанному циферблату настенных часов, прислушался к мерному ходу тусклого маятника и искренне порадовался, что уберег данный под честное слово Юркой Борцовым серебряный брегет.
Отчитав молитву на образок, улеглись спать. Алешке остро вспомнились слова матушки: «Вечный мост от души к Богу – молитва. Помни о сем, сыночек, и никогда не забывай». «Господи, как давно я не был в родительском доме… Надобно их повидать…»
Вспомнилось почему-то и публичное одиночество сцены, когда остаешься один на один со зрителем, и прелый, чуть душный запах кулис, аплодисменты и красота темноты театрального зала, где по волшебному мановению дирижера рождается чудо… От этих спонтанных картин память вновь скакнула к прошедшему дню, к мысли о Вареньке. «Надо же, как все странно! Какой поворот судьбы! Вот мы и встретились с нею… И все как будто не со мной. Каково ей, бедняжке, сейчас? Я вольный, как ветер, с меня и спрос невелик, а она?..»
– Лёсик, ты спишь? Знаю же, нет…
Гусарь привстал на локте, замер в напряжении, что сеттер, в приглушенном свете лампадки особенно сыро и ярко блеснули голубые белки его глаз.
– Ну. – Алешка, скрипнув зубами, не повернул головы.
– Що ну? Давай еще погутарим.
– Отвянь.
– Ну, Лёсик… – обиженно промычал Сашка и снова замер в тревожном ожидании.
– Спи давай!
– Дак нам по звонку не вставать…
– Отстанешь наконец?
– А давай, кто быстрее уснет?
– Давай.
– Давай!
– Ну давай!! – Алексей, плюнув с досады, приподнялся и сел, опершись лицом в ладони.
– Вот ты уже и не спишь, брат, – радостно констатировал Гусарь. – Расскажи еще про свою панночку. Она, поди, треплет тебя за пустяки и слезы по каждому случаю льет?
– Нет.
– Брэшешь. Все они плаксы, да с придурью. Я их слезам не верю.
– А я верю! – накипая гневом, отрубил Алексей, но тут же засомневался в своей правоте. Откинулся на подушку – с этим хохлом он положительно не мог заснуть в эту ночь.
– Знаешь, – снова пустил наудачу стрелу Шурка.
– Знаю! Ежли не дашь спать – убью!
Наступила тишина, в которой явственно слышался ход часов и сопение Гусаря. Но блаженный покой был недолог.
– Значит, вот так ты со мной? Вот так? Я уже не в счет? Добре, пане… Злыдень ты писюкатый, Кречет, – обиженно буркнул в подушку Сашка. – Вот и давай тоби после сего целковый.
В дортуаре опять растеклась тишина.
– Я, может, его тоже… хотел на свои радости потратить, а ты?.. Даже погутарить трошки с другом не моги.
– Да отдам я тебе целковый. С получки отдам! – поворачиваясь на другой бок, притворившись сонным, зевнул Алексей.
– Да я не о том… больно надо… – надуто мяукнул Гусарь и натянул одеяло на голову.
За окном по стеклу барабанил дождь, выстукивая свою древнюю мелодию; музыка рассыпалась в ночном воздухе, сливалась с жемчужными лунными тенями, с запахом молодой и сырой листвы. Алешка слушал эту музыку и внимал голосу своего сердца.
Гусарь Сашка из Полтавы – лирическая душа, талантливый танцор, голубоглазый весельчак, баламут, бессребреник. Для Кречетова он с первых дней жизни в потешке стал той «отдушиной», через которую выбрасывался скопившийся душевный пар. Это ли не счастье? Ведь до сего времени все переживаемое кипело внутри него самого, не находя выхода…
Дружба с Гусарем внесла изменения в поведение Алексея. В его проявлениях появилась какая-то непосредственная нота в общении со сверстниками. На лице Кречетова теперь чаще играла улыбка… Короче говоря, Сашка, конечно, бессознательно, ни на секунду не задумываясь о том, взял да и подарил Алешке искру уверенности, искру задиристости, искреннего смеха и много другого, что по-настоящему понято может быть только тем человеком, который сам чувствовал и бесконечную горечь одиночества, и глухую неразделенность.
– Шурка, спишь? – Укус совести заставил Алешку вспомнить о друге.
Но Гусарь уже давно спал. За пепельным окном неторопливо набирал силу огнеликий восток.
Глава 6
Через неделю, когда на лице отцвела «сирень» синяков и можно было без особого страха смотреться в зеркало, Алексей собрался к родителям. Его душу давно мучила совесть: два полных месяца с хвостиком он не переступал порога отчего дома. На то были причины: экзамены, спектакли, дежурства, свидания с Барбарой, потом шишки да ссадины, но разве это веское объяснение для родных? А в последние дни – ну просто беда: каждую ночь он слушал во сне с колыбели родной, теплый голос маменьки. И был он какой-то пугающе слабый и жалкий, как у безнадежно больной.
Трижды за последние беспокойные ночи Кречетов просыпался, торопливо запаливал свечу и, не вздёвывая туфель, босыми ногами принимался маятно мерить молчавшую комнату. На сердце недобро скребли кошки: ни спать, ни есть не хотелось – мучил сыновний долг. Он горячо молился и с явно большим усердием, чем в церкви, отбивал поясные поклоны. От частых и монотонных движений, от смутных дурных предчувствий и от сознания, что вся его человеческая суть нынче подвластна какой-то необъяснимой и загадочной воле, ему делалось особенно не по себе и в то же время свободнее. Ибо в самом этом почтительном и благоговейном страхе перед Всевышним, перед Его строгим могуществом и начинала в православной душе колоситься надежда на милость и заступничество. После молитвы на время становилось легче, однако полностью смута не уходила. «Надо идти, надо идти!» – сердито понукал себя Алексей и злился, что с таким «гладиаторским гримом» на лице он лишь больше переполошит и удручит престарелых родителей.
И только сейчас, укладывая в кожаный саквояж купленные по такому случаю гостинцы родителям, он твердо знал – теперь ему полегчает.
Еще прежде, собираясь порадовать их своим вниманием на Светлую Пасху, он гадал, что купить. Батюшке он без колебания вознамерился приобрести новую цирюльную бритву в ореховом футляре; та, что жила в доме Ивана Платоновича, была безобразно тупа, с двумя щербинками у основания, и с неприятным хрустом снимала намыленную щетину. «А вот что дорогой маменьке?.. У нее все как будто бы есть, пусть далеко не новое, но все чистое, починенное, глаженое. Купить разве духи? Но на стоящие медяков не хватит, жить еще надо… а дешевые брать – только переводить деньги… Их скучный запах быстро надоест, да и должной стойкости в них – пшик. Нет, маменька не одобрит сей выбор: “Что я, барышня, радость моя? Вот ведь выдумал, на что деньги пушить”».
Третьего дня в поисках подарка он битых два часа проболтался на «Пешке». А там: толкотня и гам, радость и горе, слезы попрошаек и хриплый смех зазывалок-торговок – словом, сама жизнь. Волнующаяся толпа шныряла туда-сюда между лавок, сновала среди стоек и торговых рядов со снедью, заливала большую часть площади и охватывала подвижным хомутом старый собор. По одну сторону рынка – высокая церковная ограда, по другую – ряд двухэтажных домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах ютились конторы и склады, в полуподвалах – лавки с готовым платьем и обувью.
Предлагаемый дешевый товар был, как правило, русский: шубы, поддевки, шаровары или пальто и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Встречалось, впрочем, и «модьё» с нарочитой претензией на столичный шик, сшитое, правда, теми же портными.
Едва не оборвав пуговицы, Кречетов кое-как миновал «шмотьевщиков». Здесь, как на любом российском рынке, насильно затаскивали покупателя. Около входа, под яркой вывеской завсегда стоял галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было цеплять за полы или рукава проходящих и непременно таранить ими двери заведения, не обращая внимания, потребно тем или нет готовое платье.
– Руку отпустите, черти! Будочника кликну! – вырвался Алексей от двух молодцов в зеленых поддевках, ухвативших было его за плечи. – На кой… мне ваши жилетки с портами?
– Помилуйте, вашздоровьице! И откедова вы такой? Зачем же за будочником спосылать? – весело гоготнул конопатый детина и как ни в чем не бывало продолжая лузгать каленые семушки, брякнул: – Вы токмо товар зацените, господин штудент! Одно-с загляденье: парча – жар-птица! Сукно – чистая Парижу! У других маклаков хрен такого добра сыщете. Впарят хапаное дерьмо, а дома – зырк! – заместо кожи бумажная подметка на сапогах, токмо ж… подтереть… День-два – и на свалку товар. А у нас…
– Да пошли вы… – Кречетов, весь красный от злости, фыркнул под нос и одернул сюртук. – Знаю я вас: на грош пятаков – вот и вся политика, не заманишь – не обманешь, не обманешь – не продашь!
Резонно: базарным втиралам только поддайся – затащат в лавку, замучат примеркой и уговорят несчастного купить уж если не для себя, то для супруги иль деток, вспомнят тебе и двоюродную тетку из Слонима либо Тамбова, убедят купить для кучера, соседа, новый картуз. Ну а уж если покупатель сорвался с крючка, не заглотнул наживку, то на свое слово жди десять матерных в ответ, да еще родителей ваших до прабабки перцем посыплют. А все потому, что торгаши – народ отвязный, отнюдь не совестливый и не трусливый, их не запугаешь и не проймешь. Хамство и брань вперед них на свет родились.
Порядком истрепав нервы, Алешка наконец добрался до нужных рядов. Здесь глаз радовали яркие, в крупный и мелкий цветок, павловопосадские платки и шали с кистями, что так к лицу русской женщине. Среди прочих Кречетов как-то сразу, без проволочек, заострил внимание на скромно одетой даме. В руках она держала необычайной белизны пуховый платок, который так неожиданно и светло контрастировал с аляповатой палитрой базарных красок.
У Алешки засосало сердце: это неподдельное смирение во взгляде, стыдливое, чуть слышное предложение к мелькающим равнодушным лицам: «Не купите?», «Не надо ли вам?» – ох, как это было знакомо до слез с раннего детства. Таких белых ворон, как эта обедневшая дама, было немало на саратовских рынках. Тут мыкались и лишившиеся места чиновники, что несли на Пешку последнюю шинелишку с собачьим воротником, и бедный студент предлагал сюртук, нуждаясь заплатить за угол, из которого гонят на улицу, и голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца с серьгами, муж у которой сидит в «долговой яме». Эти несчастные «продаваки» от гиблой нужды были самой лакомой добычей для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, выливали на нее ушат насмешек, пугали злыми намеками и угрозами и, окончательно заморочив голову, сбивали с толку.
Кречетов без промедленья направился к даме, пытаясь не потерять ее из вида, но когда, наконец, пробился сквозь плечи и локти толкавшихся зевак, с тревогой обнаружил: женщина уже была взята в плотный оцеп ушлых маклаков.
– Чо хошь, красявая, за свою беду? – боднул ее вопросом один из них.
– Три рубля, – сконфуженно, еще больше тушуясь, ответила дама. – Чистый козий пух, господа… тончайшая паутинка… работа оренбургских мастериц…
– Га-а! Три рубля залупила! Тю-тю-тю! Ну, ты даешь, кудрявая! А рублёвку хошь? Да твоему платку полтяш красная цена. Рублёвка… я тебе говорю. А ты трояк, барынька!
– Ну, кроёт баба!.. А-а, кацо? Гляди сама, он больше не стоит!
– Га-га-гаа!
К белому платку потянулись с разных сторон руки. Вещь щупали, мяли, смеялись… Все крепко стояли на рубле и каждый норовил воткнуть свое едкое словцо:
– Он, поди, хапаный, братва! Купишь, да еще засветишься!
– Не краденый платок-то, мамаша?
На глазах у дамы задрожали слезы. Она попыталась вырваться из этого плена – тщетно. Юркие, цепкие пальцы по-обезьяньи рвали из ее рук платок, а в ухо летело:
– Так чо, стукнемся на рублёвке? На, бери, пока добрые. Какой трояк? У тебя щека не треснет? Чо?! Щека, говорю, у тебя не оттянется? Давай телись короче, мамаша. Один хрен, товар твой, должно быть, краденый.
– А ну-уу, раз-з-зойдись! – вдруг зычно и властно громыхнул за спинами голос. – Кому сказано?! Цыть, воронье! Щас мигом у меня в околоток слетитесь! За шкварник – и в клетку!
Жулье замерло, точно им дали по шее, и разлетелось по сторонам. Страх перед законом издревле жил под их шкурой. Но прежде, чем они распознали обман, Алексей уже был рядом с растерянной дамой.
– Вот ваши три рубля, мадам! – громко, чтоб слышали все, заявил Кречетов, а тише молвил: – Быстрее возьмите меня под руку, и прочь отсюда…
Ошалевшие от своего промаха маклаки заскрежетали зубами, ан поздно: их жертва была уже далеко впереди, быстро исчезая из виду в бурлящей толпе, словно ее никогда и не существовало.
– Благодарю вас, благодарю, молодой человек! Вы – молодец! Выручили меня… Вы так великодушны. Знаете, – дама виновато посмотрела на сочувственно улыбавшегося Алешку и с болью в голосе приоткрылась: – Я первый раз здесь… Это все ужасно, мерзко и гадко… Но понимаете, обстоятельства жизни… вот так, вот так…
Подбородок женщины задрожал, и она поспешила промакнуть платочком свои раскрасневшиеся глаза.
– Полноте, зачем слезы? Все уладилось… Прием имел успех.
Алексей еще раз тепло улыбнулся.
– Да, да, конечно… Простите. – Дама нервно скомкала сырой платок и поспешила заткнуть его за узкий манжет платья. – Но как вам это удалось?
Лицо ее оживилось, в глазах мелькнули изумление и восторг.
– Я, право, поражена! Я просто была уверена, что слышу голос околоточного. Я права?
– Наверное… так получилось.
– О, вы настоящий волшебник! Вы…
– Не стоит преувеличивать мой скромный талант. – Кречетов галантно склонил голову. – Просто я… впрочем, это долго рассказывать. Спасибо вам за прекрасную вещь. Вы тоже помогли мне, мадам. Простите, я тороплюсь. Честь имею.
– Одну минуту, молодой человек, я долго не задержу вас. Позвольте вашу покупку. – Она торопливо сняла обручальное кольцо со своего пальца и, просунув в него пуховый кончик платка, легко пропустила его весь через узкое отверстие. – Прошу вас. – Она уважительно возвратила купленную Алексеем вещь. – Настоящий оренбургский… не сомневайтесь… С другой шалью такой номер не выйдет… Да, и еще… если не секрет… Для кого вы купили его?
Алексей несколько растерялся, глядя в ее утомленные внимательные глаза, но через секунду признался:
– Для мамы.
– Дай бог ей счастья. У нее прекрасный сын.
Дама в скромном платье, повернувшись, ушла, а Кречетов еще долго провожал ее взором. Она чем-то неуловимым была похожа на его маменьку. «Может быть, добрым сердцем?»
И сейчас, укладывая подарки в саквояж, Алексей подумал о той печальной женщине, которая три дня назад продала ему оренбургский платок. «Где она сейчас? Что с ней? Возможно, она тоже готовит воскресный стол и ожидает прихода дочери или сына. Как знать? Причудливая все же штука – жизнь, столько судеб, столько дорог… А что у жизни впереди? – Кречетов задумчиво щелкнул медными застежками саквояжа. – Пожалуй, одна даль…»
* * *
На улице во всю птичью мочь щебетали пегие воробьи и хохлатые свиристели. Солнце, разомлев к полудню, казалось, задержало свой ход, заштриховало город шафрановым дождем лучей. В непросохших лужах на бульваре фиолетовыми, серыми и рябыми гальками дремали нахохлившиеся сизари и гуси. По дорогам, обдавая прохожих слякотной пылью, проносились экипажи, весело звякали перестуком подков упряжки, прорезая своим поддужным дребезгом бубенцов шум кипучей уличной жизни. Все улыбалось, деятельно двигалось, радуясь устоявшемуся теплу и скорому лету.
Алексей в приподнятом настроении скорым шагом поспешал к Троицкому собору, от которого до дома было рукой подать. На душе его тоже «выводили трели свои свиристели», однако чистую радость от близкой встречи с родными нет-нет да и мутили недобрые мысли. Так бывает, когда ночью мешает спокойствию сна скребущаяся под полом мышь или крыса. И хотя над ее головой стучишь каблуком или шваброй, она продолжает свой труд, лишь ненадолго давая покой вашим нервам. И как пилит доски до сроку затаившаяся под половицами хвостатая тварь, так пилили и грызли сердце Алешки думы о родном доме, о своей будущей актерской судьбе, о вечных конфликтах маменьки и отца, о Мите…
Возвращаясь по воскресеньям в семью, Кречетов, на первый взгляд, попадал в лучшее, сравнительно с прочими воспитанниками, положение, хотя отсутствие забот о жилье, дровах и кухарке мало облегчало его жизнь. Уже взрослому молодому человеку, каким стал к своим семнадцати годам Алексей, актеру, знавшему успех, игравшему с корифеями балета и драмы, невыносимо было заново привыкать к безгласному повиновению и убеждаться в том, что себе не принадлежишь. Однако, как человек православный, богобоязненный, воспитанный в строгости и шорах покорности старшим, противостоять слову отца он не смел. У того же год от года дела шли из рук вон плохо: семья перебивалась с хлеба на квас. Случайные заработки Иван Платонович по старинке большей частью упрямо тратил на судебные тяжбы, так и не оставив бредовых планов доказать миру свое дворянство. Остальное, увы, спускал на пропой. Прошедшие годы лишь усугубили его деспотизм; старик, по словам брата, стал «своенравен до пошлости», «капризен до ребячества», «жесток до варварства». Последний раз встречаясь в семейном кругу на Вербное воскресенье, Алешка увидел опустившегося, вконец озлобленного человека.
Похоже, тоска теперь частенько подкатывала комом, и Иван Платонович, недолго сопротивляясь, брался за рюмку. Он не считал себя горьким пропойцей, «подлечивался», так сказать, на неделе, полагая, что снимает напряжение. «Водка надо мною узды не имеет!» – любил похваляться он, до святости убежденный, что «у графина лежат» лишь отпетые неудачники. И, право, не замечал, что сроки от рюмки до рюмки отчаянно мельчают, а дозы «родимой» сливаются в беспросветный омут.
От этой правды сердце Алексея обливалось кровью; ведь он любил отца и помнил его прежним, совсем иным. Из далекого детства, как из небытия, поднимались призрачным миражом картины прошлых лет…
Вот Светлая Пасха… Солнечно, весело, свежо! Ему лет пять-шесть. Они с Митей, держа с двух сторон папеньку за руки, пробираются сквозь толпу к левому крылу храма. У клироса уже стоят их соседи Окороковы, Анатолий с Татьяной – муж и жена, и радостно машут им… Вокруг народ – не протолкнешься: мужики в поддевках на белых холщовых рубахах, с причесанными на прямой пробор волосами, что щедро смазаны конопляным маслом; бабы и девки в нарядных платках при пестрых бусах на шее. Алешке на душе празднично-беспокойно. Он крепче сжимает горячую, жесткую руку папеньки. В воздухе тягуче пахнет воском, ладаном и дублеными полушубками. Служба вершится торжественная; то и дело передаются к иконостасу свечи, до слуха доносится: «Николаю-угоднику», «к празднику», «Казанской», «Богородице-заступнице»… Большие золоченые подсвечники перед иконами сплошь залиты воском десятков свечей.
Начинается шествие вокруг храма, и перед главным, западным входом священник снова густым басом трижды провозглашает: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» – ликует толпа и вновь вливается в церковь. Позже, когда долгая служба окончена, папенька, подхватив детей на руки, несет их батюшке христосоваться… Христосовались и с маменькой, и между собой, и наконец, уставшие, но счастливые, отправлялись к дому. Там в этот радостный день семью Кречетовых ожидал нарядный праздничный стол.
Переполненный чувствами, Алексей закурил папиросу, взятую из початой бандерольки, а перед глазами уж маячили новые фрески былого: прогулки с отцом по лесу, где они с Митей не раз и не два поднимали скрытые выводки тетеревов, весело галдели над пугливым фырканьем пойманного ежа и открывали для себя новые, неведомые тропинки… Объезд молодой кобылки, которую усмирял приглашенный по такому случаю добродушный конюх Серега Благодыр. И как они радовались всей семьей, когда Кукла стала к концу дня понимать шенкель и повод. «Да… все это было ярко и интересно, а главное, проходило беззаботно и светло».
Впереди из-за зеленеющих мётел тополей открылись гордые кресты Троицкого собора, вкрадчиво подал голос церковный колокол. Кречетов по привычке перекрестился, свернул в проулок, перепрыгнул через лужу, в которой блаженно дремала розовая свинья с поросенком, и пошел под горку.
Увы, те золотые деньки детства безвозвратно канули в Лету. «Постановщик и либреттист – это всегда: брат мой и враг мой. Вот и у нас с отцом отношенья вровень с этим. Поди разберись… Доброго слова от него теперь не дождешься».
Алексей чем мог помогал отчему дому. Почти все скромное жалованье начинающего актера он отдавал отцу, на которое покупались: чернила, перья, кипы новой бумаги, одежда и… водка, после которой, как водится, вспыхивал скандал.
Митя теперь снимал себе угол неподалеку от мужского Спасского монастыря и дома бывал крайне редко. Алешка спасался в театре – там он забывал все невзгоды, туда и рвался. Конечно, при таком финансовом раскладе душу юноши царапал гвоздь обиды. И немудрено: все титулованные особы, да и просто у кого в карманах водились деньги, отправляясь на бал, в театр или с визитом даже в соседний дом, велели закладывать экипаж. Кречетову было не до собственного рысака, но если бы не бездонная яма папашиных расходов, он мог бы позволить себе «хватать пролетку». «А так… – он горько усмехнулся, – двигай пешкодралом и не питюкай. Плевать, что ты восходящая звезда и надежда… Плевать, что ты можешь замерзнуть, промокнуть, простыть. “По одежке растягивай ножки”, – говорит папенька. – Вот я и растягиваю».
Впрочем, особенно на судьбу Алексей не роптал. «Я молод и крепок, так что мне скрипеть? Замерзнуть я себе не даю… Разве вымочит дождь… так куплю для сей оказии зонт, уж всяко это станется быстрее, чем дожидаться холодной казенной кареты».
Куда серьезнее при нехватке денег досаждали заботы о гардеробе. Актер губернского театра обязан одеваться хорошо, соответственно званию. Боже упаси появиться в заношенном или залатанном – жди вызова на ковер в дирекцию, а там господин Соколов устроит выволочку по первое число – мало не покажется! Но и эта композиция не была роковой. Главной головной болью артиста был сценический реквизит. Сцена требовала – сорок сороков! И фрачное платье, и чиновное, и мужицкое, и пальто, и шинель, и камзол. «Да извольте, господа актеры, не по одной паре! На разные случаи, – упреждала дирекция. – И будьте любезны ко всему прочему иметь в своем арсенале обувь, перчатки и шляпы…» Во как! Но деньги все в кошельке отца. Досыта и так не едят давно. Вот где приходилось мудрить и ломать голову! Хочешь – залезай в долги, хочешь – иди на поклон к всесильным и разбивай лоб в мольбе, хочешь – задабривай лестью и враньем портного, не желавшего ждать «завтра», а гардероб, брат, имей. Как тут прикажете экономить, откладывать на черный день? А куда деть юность? Ее в сундук с камфарой не спрячешь. В жилах звенит молодая кровь, душа просит крыльев и воли! Вокруг столько соблазнов… Разве возможно устоять перед славной сигарой, тонким вином, дорогими парижскими перчатками, английским лорнетом, обедом в модном ресторане с хорошенькой душечкой, а позже катаньем в карете? Вот и улетало месячное жалованье в первые три дня…
Но у Ивана Платоновича на все эти доводы имелся свой стопудовый аргумент: «Ты мой сын – ты мне по гроб должник!»
– Я никому не должен! – начал было ершиться Алексей, но отец, бывший уже под мухой, лишь погрозил ему пальцем, словно малому дитю, и издевательски загоготал, как шут, уставший от собственных проделок.
– Ну-с, уморил ты меня, Алешенька-сынок! Как есть уморил-с!
Затем повертел в руке стакан, проверяя его на свет, блестит ли он. Во взгляде младшего сына папаше почудилось презрение, это его взбесило, и он вдруг с силой швырнул стакан об пол, так что стекло вдрызг.
– Ах ты, скотина неблагодарная! Паскуда! Актеришка хренов! Думаешь, вспрыгнул на сцене козлом да на воздухах дурака повалял, кувыркнулся, и мое почтение? Браво? Бис? На, выкуси! Кукиш тебе в рот!
Отец снова разразился смехом и больно ущипнул Алешку за щеку.
– Глядите на него… Байрон нашелся! Никому он не должен. Нет, милый, мы все с пеленок кому-нибудь должны. Кто породил тебя? Я! Кто, скажи на милость, мать твою, выплатил все твои долги перед жизнью? Я! Кто тебя, бестолочь, в училище на дармовые харчи устроил? Да, пусть через Злакоманова, но устроил… Опять же я-я-а! Ну-с, то-то. Все долги твои, сынок, давнехонько мои. А что мое-с, то и твое-с, согласен?
Алексей тогда лишь почтительно кивнул головой. Спорить с родителем он не мог… да и бесполезное это дело. Плетью обуха не перебить. Грустно вот только на сердце стало, горько. Сиротела от таких слов душа, и смешными становились слова маэстро Дария: «Человеку, умеющему и жаждущему служить искусству, открыты все пути». «Нет, видно, прав Гусарь, когда гутарит: “Как ни тужься, а дальше верблюда не плюнешь – пупок развяжется”».
С другой стороны, в памяти Алексея крепко жили слова батюшки Никодима: «Наследие от Господа нашего: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, коли наполняет ими колчан свой! Не останутся они во стыде». И другое: «Блажен всяк человек, убоящийся Господа, ходящий путями Его!» Вот и приходилось Алексею нести свой крест: терпеть и сносить все выходки папеньки. Что делать? – родителей не выбирают.
Уже открывая покосившуюся калитку дома, он вновь усмехнулся наивным мечтам первогодок «потешки»: те до дрожи завидовали им – старшим, наивно полагая, что жизнь выпускников театрального училища – манна небесная. Дескать, впереди роли, самостоятельность и успех. «Да что там… я и сам об этом премного мечтал, – признался себе Кречетов. – А на деле все, голубчик, иначе… Вот она, свобода – радуйся! Ты актер! Через два месяца тебе выходить на сцену, волновать публику… Ну, что-то не вижу улыбки на твоем лице?»
Ответа не последовало. Алексей звякнул щеколдой и, пройдя через двор, зазвенел колокольцем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































