Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
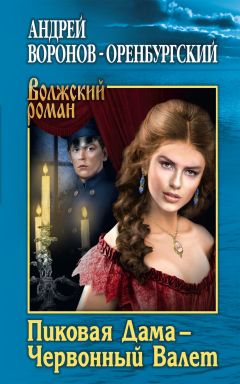
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 48 страниц)
– Что?
– Физиономия у тебя, как у мороженой щуки, – сквозь зубы процедил Ферт. – Мы едем к тетке из Дубовки на именины, а не на похороны.
Однако посреди шумного водоворота людей, которые толкались, смеялись и перекрикивались, пили квас и шелушили вяленую рыбу, на них никто не обращал внимания.
На нижней палубе, у сходен, была настоящая давка. Народ, одуревший от монотонного пути, маялся бездельем и радовался размять ноги на каждой пристани. Вокруг стоял смешанный запах сырости, подгоревших капустных пирожков, дешевых духов и потных тел; гомон пихавшейся локтями почем зря толпы давил на барабанные перепонки, не давая беглецам сосредоточиться.
В Петушках пассажиров сходило немного – станция была мелкой, и это огорчило Ферта – затеряться среди десятка мешков и корзин было нелегким делом. Впрочем, выручали шатавшиеся зеваки, что плотным гуртом высыпали на пристань поглазеть, что имеется в лубяных коробах торгашей. Последние с готовностью открывали свои лотки и начинали зазывно предлагать всякую дребедень, на которой другой раз и на секунду не задержался бы взгляд. Торговали дешевыми бусами, стеклярусом, гребенками, берестяными поделками, платками, шкатулками и разными мелочами – колечками, крестиками, иконками и дешевыми книжками. «Были тут и “Еруслан Лазаревич”, и “Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа”, и “Епанча, татарский наездник”. Эти расценивались по три копейки, а те, что потолще – “Гуак, или Непреоборимая верность” или, скажем, “Английский милорд” – подороже»[108]108
Гиляровский Вл. Друзья и встречи.
[Закрыть]. Продавались также московской фабрики карандаши и тамбовские записные книжки в зеленом и красном сафьяне.
Уже у трапа чьи-то горячие пальцы жадно ухватили Марию за ягодицу. Она хотела ударить зарвавшегося наглеца, но, оглянувшись, без оглядки рванулась вперед. Ей похотливо улыбался красномордый Редькин и делал какие-то двусмысленные знаки. К таким вывертам ей было не привыкать. У полицейских и у дряхлого старичья с тугими кошельками завсегда зуд в руках. В другой раз она сумела бы как надо «запустить ежа в штаны» хваткорукому блудню, но сейчас… Сердце ее замерло, а до слуха донеслось срамное хихиканье:
– Что девка? Шмара топтанная…
Раньше я жила не знала,
Что такое кокушки…
Пришло время – застучали
Кокушки по жопушке!
Мария пропустила пошлость мимо ушей – не такое случалось выслушивать в номерах. Другое хватало за горло: возможно, что это только прелюдия, а впереди арест и кошмар разоблачения.
Но все обернулось иначе: потная рожа урядника заштриховалась в пестрой толпе, и на душе певички стало спокойнее.
Ферт наметанным взглядом царапнул берег: сразу за пристанью теснились подводы приехавших торговать все той же рыбой, икрой, далее уныло стоял почтовый фургон с дремлющим на козлах возницей и несколько пролеток, дожидавшихся своих седоков. По пирсу шныряла, мал мала меньше, загоревшая до черноты ребятня и с визгом бултыхалась, в чем мать родила, в прогретой солнцем воде.
Они ступили на доски брошенного трапа, когда до слуха долетел возбужденный голос ребенка:
– Мама, мама! Вон этот дядя, про которого я тебе говорил! Вон он! Вон! Это он лез с веревкой, как акробат!
Неволина вздрогнула и обомлела, подметив краем глаза, как покрылось испариной лицо Ферта. Только на миг он задержал шаг, плечи напряглись, а на бесстрастном лице проявилось что-то ястребиное. Мария повернулась к Алдонину, широко распахнула глаза.
– Иди, как шла, – мрачно, едва слышно прозвучал приказ.
Каблучки нервно застучали по трапу. А за спиной вновь послышался радостный детский визг:
– Это он! Это он, мама!
На губах Ферта скользнула ледяная улыбка, он медленно обернулся; рука сжимала в потайном кармане рифленую рукоять револьвера.
Ему махал с борта парохода малиновым леденцом на палочке тот самый глазастый крепыш в гольфах с бомбошками и белой матроске. Захлебываясь от восторга, он дергал за подол платья стоявшую рядом мать и тыкал розовым пальцем в сторону Ферта. Женщина в соломенной шляпке с голубыми лентами смущенно улыбалась и тщетно пыталась унять пыл малыша.
– Ну и гаденыш! – сдавленно, растягивая слова, прошипел Ферт. – Легавым быть тебе, шкет…
Молодая мамаша, уставшая бороться с капризами сына, точно ожидая сочувствия, вновь виновато улыбнулась незнакомцу и развела в бессилии руками. А стройный щеголь в долгополом сюртуке, белой бабочке и черных туфлях из телячьей кожи, с большим баулом на плече помахал им шляпой.
«Самсон» сделал упреждающий свисток, в медь рупора полетела команда «отдать концы!»; матросы ловко «засушили» оба трапа.
Колеса поначалу вяло, а потом все бойчее и бойчее зашлепали плицами, и вскоре вода закипела шампанским под клепаным бортом. «Самсон» снова сделал свисток, затем еще и прощальный, медленно унося вверх по Волге тайну убийства Василия Саввича Злакоманова.
Часть 8. Слезы юности
Глава 1
Ниже по течению от барыкинского речного вокзала, там, где когда-то были хлебные склады для оптовой продажи зерна и где еще раньше располагалась крупная портомойня, теперь уж пятый или шестой год проживали сезонные артели бурлаков. Прежняя бурлацкая «перемена», что испокон веку имелась в Приволжском, гибло подтопилась Волгой и теперь по решению большинства была перенесена под самую окраину Саратова. Бурлаки в народе считались особенным, интересным племенем, как правило, со сложной судьбой и волевым характером.
Некоторые пытливые головы из воспитанников училища бегали в свободное время поглазеть на бурлацкий стан, поневодить с косматым мужичьем рыбу, поесть душистой «тройной» ухи, а главное, ночью, под звездами у большого костра послушать захватывающие истории.
Делали «вояжи» на бурлацкую перемену и Кречетов с Гусарем. Устроившись поуютнее на рогоже, угостив по сему случаю загодя купленной махоркой артельщиков, они внимали рассказам матерых дядек, развлекавших всю ватагу в долгие бессонные ночи своими бывальщинами да сказами. Отсед.
– Спрашиват один любопытный татарин у молоденькой барыньки, что с ручным скворцом в клетке по Волге путевала, «ваша, мол, птица?» – «Моя», – отвечат та. «Никак говорящая?» – «Ваша правда». – «А ну скажи: Ахмэт, Ахмэт, Ахмэт». Никак не уймется, поганый, а потом сморщил морду, как печено яблоко, и махнул с досады рукой: «Так на кой шайтан нужен такой птица, который не говорит?» – «А чтобы хранить тайну», – ответила барынька.
Услышанных от бурлаков историй была тьма, но одна, про лихого Репку[109]109
См.: Гиляровский Вл. Друзья и встречи.
[Закрыть], стояла особняком. Ее рассказал седовласый Лепеня – тертый одноглазый бурлак, многое повидавший на своем веку. Бывальщину эту он называл «Песий, или Собачий барин».
– Жила, значить, на Волге под Ярославлем известная бурлацкая перемена. Многолетиями становились там на роздых «лямочники». Но вот как-то объявился из Питеру прыткий барин и, как нарочно, заложил в аккурат усадьбу в том самом месте. Она и нынче цела – чуток пониже Ярославля будет – белый домина с коломнами, весь на виду, как на ладони… И стал по летам тудысь наезжать тот барин на жительство. Дворня у него была славная, без числа, и денег куры не клюют. Но какого добра было еще густее, так это собак. Великий охотник он был до ентих тварей… Гости из Питеру к нему прибывали травить зайцев и лис – все важие баре, куда там, при слугах и дорогих аглицких ружьях. И вот не по нраву стало барину, что наш брат ночует под носом на евонном берегу, песни горланит да барынь ихних, значить, своим страхолюдным видом пужаеть. И зачал он, лихоимец, наши ватаги псами травить на ходу, прямо во время волочи, а ежели на перемену народишко вставал, дух перевести да косточкам роздых дать, так на сонных налетали верхами его холуи, топтали копытами да пороли арапниками, хуже всякого нехристя. Дальше хлеще… Так год ли, два ли зверовал стервец, да на Репку-волгаря и напоролся. А Репкина артель – так бурлачков с полсотни – все оковалки будь-будь, как племенные выкормыши. Ну, значить, затеял барин в очеред потеху лютую… сам с хмельными гостями высыпал, натравил своих загонщиков, а Репка-то ждал. Ну, и пощелкали наши робяты господишек и их холуев по-бурлацки. И надо ж судьбе так палец было загнуть – на Репку-бугая наскочил сам барин с плетью. Схватились они гольем, врукопашную, значить, на чертолом облапились, – картинно сказывал Лепеня эту раскатистую по всей Волге бывальщину и, сдирая зубами шкуру с янтарной рыбины, заканчивал: – Барин тот помер прямо в медведёвых объятиях Репки… Стройка дворовая, вся как есть, в пламени сгорела, только дом и остался, бурлаки ушли с того становища, а место и по сю пору, братцы, кличут Собачий барин.
Вспоминались Алешке и другие картины, связанные с бурлаками, куда как более неприглядные и хмурые. Осень время тяжелое: ветер, колючие косынки дождя на пасмурном небе. Но до крепкого льда еще далеко, река судоходна, а значит, тяжелая лямка ждет бурлака. В такое межсезонье артели коротали ночи в землянках, где было невыносимо душно и приходилось сидеть, скорчившись в три погибели. В массе своей бурлаки были народом изнуренным; «одежа на них самая плохая, ни дать ни взять – сквозное вретище; какие-то короткие, вытертые до дыр чепаны черного домашнего сукна да куртки, вытканные из грубой шерсти. Часто в воздухе начинали кружить “белые мухи”, но полушубков не наблюдалось; на ногах лапти и онучи, а то и того хуже – немыслимые “отопки”; шароваров не водилось – одни подштанники; на ком шапка холодная, на ком теплая, набекрень, на затылке»[110]110
Попов К. Записки о Саратове.
[Закрыть].
При разговорах, откуда они и куда идут, Алексею говорилось разное: «…из Царицына… из Нижнего… из Николаевска… другие из Хвалынска или Казани идут домой… последнюю ходку на судне с хлебом и мукой в Астрахань сделали из Вольска». Жаловались, что с купцом Головлевым у них завязалось дело: «Он, сквалыга, недодал нам денег по условию, по двадцать рублев с полтиною на брата, аж до губернатора дело дошло. Тот, милостивец, нашу жалобу справедливой нашел… Дай бог ему здравия… Приказал нам деньги отдать, посылал к етому ироду полицмейстера и частного пристава. Головлев долго крутил-вертел, тянул дело, но все же насилу-то отдал… токмо по рублю, подлец, опять же недодал, скандально заявив, что исхарчил дюже по нашей жалобе. А мы-то, мил человек, совсем исхарчились. Три недели лишних промаялись в Астрахани. Теперь уж наши товарищи давным дома. В Астрахани остаться на зиму побоялись, потому и билетишки наши просрочились, тут ухо держи востро. Как бы не посадили в острог, да и дома-то нужно быть. Пять ртов, милостивец, их же кормить нады. Ушли, почитай, по вешней воде и не знам ничегошеньки, чой-т там деется… А ведь гляди-ка как последнюю неделю холода завернули! А на нас одежа, что рыбацкая сеть. Тут и околеть впору… Да видно, уже такое наслание божье».
Кречетов тогда поделился с несчастными двумя рублями и табаком, и на сердце как будто стало легче. Оно ведь всегда так: зубная боль пустяки, когда зуб болит у другого.
Но какие бы мрачные сюжеты, связанные с бурлаками, ни выбрасывала память, Алешке, один шут, было ревниво – Сашка Гусарь уже вторые сутки безвылазно пропадал на Волге среди дымных котлов и песен косматой братии.
– Друг, называется… Ни привета ни ответа… Ладно, Сашок, часы показывают время и тогда, когда на них никто не смотрит. Поглядим, чья возьмет. Но знай, я первый на поклон не пойду. Тундра ты, Гусарь, и в голове твоей, похоже, темно и рано, коли не можешь понять друга. Все обижаешься, дуешься на меня, а за что? Нет, брат, вышел из тебя толк. Осталась одна бестолочь. Вот влюбишься сам, гляну, как ты будешь пятый угол искать.
Кречетов неожиданно для себя подошел к платяному шкафу, открыл скрипучую дверцу и достал давно забытые балетные туфли, черное трико, высокие вязанные из собачьей шерсти гетры. От них пахло сценой, успехом и потом. Алексей прикрыл глаза, сымпровизировав торжественную сумеречность театрального зала: до слуха, как далекий волнующий рокот прибоя, долетел влажный шелест аплодисментов.
Он становился все крепче и явственнее, заглушая всплески оркестра, пока не превратился в яростный шквал, сквозь который летело оглушительно-рубленое, по слогам: «Кре-че-тов! Кре-че-тов!» В горле запершило, а на глазах заискрились слезы… Слезы гордости, радости, счастья и еще бог знает чего… Взволнованное сердце выстукивало жизненное кредо актера, привитое некогда месье Дарием: «Мы – трудолюбивые дети Аполлона, нас ничего не должно пугать! Сколь трудная бы задача ни стояла перед усилием нашим, труд и победа, признание и триумф! – вот наша творческая и нравственная стезя. Единственно верный путь истового, непримиримого таланта».
– Да, маэстро был в том поэтическом возрасте, – вслух рассуждал Алексей, – когда в творчестве ищут не рифму, а правду. Искусство должно восхищать зрителя, а не быть оскорблением в четыре действия.
Среди актеров бытовала шутка: «Самым ярким зрелищем в нынешнем сезоне будет в театре его пожар». Смех смехом, а мастер действительно близко к сердцу воспринимал любую неудачу театра. Подолгу замыкался в себе, избегал каких бы то ни было встреч с коллегами, а позже непременно язвил в адрес «провалившейся» труппы: «Увы-с, жеребчики… Оркестр был так безнадежно плох, что дирижер махнул на него рукой… а затем и публика. Думаете, доросли до сцены, так в “дамки” вышли? Кукиш! Впрочем, и ослы играют роль в музыке: их кожу натягивают на барабан. Помните, на сцену надо смотреть не как в замочную скважину. На ней надо жить и умирать. А вы все шутите да гнете тут дешевых паяцев… Ну, ну, давайте, продолжайте в том же духе, но только держите подо лбом: и шутники умирают всерьез».
– Что тут скажешь? – Держа туфли у груди, Кречетов шумно вздохнул и покачал головою: – Умел старик дать форменный разнос – камня на камне не оставлял. Но с другой стороны… – Алексей в раздумье наморщил лоб: – Такая нетерпимость к эксперименту, к импровизации, к новшеству. Сплошной канон, как застывший в веках мрамор. Нет, что ни говори, а я убежден, что театр стоит на растоптанных самолюбиях актеров. И от сладкого, бывает, тошнит… – Так откровенно и доверительно рассуждая с самим собой, он шаг за шагом все глубже и беспощаднее оголял душу, точно блуждал по критскому лабиринту минойских времен. И что-то новое, связанное с истиной, доселе непонятное, не то совсем лишенное смысла, не то, напротив, имеющее смысл, но столь глубокий и таинственный, что сразу не разберешь, – окутывало сердце и разум, открывая его сознанию новые вехи для понимания мира и себя в этом мире.
В какой-то момент он вновь поймал себя на мысли, о которой так часто вещала маменька: «Жизнь скоротечна… Не успеешь расправить крылья и подняться к небу, как их уж пора складывать и падать в землю, так и не увидев толком окружающий тебя мир».
– Ну дела! – мучительно тряхнул головой Алексей и положил балетные туфли обратно в шкап. – Что ж это такое? Впору на исповедь к батюшке. Как бы рассудком не тронуться.
Он пристально оглядел себя с каким-то беспокойным и настороженным интересом, начиная с домашних туфель и кончая вьющимися прядями волос, ниспадающими на плечи. Прошелся по дортуару, сгибая и разгибая руки, подвигал стулом, посмотрел в окно, за которым густились фиолетовые, подсвеченные золотыми лучами заката летние сумерки, словно хотел убедиться, что жив, что у него не отняли привычного воздуха, солнца и света. Затем еще раз посмотрел на себя в зеркало и подумал: «Неужели того, что я вижу в отображении, стало быть, меня – …когда-то не будет? А может быть, смотрящему через треснувшее стекло кажется, что мир раскололся? Нет, странно все это… положительно странно… И то, что говорю, и то, что думаю, и то, что вообще живу и вижу сей мир… Разве не есть это чудо? Прекрасное и божественное начало, дарующее мне возможность слышать, чувствовать, видеть, любить! А что, если я схожу с ума? – тихо задал себе вопрос Алексей. – Нет уж, дудки! Этого добра мне еще недоставало! К черту, к черту! Осел ты, братец, завтра же в церковь пойдешь».
А потом на ум скатилась жемчужной горошинкой Бася и их последняя встреча. Однако по прошествии времени, раздумий, соотношений и выводов она ему показалась крошечной дюймовочкой, запертой в своем маленьком мирке, едва ли превышавшем размерами грецкий орех.
Чем больше он встречался с Барбарой, тем крепче убеждался во мнении: нежные колокольчики в поле ее действительно не волновали. Зато ее волновали серебряные и золотые колокольцы на дорогущих господских тройках. Да и богатый гардероб, похоже, заменял ей книжный шкаф: по нарядам и платьям Снежинская читала свою, пока еще короткую, историю жизни. Впрочем, миролюбие – мать всех добродетелей. Обидчивость – орнамент глупости. Помня об этом, он старался не занозить свою голову мыслью, что сердце Вареньки проще открыть ключом от дорогого экипажа, чем романтичными грезами творчества. Но получалось это у Кречетова, мягко говоря, неважно.
* * *
…Как-то они катались на прогулочной белой лодке по тихому плесу. Алексей по первости опасался, что почти годовая отвычка от весельного «променада» не замедлит сказаться неловкостью и тяжестью движений. Однако когда они оттолкнулись от берега и он сел на весла, то с внутренней радостью ощутил: руки и спина его по-прежнему работают послушно и слаженно и помнят размеренный темп.
Волжский ветер трепал их волосы, весело гулял по прибрежному яру, и настроение Алексея сделалось радужным. В пронзительно голубом небе висела легкая дымка зноя, которая скрадывала дальний берег реки и причудливо оплавляла силуэт лодочной станции.
Умело чередуя короткие гребки с продольными, Алешка любовался сидевшей на корме во всем белом Барбарой.
Они были уже прилично от берега, когда он придержал ход лодки, мягко опустил весла в сонную воду и взял ее прохладные руки в свои. Варя, зарумянившись щечками, улыбнулась, подалась вперед и, закрыв глаза, уткнулась лицом ему в шею. У Алексея, как водится, запели колокола в груди. «Все образумится в наших отношениях… И в Басиных недомолвках с Гусарем, и в моих с братом. Просто не все вдруг… И шахматный конь спотыкается… так что требовать от людей? В конце концов, и в слезах отражается солнце».
– Расскажи мне, как ты видишь свое будущее? – тихо, не открывая глаз, спросила она.
– Ты правда этого хочешь?
Барбара кивнула головой и медленно провела ладонью по его лицу:
– Почему ты сомневаешься?
И он с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна юная душа, искренно начал поверять ей свои сокровенные мечты.
– Только представь, – Кречетов обнял ее за плечо, – уже этой осенью мы с Сашкой открываем театральный сезон. А впереди роли, роли!.. Говорят, наш главный, Мих-Мих, решился ставить «Ревизора» и «Женитьбу». Представляешь? Это фурор! До сих пор Гоголь игрался только в столицах… А хочешь знать, кто мой кумир? Вернее, всех наших…
Бася, плохо скрывая зевоту, прикрыла розовый рот кружевной перчаткой. Ее больше занимали перекосившиеся швы подола собственного платья и примятые оборки на груди. «Буря и натиск» вдохновенных речей Алексея полячку утомляли. Давно задуманное катанье на лодке с пирожными рисовалось иным: безоблачной идиллией с бесконечными комплиментами в ее адрес, пылкими признаниями в любви, поцелуями… и уж никак не с разбором ролей и спектаклей.
– Так вот. – Алексей сделал торжественную паузу. – Этот кумир – великий трагик русской сцены – Василий Андреевич Каратыгин. Знаешь, каким трудом он достиг высочайшей техники и совершенства? Как тренировал свой громоподобный голос, добиваясь, чтобы сказанное шепотом слово было отчетливо слышно в любом конце зала?.. Как он не раз проверял перед зеркалом каждое движение, жест, наклон головы? Да что тут порох жечь. – Кречетов махнул рукой. – Одно слово – трагик! Его друзья – Шекспир и Шиллер.
– Ты так самозабвенно говоришь, будто знаком с ним? – Барбара с трудом удержалась от ироничной улыбки.
– Увы. – Он отрицательно качнул головой. – Все только по рассказам Козакова. Вот Борисович наш был знаком с ним. Но ты только верь, слышишь, верь! Я тоже добьюсь своей звезды!
– Да слышу! Не надо кричать мне в ухо. Не глухая. И вообще, я хочу домой. Мне жарко, и я устала сидеть в этой унылой лодке.
Берег был рыхлый, и каблуки Баси проваливались в сырую землю. К тому времени, когда они добрались до станции отдать смотрителю весла, она совсем запыхалась.
Глава 2
Это была их третья близость в доме Снежинских, где они предались утехам юности, на которые, как оказалось, Варенька была весьма падкой.
Кречетов перевел дух, посмотрел на любимую. Он опять познал наслаждение женской ласки и плоти. Неуемное, до внутренней дрожи, чувство радости переплеталось сейчас с теплом глубокого волнения, вызванного речью о сокровенном.
Алексей как будто находился под чарами доброго сна: золотистые локоны волос струйками бежали по его груди, чуть слышное девичье дыхание сладко будоражило и кружило голову… И сердце, тронутое поцелуем надежды, сбивчиво трепетало в его груди. Кречетов в тот момент считал себя родившимся под счастливой звездой. Он с торопливой наивностью воображал возможное будущее, согретое присутствием Вари. Плохо умея сдерживать свои порывы, Алексей склонился и стал осыпать ее поцелуями. Он тормошил и тискал свою несравненную, как что-то такое, что хочется раздавить в руках от переизбытка восторженных чувств.
Она смеялась и лепетала какие-то бессвязные слова на родном языке, но Кречетов ничего не слышал… Потом вскочил с дивана, глаза его горели. Пальцы гребнем пробороздили волосы, превратив их в косматое пламя. Как и в первый день их встречи, он решительно подошел к роялю, и плотный фетр молоточков рассыпал по торжественному серебру струн глубокие переливы любви.
Алексей ощутил на своих обнаженных плечах легкую нежность скользящих рук. Девушка знала: эта музыка посвящена ей, и на красивых чуть припухлых губах играла самовлюбленная улыбка.
А он продолжал ей дарить свое живое, поющее сердце, потому что музыка была богаче и тоньше, изящнее и красноречивее любых слов. Невидимой сильной рукой звуков была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну любви, тайну мужчины и женщины, и они перестали быть тайной, но при этом не стали понятней и проще, так и оставшись манящей загадкой, как истина, начертанная на языке Небес. Казалось, не было такого цвета в палитре и не было таких слов, которые могли бы охватить и выразить его состояние. И все-таки он находил их, вернее, интуитивно ощущал и складывал хрустальную мозаику своих чувств: «Я люблю тебя… И буду любить всегда… – разве ты не услышала этих клятв прежде, в моих объятиях? А возможно, просто я не мог достучаться и не сумел сказать, как должно, оттого что это было чрезвычайно важно?.. Знай, я не в силах не думать о тебе… Каждый миг, когда судьба разлучает нас, ты живешь в моих мыслях… Я одержим тобою, твоими вздохами и ласками, ароматом твоей кожи и ощущением твоих волос в моих руках, соприкосновением губ и слиянием наших тел в одно целое. Но любишь ли ты меня… хоть чуть-чуть?!»
Доиграв до конца, он посмотрел в ее серо-голубые со льдинкой глаза, почувствовав, как пересохли его губы и рот.
– Je t’aime[111]111
Я тебя люблю (фр.).
[Закрыть], – дрогнув густыми ресницами, влажно выдохнула она.
– Et je t’aime aussi, tu sais?[112]112
И я тебя тоже, ты знаешь? (фр.)
[Закрыть]
– Beaucoup?[113]113
Очень? (фр.)
[Закрыть]
– Bien sûr. Beaucoup[114]114
Конечно. Очень (фр.).
[Закрыть].
– Ты сочиняешь милую музыку. В ней столько жизни и чувства… Вот и надо быть композитором – свободным и вольным как ветер, а не быть привязанному к театру, как лошадь к стойлу.
Кречетов сделал вид, что пропустил эту грубую колкость мимо ушей, и снова повторил:
– Я люблю тебя.
– Тсс, об этом не стоит так часто говорить. – Она мягко приложила палец к его губам. – Можно спугнуть счастье… между тобой и мной, во всяком случае…
Он серьезно посмотрел на девушку. Щеки у нее горели.
«Что ж, может, она и права, – заключил Алексей, – стоит жить по принципу: не повторяй своих острот – одним лезвием дважды не бреются. – Подумал и мысленно пошутил: – Лишь бы пьеса была с благополучным финалом, чтобы в конце концов ее все же поставили».
Барбара продолжала смотреть на него. Лицо Алексея оставалось открытым, но в глазах залегла задумчивая грусть. В его фигуре ощущалась скрытая настороженность, словно, несмотря на мягкость интонаций, он подсознательно чуял в ней насильно сдерживаемую лихорадку напряжения. Медленно она подняла руки и обвила их вокруг его шеи. Узкие силуэты шандалов отбрасывали причудливый рисунок тени на обнаженные тела, слышно было только тихое дыхание.
– Бася…
Она прижалась лицом к его щеке, потом к обветренным губам и отступила на шаг. Тень и свет мешались в ее сознании, заштриховывая сокрытую в глубине мысль.
– Что с тобой? – Карие глаза глянули на нее сверху вниз. Он улыбнулся Басе легкой, отчасти смущенной улыбкой. – Не молчи. Не могу так… когда ты молчишь, когда замыкаешься в себе… Я дурно поступил по отношению к тебе?
– Все правильно. Я сама хотела этого… – Верхний уголок губки не без досады ожил на ее бледно-матовом лице, и тут же она торопливо добавила: – Нет, нет… я ни о чем не жалею. Ты здесь ни при чем.
В ее миндалевидных глазах блеснул всполох синевы, как взлет зимородка, она натянуто улыбнулась и нервно пожала плечами:
– Просто я хотела, чтобы ты… был у меня… первым. Ты разве этого не понял?
Снежинская быстро начала одеваться, но всем своим существом ощутила, как напряглись мужские руки и накалился взгляд.
– И что теперь? – Его голос стал низким и сдавленным.
– А что теперь? – отрывисто перебила она и, поймав на своих голых, прозрачно-розовых плечах его взгляд, накинула на себя блузку. – Через два дня приезжают из Варшавы мои родители… Увы, «медовый месяц» пролетел…
– Я не об этом, – глухо надавил Алексей.
– А о чем? – Она холодно улыбнулась. – О призывных звуках ритурнеля из Розовой залы?
– Что с тобой? Бася?! – Ему вдруг стало не по себе – жар и озноб волнами прокатились по телу. – Ты… сама… сказала, что хотела… чтобы я…
– Да, сказала… Сказала! О Матка Боска! Дальше-то что? – Она продолжала решительно одеваться.
– В таком случае, кого бы ты хотела видеть около себя… последним?
Алексей не двигался с места. Стоя у распахнутого рояля, он пристально вглядывался в любимое лицо с высоты своего роста и тщетно силился понять, что происходит.
– Так ты ответишь?
– Мне рано думать об этом! – Она раздраженно надела туфли. – Может, ты все-таки соизволишь прикрыть свою наготу?
– Но как же наши клятвы?.. Твои слова? Ты убиваешь меня!
Он, сам не свой, натянул брюки.
– Не убила же…
– Но за что такая немилость?
– Так нужно. – Она нехорошо засмеялась и независимо прошла к балконной двери.
Кречетов деревянными от волнения пальцами застегнул последнюю пуговицу жилета, неловко поправил белый воротничок рубашки.
Барбара прямо смотрела на него своими голубыми, как лед, глазами, и на губах ее подрагивала какая-то бледная, совсем чужая улыбка. На розовой щечке поигрывала ямочка, и трудно было уверовать, что это лицо, вот это злое лицо еще минуту назад улыбалось, шептало о любви и прижималось к его плечу… А он ласкал его, целовал и лелеял.
Алексей попытался задать новый вопрос, но язык прилип сухим листом к нёбу. Напряженно и выжидательно он продолжал смотреть ей в глаза. И, как тогда, в детстве, он увидел в глазах Дмитрия обжигающий беззлобный смех после его уверений и клятв, так и сейчас в темнеющей синеве глаз Снежинской Алеша читал безысходный приговор голосу своего сердца.
– Ты что же… совсем не веришь в меня? – теряя самообладание, запальчиво произнес он. – В наше будущее?
– Которого нет? Прости, Алеша, но вы – артисты – нищий народ.
Кречетов подавленно замолчал, опустив голову. Что правда, то правда – актеры жили бедно. Поглощенный вечными репетициями и спектаклями, Алексей не заметил, как приблизилось важное событие, которого все воспитанники ожидали с огромным волнением, – их выпуск… Однако ему, относительно других, еще здорово повезло. Он был назначен в драматическую труппу с жалованьем в восемьсот рублей в год и получал единовременно триста на экипировку и двести квартирных. Но был ли это весомый аргумент для избалованной с детства деньгами и нарядами польской панночки? Особенно безнадежной «собачьей» долей считалось положение тех «майских жуков», кого назначали в оркестр или в суфлеры: хода на сцену им уже не было, а жалованье ни первым, ни вторым не прибавляли. Однако этот довод он оставил при себе, понимая, что тот будет иметь успех, равный нулю.
– Вы как-то странно замолчали, Алексей. – Барбара надменно откинула назад голову и перешла на обидное «вы». – Или я не права? – Она, подняв брови, посмотрела на потолок, на котором играл солнечный зайчик. – Я что же, достойна иметь мужа, который так и будет всю жизнь играть простаков и фатов с острохарактерной тупостью? У вас же все роли – одни дураки… ну, иногда придурки. Вам самому-то не тошно… зайцем-побегайцем из водевиля в водевиль прыгать в этом-то захолустье? Ведь это провинция, мой друг. И самое печальное – навсегда. Уж право, лучше балет. Зря вы ушли из него. Хотя, как говорит мой papа́: «Балет – это опера для глухонемых». Не правда ли, остроумно?
Варенька опять нехорошо рассмеялась, глядя на него в упор. И, точно желая добить свою жертву, с игривой желчью протянула:
– О-о, вот мы и опять молчим. А молчать при даме неприлично. Что же вы за кавалер, в самом деле? Или у вас очередное отчаянье умственного тупика?
– Варя… – Кречетов ошеломленно смотрел на свою любовь и не мог, не хотел верить услышанному.
Удушливым, жарким киселем наползло тягостное молчание. Полячка между тем продолжала стоять у окна, смотрела себе под ноги и с сосредоточенной независимостью вертела на пальце золотое колечко; а он, оставаясь пребывать в моральном столбняке, рассеянно обводил глазами такую знакомую и теперь такую чужую комнату, покуда взгляд не остановился на янтарном огарке исслезившейся свечи. И странно, даже боязно ему вдруг с необычайной четкостью представилось, что все это уже было с ним: и эта оплывшая свеча в кудрявой бронзе с зеленой патиной на подставке, и тягостная тишина, и слабый свет за окном, и он сам – быть может, отчасти какой-то иной, не в этой брючной паре, но несомненно он, с таким же состоянием души и близкими слезами, что саднили веки и крепко сжимали горло отчаяньем. И как раз вот только отлаялась на проехавший мимо экипаж собака, как и теперь, и было слышно беспокойное погремкиванье цепи… У Алексея создалось смутное ощущение, что он уже проживал эту ситуацию, именно эту, а не другую, и как-то действовал и, видимо, являлся не банальным зрителем, а значимым лицом, вокруг которого что-то происходило. Это странное ощущение было настолько очевидно и явно, что Кречетов даже не преминул себя ущипнуть, и оно как будто истаяло, но остался легкий ожог потревоженных зыбких воспоминаний о том, чего не было. Но на поверку все это было… и он содрогнулся, в какой-то момент отчетливо осознав, где и когда его сердце было раздавлено каблуком предательства… «Марьюшка… – Алексей передернул плечами и снова с молящим упорством посмотрел на упрямо молчавшую Барбару. – Господи, какие они разные и какие похожие! – выстрелило в голове. – Совсем как две половинки одного… червивого яблока».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































