Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
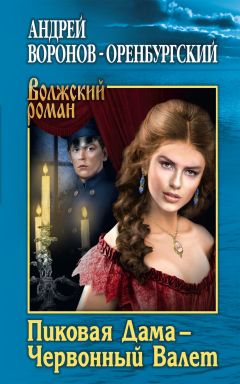
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 44 (всего у книги 48 страниц)
Глава 6
Ферт доел кусок копченой телятины, лениво запил его кружкой ячменного пива и, задрав голову, посмотрел на небо. Нежно-голубое, с золотым кружевом солнечных лучей, оно, казалось, улыбалось ему сквозь зеленые кроны деревьев. Алдон откинулся на широкую спинку лавки, свободно разбросал руки, закрыл глаза, подставляя кремнистое лицо теплому ветерку. Нет, не надышался он волей, не наелся ее дарами. И вспомнилось ему далекое, терпко пощипывающее душу: когда-то, таким же бархатным месяцем, когда воздух был пропитан спелыми запахами лета, он бегал по пояс в высокой траве. То была даже не трава, а почти сплошные полевые цветы – желтые, розовые, алые, синие – красота и благоухание жизни! Местами уже начался сенокос. Деревенские бабы и девки в цветных сарафанах и белых платках трясли и копнили сено…
Он вместе с другими подростками окраин разбегается и со всего-то маху, со всей дури отрочества кидается в копну. Смех, крики, охи! Душистое сено трещит и одуряюще пахнет. Влезешь потом на огромный воз и едешь в сенной сарай помогать скирдовать мужикам. В награду окрошка с кислым квасом и хрустящий ломоть ржаного хлеба – детское полуголодное счастье сироты. «Обнять бы тебя в то время, нескладного волчонка, приласкать, утешить, пригладить взъерошенный, еще не заматеревший волос на холке… да только кому? Это по нынешним временам ты “князь Серебряный” – меняешь разные экипажи и меблированные “фатеры” на раз, как обоссать два пальца… а тогда ты мечтал прокатиться на облучке лихача, как о чем-то недостижимо-волшебном… И в дырявом кармане твоем, босота, свистел ветер». По сему поводу среди пацанов гуляла скабрезная шутка: «Меня зачали в такой беднотище, что ежели б я родился девкой, мне нечем было бы играть…»
Ферт про себя усмехнулся, уткнул подбородок в костистый кулак и посмотрел на окружающий мир исподлобья взглядом матерого волка, которого не то хотят убить, не то он сам хочет убить, и хмуро заключил: «Нет, Фламинго, не нашлось такой теплой руки для тебя, кроме цепких пальцев карточного шулера дяди Костяя… “Очко” и “фортунка” были качелями твоего детства. Да и хер с ним… У семи нянек – шесть кнутов и один пряник». Как говорили на каторге: «Жизнь – дерьмо, но я счастлив. У легавых судьба тоже невеселая, зато жалованье смешное. Ладно, чего там, и козе понятно: хорошо там, где нас нет».
Бросив окурок под ноги, он сцепил руки в замок и с силой хрустнул суставами, точно отгонял наваждение из цветных картинок прошлого. «Бог не фраер – шельму метит… Не расслабляйся, рано. Фильтруй ситуацию».
Ферт посмотрел на часы: двадцать семь второго. Ровно в два у него забита свиданка, тут неподалеку, у торговых рядов. «Времени у меня воз, – прикинул он, – да вот то ли это время, чтобы с прохладцей птиц слушать?» Чувство опасности не подводило его никогда. И сейчас, сидя в городском сквере, в густой тени аллеи, он всякий раз будто бы невзначай оглядывался окрест, и знакомый холодок гулял между его лопаток. Как и прежде в Саратове, Алдон убеждал себя: все это чушь, расшалившиеся нервы, но, как и прежде, убедить не мог.
По прибытии в Астрахань он долго петлял: слежки за собой не приметил, но в эйфорию не впал. «За смерть такого золотоклыкого секача, как Злакоманов, на розыск будут брошены лучшие гвардейцы сыска. Эти работают в штатском, умно, гибко, без пошлых “хвостов”, применяя особую тактику и неведомые выверты».
Ферт вновь прощупал взглядом полупустынные аллеи: тишь да гладь, прямо до тошноты. Однако червь сомнения продолжал точить душу. Он опять взялся прикидывать и вычислять: если фараоны и взяли его след, то где и когда? Много ли он успел «спалить» адресов, проколоть воровских явок? И с камнем на сердце понял: много… Тут он внезапно для себя осознал: надо резать все концы. И резать одним махом.
Он и раньше стоял на этой сторожей мысли, но вот должок, который ему был обязан восточный делец, держатель ночлежного дома, верткий, как угорь, и хитрый, как царь Соломон, ловчила Хаим Якобсон, держал его на приколе. С тем, что долг был не так велик, ради чего стоило «светиться» в городе и рисковать своей шкурой, Ферт был согласен, но здесь в игру вступали другие козыри. Воровской устав чести обязывал его «снять пену с пива». «Иначе, – рассуждал он, – рано или поздно пытливая братва докопается до правды: расшифрует, что ты был у гнезда с золотыми яйцами, но сдрейфил… мимо сквозанул, как “конявый” оголец с пайкой марафета за пазухой у фараоновской будки, и назовут тебя “Вотей”, опустят планку веса на сходняках… Из пиковых королей слетишь ты в вальты дырявые… Следом сгинет доверие, и уж потом прости-прощай – не пошлют за тобой никогда гонца шулера́ высокого полета… Не метать тебе банк на “мельницах” и не разводить стрюков шатанных, потроша их тугие лопатники. А жить тебе в безымянках, брат, и лишь в колючих снах вспоминать козырный треск целковых колод и греющий душу базар:
– Чего орешь, оголтелый? Тише, каторга! Ставлю на шестерку куш – дана! На пе. Имею полкуша на пе, очки вперед… Взял. Отгибаюсь – бита. Тем же кушем иду – бита… Ставлю насмарку – бита! Подряд, подряд!
– Проиграли, значит? Обосрались, ваша честь? Ха-ха!
– Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали – и я Крез! Талию изучил – и вдруг бита!.. Одолжите еще тыщак… ну хоть пятихатку… до первой встречи… Вот это по-барски… Данке шон»[131]131
См.: Гиляровский Вл. Москва и москвичи.
[Закрыть].
Ферт внезапно напрягся: впереди на аллее замаячила подозрительная фигура в черном цилиндре, с тростью и в лаковых туфлях. «Ох, мама, боюсь, не доживу я до своих похорон…» Он расстегнул сюртук, взведя легким движением пальца курок револьвера, засунутого за пояс. Но тут же мысленно осадил себя: «Не дергайся… Нервных и суетливых вяжут быстрее. Помнишь Махоню? Тоже все бычился силой – ударом кулака, мол, дубовую дверь с кованых петель срываю… Да я их в труху! Всех порву, как грелку… ежели брать станут!.. А легаши взяли его, громыхалу, когда он на очке в орлиной позе сидел, и повязали, как бобика, – тявкнуть не успел. Так что скромнее, Фламинго, без помпы, ты не ухарь-пижон… не наивен, главное, не засыпаться. Возьмешь в клюв, что тебе причитается, встанешь на крыло и в престольную, на Неву. Там счастью помех не будет…»
Незнакомец в цилиндре, мирно, как веером, обмахиваясь газетой, продефилировал мимо – ноль внимания, ни слова, ни полслова, скрылся за поворотом.
Ферт снял занемевшие пальцы с рукояти револьвера, выждал еще минуту, напряженно вглядываясь по сторонам. Тихо. Только стайка детей играла у дальнего пруда в лапту. Их звонкие голоса беззаботно звенели над буйно разросшимися кустами сирени. Потом он углядел пожилого водовоза, тянувшего под уздцы мохноногую, низкорослую «монголку».
«Хватит испытывать судьбу». Ферт быстро поднялся, но отказался от мысли нырнуть в кусты. Напротив, нарочито неторопливым шагом он прошел под центральной аркой, на виду сторожа сквера, дворника и городового, который увлеченно грыз семечки. Оказавшись на несколько секунд беззащитно открытым, он ждал, что вот-вот раздастся окрик или прогремит выстрел.
«Нет, не стоит со мной разыгрывать эту партию. Если даже сейчас заложит уши полицейский свисток, я не поведусь на эту туфту», – стучало в висках. Алдон утер пот с лица, солнечный каскад света внезапно оборвался, он снова был в густой защитной тени листвы. Бледный, но внешне спокойный, погоняемый беглым пульсом, Ферт вышел сначала к соборной площади, затем круто свернул на набережную, где находилась биржа наемных экипажей допотопного вида, в которых провожали обычно покойников. Там же, правда, стояло с десяток и более сносных карет и пролеток; обедневшие баре и дельцы, гости города, не имевшие собственных выездов, охотно нанимали их для визитов и прогулочных вояжей.
Рядом с биржей, как водится, лепились пчелиными сотами разного рода питейники, забегаловки и бистро. «Из них время от времени выбегали извозчики с мятыми ведрами в руках – к фонтану, платили копейку сторожу, черпали замызганными ведрами воду и поили своих лошадей»[132]132
Гиляровский Вл. Москва и москвичи.
[Закрыть]. Набрасывались они и на случайных прохожих с настырным предложением услуг, при этом расхваливая каждый свою кормилицу.
Лица, лица, бороды и усы, тянущиеся руки облепили Ферта.
– Ваше здоровье, не желаете?
– Куды прикажете, командер? С ветерком прокачу!
– К торговым рядам, в косоротовский трактир. Да не лапай меня, не баба.
– Не вопрос, вась-сиясь[133]133
Ваше сиятельство.
[Закрыть], – радостно зареготал жеребцом удачно заарканивший седока извозчик. – Один мумент. Усаживайте поудобнее свою недвижимость, ваше здоровьице, и айда! Гей, сизорылые! Мно-о-о!!
Шум, гам народной толчеи слились в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжавших по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков[134]134
Телега с плоским настилом.
[Закрыть] и водовозных бочек.
– Эва, денек-то нынче какой закатился, одного загляденья! – желая более расположить к себе нанимателя, затянул извозчик. – А вы-сь даже не улыбнетесь, господин, быт-то с горем каким али с басней худой за пазухой ко́тите.
Не дождавшись ответной сердечности, возница рук не опустил и продолжил толочь словесный горох:
– Тутось нонче наш ездовой брат спорил, ваше здоровьице, что, мол, такое конница, а что кавалерия. Так вот как рассудили: «Конница, значить, это когда на конях, а кавалерия, стало быть, на кавалерах». Ха-ха… Ох, народишко… вечно из любого пустяка наговорит цельную бочку арестанцев, так ли, ваше здоровьице?
– Заткнись! Гони быстрее. – Ферт сыграл желваками. В голосе его слышались стальные нотки, от которых у извозчика пробежала по хребту нервная дрожь.
«Тише едешь – шире морда! – огрызнулся в душе возница, но голоса более не подал. – Ну его… от греха…»
Пока поднимались в горку, Алдон снова щелкнул крышкой брегета: «Успеваю. Еще двенадцать минут».
* * *
Перед глазами всплыла речным буем вечно настороженная рожа Якобсона, вкрадчивые слова и беспокойно-вежливые еврейские манеры. У этого фрукта была хорошая память на плохое и плохая на хорошее. Жил он тихо, уютно, почти незаметно, как моль в шубе, но при этом от жизни брал все, что мог, и проценты тоже. Исповедовал только одну истину: «И грязные дела дают чистую прибыль». «Вот уж действительно, как в куплетах, – подумал Ферт.
Жил на свете Хаим, никем не замечаем…
А жена рожала круглый год…
Что ж, пена всегда выше пива», – искоса поглядывая на проплывавшие мимо строения, подвел черту каторжник.
Якобсон должен был кругленькую сумму Ферту; взятые в карты «брюлики», кольца и прочие цацки были некогда переданы в липкие руки Хаима, но арест и каторга помешали шулеру выручить за них куш. Теперь же, через восемь лет, объявившись в Астрахани, Алдон как гром не из тучи свалился на голову Якобсона.
* * *
– Боже ж ты мой, Фертушка, я же тебе вторично в третий раз говорю, я не держу при себе в доме таких денег! – выпучив карие вишни глаз, с порогу запричитал Хаим. – О, милый, чтоб я так жил… Ты посмотри на это несчастье! Это же просто свинство, щё они с тобой сделали на галерах, Фертушка! Ай-яй-яй! Душат нас, звери, жить не дают порядочным людям. Мамой клянусь, я ведь прежде не замечал, что у тебя, родной, так богато седых волос…
– Когда-нибудь ты заметишь, что их у всех сполна, кто пытается выжить в этом сучьем мире. – Ферт явно начинал терять терпение.
– Да, да, да… разве ж я так не думаю… Нет, нет, ты только ради своего драгоценного здоровья не подумай, дорогой, о Хаиме плохо. Мне действительно стыдно, что я не знал о твоем возвращении, спаситель ты наш, герой, гладиатор! Идущие на смерть ради благополучия семьи приветствуют тебя!
– Короче, сказочник, «бобы» когда будут? – Ферт тяжело посмотрел на торговца краденым из-под черной фетровой шляпы, надвинутой чуть ли не на самую переносицу горбатого хищного носа.
Якобсон нервно хихикнул, потер подбородок. Ему стукнул полтинник полгода назад. Десять лет своей жизни с перерывами он провел на поселениях за незаконную контрабанду экзотических специй и сомнительных лекарств.
Он был грузен и страдал грудной жабой. Рыжие пейсы его начинали скоротечно редеть, а на глянцевом, отъетом лице беспокойная жизнь оставила глубокие складки. В темных навыкате глазах бойко, даже нахально плясали лукавые бесики, которые у людей незадачливых, однако, вызывали к нему симпатию.
Еще раз ерзнув глазами по молчаливой фигуре опасного гастролера, Якобсон, желая выиграть время для более ловкого ответа, решил прикинуться дурачком:
– Так, так, так, Фертушка… – озабоченно заторил он. – Я тебя слушаю…
– Это я тебя слушаю, – сразу наступил на него Алдон.
– Не понял?
– Сейчас поймешь.
Хаим и глазом не успел моргнуть, как опасная цирюльная бритва плотно поджала его двойной подбородок.
– Ты что же, гнида картавая, соскочить хочешь или красиво рвануть с моими деньжатами?
– Что ты! Что ты?! – прохрипел должник. – Щё ты такое взял в голову? Хлебом клянусь, отдам.
– Когда?
– Через неделю, Фертушка, как есть все до копейки. Шутка ли, такие целковики… из оборота выдернуть?
– Послезавтра… все положишь на стол.
– Ты с ума сошел, мамой клянусь! Разоришь! Я бы на твоем месте, Фертушка…
– На моем месте… ты бы давно говном изошел. Заткнись! За все в этой жизни надо платить, Хаим… вернее, расплачиваться. Ты и так восемь лет крутил мой капитал. Мне стоило бы жить на проценты или обложить тебя данью. Но я не спекуль… и не торгаш, на твое счастье, но мое кровное – будь любезен… Короче, если в «косоротовке» через два дня не будет…
– Будет… – едва справляясь с удушьем страха, просипел Якобсон. – Убери перо… порежешь…
– Стоило бы… – Ферт щелкнул складной бритвой и сунул ее в карман. – Гнилой ты, дядя. Дружков на долю обжимаешь. Только встретились, а ты уже нехорошо кричишь в голос.
На прощанье визитер хлопнул по потной щеке Якобсона и глухо сказал:
– Я слово держу… Если это подстава… Бог тебе судья… Завалю. Ты меня знаешь.
– Зря ты так, Фертушка, – нелепо кривя рот и тараща глаза, откашлялся Хаим. – Я думал, кореша всегда помнят своих корешей…
– Вот именно – помнят. – Алдон, более не обронив ни слова, шагнул за порог и хлопнул дверью.
Его уход был так тяжел, что Якобсона снова охватил смертельный ужас: белые стены его дома точно почернели, руки продолжала моросить дрожь, и все, решительно все вокруг закачалось.
– О Бог Авраама и Исаака… надо же щё-то делать!.. С этого зверя станется, и глазом не моргнет… – Хаим с ненавистью посмотрел на дверь. – Ты хочешь знать, по ком звонит колокол, Хаим? Вернее, после кого сливают воду в клозете? Так это после тебя, дружочек. Нет, спасибо… я не тот, кто не зависит от доброты посторонних людей, пусть даже это будет полиция. Нашли поца! Какого черта? Почему бы и нет?
* * *
Пролетка свернула в проулок, подпрыгнула на колдобине, выехала к торговым рядам. Рука Ферта исподволь легла на револьвер, взгляд стал цепким, точь-в-точь как у ловчей птицы. «Народу много – хорошо… Если начнется шухер и придется рвать когти – толчея только на руку».
– Здесь придержи. – Алдон хлопнул извозчика по плечу, сунул в заскорузлые пальцы мелочь и легко соскочил на брусчатку. Излишне резко крутнул головой, переходя улицу. «Псих, – отругал он себя, – не дергайся, окараешь. Легавым и в голову не придет тебя здесь вязать. Главное, дойди до трактира, там есть свои потайные норы. Не дрейфь: клопов бояться – спать не ходить. Как говорил покойный дядя Костяй: “Плохие дороги требуют хороших проходимцев”».
За добрый квартал от косоротовского трактира, где была забита стрелка, Ферт внезапно нырнул в подворотню – береженого бог бережет. Сорвал с головы черную широкополую шляпу и зышвырнул ее за пышно цветущий розовым шиповник. Затем с бесшумностью и проворством камышового кота улизнул с пустыря, но не по дороге, а через живую изгородь, по мягкой шуршащей траве, прочь от возможной слежки. Пробираясь между кустарниками и деревьями, он на ходу нацепил на нос пенсне в золоченой оправе с черным стеклом. Он отдавал себе отчет: если за ним и вправду «хвост», то полиция в считанные минуты перекроет все выходы. Предполагал и то, что крученый-верченый Якобсон, если задумал не отдавать его долю, мог перешагнуть через себя и капнуть сыскным: так, мол, и так… «Стоило все же кончить его, жидовскую морду, – мелькнула темная мысль. – Но тогда и денег тебе не видать как своих ушей».
Сделав крюк, Ферт вышел к трактиру. Навстречу двигалась смиренная группа семинаристов – длинные черные рясы, медные кресты на цепях, в бледных руках кирпичики молитвословов, и ему стало отчасти неуютно в своем щегольском платье и лакированных штиблетах. Он живо прошел мимо, заметив краем глаза, что двое из них оглянулись на него. Когда семинаристы скрылись из виду за пожарной каланчой, Алдон стряхнул с брючины прилипший репей, одернул сюртук, огладил гребнем разметавшиеся длинные волосы и, холодно усмехнувшись своей слабости, взлетел по ступеням косоротовского кабака.
Часть 10. Первый удар
Глава 1
Все началось с того страшного сна, от которого Алешка не мог отделаться много дней спустя.
Снилась ему чужедальняя незнакомая сторона… Не то утро, не то вечер целовали землю. Туман лениво вставал на дыбы, открывая вид на узкую полосу залива. Выступили из седого молока очертания скал и замерли, с тревожными минутами становясь рельефнее и внушительнее. Море то было… иль океан, Алексей не помнил, в памяти осталась необозримая бесконечность и цвет, странный, похожий на цвет черной ртути, которой, впрочем, он никогда не видел в своей жизни, как и бесграничного зерцала воды. Нет, не таким он представлял море в прежних своих мечтаниях. То было спокойным, прозрачным, синим, а главное – понятным, таким, как о нем пишут в книгах… А тут он – в одежде и башмаках – вошел не в искрящуюся золотом лазурь воды, а в черную холодную смоль… Тем не менее он погладил море… как и хотел, как старого верного пса у дома, к которому вернулся из скитаний, боли и тьмы. «Господи, море… Сколько же веков я не видел тебя?..»
А откуда-то сверху, из пучины смуглых небес, слышались речи, незнакомый говор, и память читала стихи, не то Митины, не то его, не то еще чьи:
Уж боле нет той жажды до утех…
Победных радостей, любовных наслаждений.
Мечтой – отвергнут… Новизной стремлений
Уж боле не осветит жизни вех.
О море! Ныне только у тебя
Иду просить не силы, но защиты
От мрачных тайн, что в разуме сокрыты,
В тебе желаю их небытия.
Среди свободных мне не быть рабом!
Согбенно но́шу жизни не влачить,
Несчастьями Фортуну не гневить,
Оставив мир, как свой оставил дом.
О море! – бездна… Все мое – тебе:
Желанья зрелости, ночные грезы детства,
Ложь счастья юности… У призраков нет места
В миру земном. Лишь у тебя оне
Находят свой приют, свой кров надежный,
Покой безумный, бесконечно ложный,
Но правый мир за тонкою чертой,
Нелепый, справедливый и немой.
А там, в светлеющем далеке, где высокие скалы драконьим гребнем вдавались в залив, Алексей углядел сирый, беспокойно мерцавший свет. Сначала он принял его за звезду, но свет звезды, как водится, должен быть белым и неподвижным… А этот – раскачивался на ветру, установленный на отвесной скале.
Он напряженно, с нарастающим чувством тревоги всматривался в это свечение, а оно вновь и вновь металось из стороны в сторону, как желтый кошачий глаз в темноте…
А потом, когда уже не было сил лицезреть эту колдовскую магию на ветру, Алексей перевел взгляд на воду и подавился жутью… В черной воде мимо него безмолвно проплывали белые лица без тел. Но в их немоте и покое ему слышался не то мучительный стон, не то плач, заглушаемый шумом прибоя. Трезвея от сознания беды, он рванулся на берег, но что-то принудило его еще раз взглянуть на это наважденье. Ему хотелось кричать, но крика не было, ему хотелось бежать, но паралич столбняка держал Алешку на месте… Он узнал эти три лица, что, как белые хлопья снега, тихо кружили теперь у его посиневших колен. Первое принадлежало его крестному – Василию Саввичу Злакоманову, второе – маменьке, а третье его Басе…
Кречетов насилу вырвался из кошмарного плена, смахнул со лба прилипшие волоса и встретился взглядом с Гусарем.
– Що, опять кредиторы снились? Я тоже не люблю брать в долг. Занимаешь чужие, отдаешь свои и навсегда. Ну будэ… расхмурься, це ж тэбэ старит. А то возьми, як гарный казак, палицу-выручалицу да отгуляй по бокам своих ростовщиков. Пусть не у тебя, а у них голова болит, что ты долг отдавать не будешь. А може, тоби опять твоя панночка снилась? Если да, то подробности своей страсти оставь при себе. Только прими совет: бабы ждут признания, то бишь ошибки требуют. Хошь халвы? Я вчера из жадности два фунта в лопаткинском взял.
– Может, ты из жадности оба и съешь?
Алексей хмуро поднялся и, продолжая находиться под чарами сна, пошел умываться. В полдень, когда он собрался с визитом примирения к Вареньке, училище облетела черная весть об убийстве мецената Злакоманова. Это был сильный удар, разрушивший все планы Кречетова. Горечь утраты клевала сердце, а слезы отчаяния саднили глаза, которые помнили живописную натуру купца, яркого во всем – в своей биографии, внешности, манере говорить и делать добро, в своей разносторонней и бурной талантливости.
А потом были похороны Василия Саввича, которые зато́рили движение на главной улице города, и чинная речь губернатора. Алеша помнил ее едва ли не наизусть. После глухого топота толпы, причитаний родни и церковного колокола, после всего этого путевого лязга глубокой и особенно гнетущей показалась Алексею тишина погоста. Слышен был только перепев ветра в зеленых кронах берез, шелест бабьих платков и хриплое карканье ворона – вещей птицы. Затем в тишине раздался губернаторский голос:
«…От нас ушел большой души человек, реформатор и деятель, природная суть коего никак не укладывалась в правила типической жизни, в ее устоявшийся быт. Кто в нашей губернии, да что там… по всей Волге-матушке не знал сего неутомимого труженика? То-то и оно, други, то-то и оно… Всю жизнь он работал, как один день, верой и правдой служил процветанию края и в любое дело вносил истинно русскую смекалку, живость ума, и я не ошибусь, если скажу, – даже некую удаль! Не было, должно быть, ни одного явления, кое не казалось бы ему, дражайшему, смертельно любопытным и заслуживающим пристального внимания.
Безвременно ушедший от нас Василий Саввич, первогильдийный купец, человек слова и дела, никогда не был смиренным наблюдателем ни в личных делах, ни в общественных. Он без оглядки вмешивался в жизнь и любил делать все своими руками. Сие последнее свойство, доложу я вам, присуще всем талантливым людям и жизнелюбцам. Насколько я знавал покойного, а мы с ним были закадычные друзья, он никогда не был склонен к резиньяции[135]135
Покорность судьбе, безропотное подчинение (фр.).
[Закрыть] или упадническим раздумьям. Все это было чуждо его кипучей и праведно пламенной православной душе…»
Губернатор продолжал что-то еще с пафосом говорить об убиенном, но Алексей уже не слышал, а только видел Федора Лукича. Его высокопревосходительство, выделяясь статной осанкой, стоял, высоко подняв обнаженную, посеребренную сединой голову. Кречетов видел отчаянье в его взгляде, дрожащие губы под густыми усами, и скорбно потупил глаза.
Глядя на спокойное лицо покойного, на его большое, даже в гробу пышущее мощью и силой тело, Алексей сквозь слезы подумал, что такому богатырю, как Злакоманов, следовало бы жить во времена Запорожской Сечи, дикой вольницы, отчаянно смелых набегов и бесшабашной отваги, о которой так любит рассказывать Гусарь. «И то верно, – подумал Алексей, – дядя Василий по строю своей души и по внешности был образчиком того человеческого склада, коий мы называем “широкой натурой”. Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости и доброте ко мне, но и к театру, к церкви, к другим людям. Впрочем, он и от жизни тоже требовал многого. Ежли просторы земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, ежли работа, то чтобы гудели руки… ну а если бить – так уж сплеча». Он вспомнил, как Василий Саввич, багровея сердцем за него – своего крестника, в два счета завязал узлом кочергу на шее толстомордого Туманова и пригрозил тому скорою расправой. Вспомнил и поразился: «Это ж какую надо лютость иметь, чтобы такого силача, как Василий Саввич… и удавить». Впрочем, волосяная петля, о которой точил лясы народ в Саратове, – вещь особая, требующая не столько силы, сколько сноровки, хладнокровия и быстроты.
…Потом табунившийся у могилы народ пропел «Вечную память» и с непокрытыми головами потянулся в город. Ушли и они с Гусарем.
Хмуро и безлико, в обыденной бытовой суете, в утренней и вечерней молитвах прошла неделя, может быть, две, прежде чем Алексей почувствовал, что заводь его души наконец обрела покой. Хотя настроения продолжали быть разными: то облачком, то тучкой набегали они на сердце. «Жизнь человеческая только на первый взгляд кажется прочной штукой, – думалось ему в те дни, – а на поверку куда как хлипкая вещь… Пожалуй, сродни муравейнику при большой дороге времени, где что ни день свои страхи и болести, радость и горе, да мало ли чего еще?..»
Вечерами, когда заботы сменялись отдыхом, Кречетов, чтобы отвлечься, много читал, благо в библиотеке «потешки» имелся солидный выбор отечественной и иностранной литературы. Сносное знание обязательных трех языков[136]136
Имеются в виду французский, немецкий и английский языки.
[Закрыть] позволяло приобщиться не только к русской, но и к западноевропейской поэзии. Хрустальные ноты лирики как никогда были созвучны строю его израненной души. Изящная словесность о любви к женщине, друзьям, природе, Богу… все эти зерна вечного попадали на благодатную почву… Правда, с наступлением нового суетного дня посещало нередко и сомнение: «Возможно, это всего лишь пух тополиный? Никому не нужный…» Однако, сам вдохновленный, получавший крепкое душевное здоровье от святогоров русской поэзии, Алексей полагал, что доброе, честное слово, сказанное обычным человеком, «далеко-о в душу-сердце летит…». Он стал чаще хаживать в храм, больше ставил свечей и благословлял Господа, потому как верил в Него без лишней горластой помпы, но торжественно и бесхитростно: и как русский, урожденный в почтенном православии, и просто как человек с незлобивой душой, который в соборности церкви черпает для себя и силу, и любовь, и защиту, и духовный простор, и радостную печаль.
Но, видно, такой крест довлел над семейством Кречетовых, с давних пор несшим тяжелое бремя невзгод, нужды и сердечной горечи, которое с новой силой обрушилось на их головы.
Это случилось в первое воскресенье после Петра и Павла. Был полдень, Алексей уже успел побывать на утренней, как в дверь дортуара без стука ворвался Дмитрий. Бледный, без лица, с растерянными глазами, он испугал младшего брата. Сердце у Алешки оборвалось.
– Что?! – только и смог выдохнуть он.
– Собирайся, мать при смерти. Велели за тобой бежать.
У Алексея затряслись руки, перед глазами замельтешили черные, алые пятна. Слова не проронив, он бросился шнуровать башмаки.
«Святый Боже, Святый Крепкий, помилуй нас! Неужели треклятый сон сбывается? Пресвятая Троица, как в воду глядел… – пульсировало в висках. – Только бы поспеть, Господь милостив, может, обойдется?..»
Спешно вышли из училища и бегом до извозчика, что по Митиной просьбе поджидал у ворот ограды.
Действительно, последний месяц маменька слабела на глазах; с каждым днем жизнь уходила из нее. Митя прежде уверенно говорил: «Если больной дотягивает до весны, то летом уж точно не жди кончины». Но выходило наоборот. Людмила Алексеевна кое-как протянула время посадки семян и прополки сада и еще держалась Божьей милостью до «Петропавловок». Но вот прошли и эти сроки, и когда в полях отчаянно хмельно пахнуло медуницей и пчелы перестали давать покой своим слюдяным крылышкам, маменька слегла окончательно. Теперь уж она не вставала, а по ночам и туманной ранью начинала метаться в душной постели. Взгляд ее наливался беспамятством, она называла приходивших соседей именем мужа, не узнавала детей и только жадно молилась Пресвятой Богородице да путано вспоминала о том, что давно кануло в Лету, о людях и родственниках, которых сыновья, как ни силились, не могли припомнить. Многое бормоталось ее бледными устами и из мудрости святых Отцов.
«…Отчего мы осуждаем своих близких и кровных? – чаще другого вспоминала она речи старца Серафима из Сарова, глядя на серьезные лица своих детей. – Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать недостатки иных. Осуждай дурное дело, а самого делающего не тронь. Самих себя должно считать самыми грешными из всех, и всякое худое дело прощать ближнему. Притом дверь покаяния всем отверста, и неизвестно, кто прежде войдет в нее – ты ли, осуждающий, или осуждаемый тобой».
И сейчас, раскачиваясь и подпрыгивая на выбоинах в тряской пролетке, видя рядом с собою суровый и хмурый профиль старшего брата, Алешка вспомнил необыкновенно остро запавшие в душу слова маменьки: «…умейте прощать родным, будьте терпимы и великодушны друг к другу».
– Митя, – хрипло, в самое ухо, обратился он к брату. Тот сухо посмотрел ему в глаза, точно отрезал: «Знаешь, мне надоели твои зеленые сопли о “дружбе” и “мире”. Ты ведь у нас взрослый, а я, братец, не нянька. Поступай как знаешь».
Алешка покраснел, но глаз не отвел и, не требуя от старшего покаяния и братских объятий, тихо сказал:
– Я был зол на тебя, Митя… Я был неправ, прости…
Брат промолчал, глядя себе под ноги, потом жестко чиркнул спичкой и раскурил папиросу – примирения не получилось.
* * *
Еще на подъезде Алексей увидел с десяток-другой соседей, толкавшихся у их дома. С утра прошел дождь, и люди месили свежую грязь, бубнили вполголоса и внимательно присматривались к подъезжавшим братьям, словно не могли в них сразу признать знакомые лица и голоса.
У ворот их встретил с тяжелого похмелья отец, по его серому мятому лицу было видно: он вышел с дурной вестью.
– Как она? – Алексей спрыгнул с подножки, обнял родителя.
– Хуже ей, мученице… Совсем плохая… – По непробритым щекам катились слезы. – Час назад поднялась с постели… сделала шаг и упала. Благо соседка при ней была, водицы испить выходила в сени… Подняли мы родимую, уложили. Доктор сейчас у нее, сказывал, глаз не открывает.
Какие-то секунды братья стояли молча, понурив головы, затем через толпу соседей вместе с отцом поспешили в дом, на второй этаж, в спальню умирающей маменьки.
В горнице они столкнулись с доктором, который, закончив осмотр больной, возился с замками своего пузатого саквояжа.
– Это удар, – тяжело вздыхая, заключил он. – Состояние архикритическое. Не уверен… выдюжит ли она, голубушка, до утра… Пульс едва уловим. Однако сейчас она в памяти. Простите, все что мог… Увы, нынешняя медицина бессильна что-либо изменить. Крепитесь, сейчас и ей, и вам необходимы стойкость и мужество.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































