Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
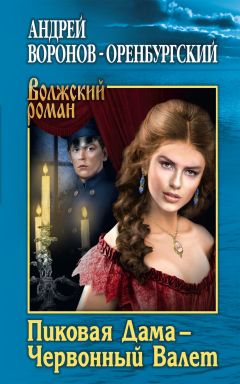
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 48 страниц)
Глава 7
Пароходные гонки на Волге среди капитанов, в прошлом, как правило, опытных лоцманов, были отчасти сродни скачкам. Были здесь и свои любимцы публики, и нешуточные страсти болельщиков, и риск. Риск подчас был значителен: пароход мог непредвиденно напороться на мель и затонуть, мог взорваться от перегрузки паровой котел, что грозило великим несчастьем, однако неистребимое стремление человека к славе, к наживе, а русского человека еще к бахвальству и к показухе, толкало горячие головы на лихой шаг по принципу: «Если ум не дается, авось заумь поможет».
…Появления Ферта на верхней палубе никто не заметил. Народ сгрудился у поручней левого борта и с напряженным вниманием следил за пароходом другой компании.
Алдонин прислушался к людскому граю.
– Эт заварзинское корыто с верхнего плесу. Как есть почтовик. Вишь, на евонной трубе, Петрович, желтушной краской скрещенные медные трубы намулеваны: «Берегись, мол, с путёв, – почта бежить!»
– Ах, трандить его в печенку! Почтарь… А туда же, наперед людёв на ярманку поспеть алчет, зверюга!
– Однако груженый преть. Ишь как просел по самые клубни, ровнехонько по линейку.
– Груженый корабль еле возвышается над водой, пустой – величественно высится над нею, – сказал кто-то в пенсне и, поправляя галстук, скептически заметил: – Вряд ли нашему «Самсону» есть смысл спорить с почтовиком, он хоть и нагруженный, при одной трубе, зато скоростной ход имеет.
– Ну, ну, сказывай, милостивец. Наш Кошелев – капитан донный, чайной ложечкой в заду колупаться не будет. Ему хоть Гришка, хоть Тришка! Я тутось кажду новингацию на евонном «Самсоне» бегаю. Ежели ему попадеть вожжа под хвост… Пару поддаст будь-будь, уж не извольте лимониться, господин хороший.
Между тем почтовый пароход, бело-розовый, с синим поясом на черной трубе и кудрявой надписью над колесами – «Резвый», – выбрался на стрежень и, издав три задиристых свистка, точно вызывая пыхтевшего собрата помериться силами, бойко зачакал лопастями по закипевшей воде.
«Самсон» ревниво троекратно ответил на голос «Резвого» трубным слоновьим басом. Облачка белого пара вновь заклубились в чистой лазури арабскою вязью. На палубах загудели голоса, оживленные пассажиры потирали руки в предвкушении нежданного спектакля. Про янтарную воблу и пиво забыли – народ, как на петушиных боях, суетливо делал ставки.
– Ну, брат, будет тебе град со снегом! Держись, речные бають, Кошелев закусил удила. Не любит он «почтарей»! Велел боцману бутылку черного рому ему снести. Значит, бешеной гонки не миновать!
С «Резвого» опять полетели по Волге два продолжительных и, как показалось Ферту, весело-злых свистка. Там, похоже, радовались принятому вызову на «Самсоне» и отдавали необходимые команды.
На мостике выпукло обозначилась крупная фигура капитана Кошелева. «В видавшей виды морской, с белым верхом, фуражке, при золотых галунах, крепче похожий на разбойничьего атамана»[106]106
Гиляровский Вл. Друзья и встречи.
[Закрыть], он грозно рявкнул в трубу из листовой меди:
– Пару, Иван! До полного! Жги!
В машинном отделении слаженно замытыжились, бросая в разверстую огненную пасть топки колотые чурки вперемешку с дюжими лопатами древесного угля.
– Есчо! Есчо, черти! Поддай, не ленись! Пару давай, Иван! Полный ход!
Боцман, со следами гари на пышных усах, уважительно поднес Кошелеву полнехонький до краев, солидного размера стаканец.
Тот залпом ахнул его, крякнул в просмоленный кулак и вновь зычно рявкнул в надраенный рупор:
– Сало в топку! Не ленись, православные! Шуруй!! За победу всем по чарке водки!
Двухъярусный «Самсон», ровно живой, содрогался железным телом – матросы, обнаженные по пояс, блестевшие от пота и маслянистой гари, выворачивали лопатки, ни на минуту не прекращая работы. Лопасти колес, которые прежде способно было пересчитать, теперь слились в единый бегущий круг и бешено барабанили по воде.
Народ гикал и кричал, потеряв голову, – «Самсон» медленно, но упорно нагонял щеголеватого почтовика. Более зоркие молодые глаза могли уже без труда прочесть над его колесами надпись золотыми литерами: «Резвый»; чуть позже стал виден и замысловатый трафарет на кормовом гюйсе и загорелые лица матросов. Они были сосредоточены и серьезны, но глаза весело сверкали из-под выгоревших на солнце бровей. Все были без остатку поглощены состязанием и желанием выиграть гонку.
Пассажиры на «Самсоне» кусали губы – почтовик явно не хотел уступать. Он тоже яро тропотил плицами, все крепче, набирая ход.
Кошелев снова хватил командирский стаканчик и впился глазами в близкую корму ненавистного почтаря.
– Ах, олухи царя небесного! А ведь чисто бегут. Сволочи! Я думал, эти выскочки на корешке родились, а они на колесе… Сукины дети… Иван, чоб тебя поперек свело! Шуруй, шуруй, родной! Уголь в топку! Наддай! Наддай!
Капитан, налившись жаром, с выкатившимися из орбит глазами, то и дело припадал к трубе и командовал в машинную.
Из кочегарки выскочил красный как рак Уткин Иван. Пот градом катился по его измученному лицу. Влетел на мостик и, накладывая на себя крест, прохрипел:
– Отец родной, не погуби! Котел на пределе, ярче рубина! Неровен час, на воздух взлетим! О людях подумай!
Кошелев лишь сунул ему под нос стакашек рому и, видя заминку, сам залил в глотку главному кочегару огненную отраву.
– Без надежи, ак без одежи… Матросики-барбосики, не выдава-ай! Не впервой, Ванюша! Эх, кабы кто «покапитанил» за меня да утер нос почтарю.
– Да вы же пьяные, ангелонравный Спиридон Степанович, дозвольте порулить… я смогу проводить «Самсон».
– Враки, Иван, – уверенно поворачивая штурвал, усмехнулся Кошелев. – Ты сможешь проводить нашего кормильца только в ад. Цыть, Уткин! Я сраму не оберусь, ежли «Самсон» не сдюжит. Наддайте, братцы! Сочтусь опосля.
Уткин хмуро выпил вторую пайку и загремел каблуками по железным ступеням в машинное отделение.
«Что ж, когда река выходит из себя – это потоп», – глядя на одержимого капитана, усмехнулся Алдонин и принялся резать взглядом толпу, отыскивая тяжелый загривок Злакоманова.
Там, где в окружении своей охраны стоял Василий Саввич, бились об заклад почтенные отцы семейств. Крупные суммы передавались в руки доверенного лица – казначея, который по общему согласию купцов должен был сделать расчет на ближайшей пристани.
– Господа, Антонов поставил на «Самсона» полторы тысячи серебром! Это рекорд? Или кто-то рискнет переплюнуть нашего костромского Калиостро?
– Однако изволите играть, Павел Семеныч? – Торговец из Царицына щипнул соседа вопросом, когда тот выложил казначею кругленькую сумму.
– Полноте, сударь. Какая тут игра? Вот у нас на Орловщине лошади…
– Ах, вон оно как… – усмехнулся первый. – Вы всегда ставите на лошадей, а я на людей. Так вернее, знаете ли…
Ферт не спускал глаз с широкой, как амбарная дверь, спины Злакоманова. Остальные объекты его занимали мало. «Соловей берет качеством – воробьи количеством». Деньги и кураж остального купечества были чешуей в сравнении с капиталами саратовского миллионщика.
Алдонин холодным наметанным глазом оглядел охрану – действительно, это были петровские гренадеры, косая сажень в плечах и, без сомнения, при оружии. Облокотившись на латунные поручни, они без особого интереса смотрели на разыгрываемое действо, не забывая при этом и о своем подопечном. Люди эти не скрывали, для чего они здесь – любое передвижение Злакоманова было под их неусыпным контролем. Если кто-то из незнакомых пытался вдруг подойти к Василию Саввичу, охрана, как по команде, заслоняла его и быстро выясняла желание чужака.
«Да… поставила передо мною задачу судьба… как Бог перед Адамом поставил ребром вопрос о жене». Ферт провел узкой расческой по долгим прядям волос. Лихорадочная мысль о том, что ему суждено будет столкнуться лицом к лицу с намеченной жертвой и его костоломами, студеным холодком сквозила по телу. Однако страха как такового он не испытывал. «Кому суждено быть повешенным – не утонет». Хлебнув ужасов каторги, он вообще стал презирать смерть, тем самым сохраняя в себе неотторжимую воровскую свободу духа. Продолжая цепко наблюдать за купцом, он сосредоточенно, со спокойным вниманием, казалось, разыгрывал в своей голове сложнейшую карточную комбинацию. Будучи блестящим игроком, он с первого дня Марьюшкиной «наводки», начал крутить эту партию и продолжал разбирать ее до сего дня. И даже непредвиденный коленкор событий – внезапное решение Злакоманова отправиться по воде в Нижний – не передернул в его невидимой игре ни одной карты.
* * *
Ему припомнилось, как на каторге, оказавшись в пиковой ситуации, он собственноручно убил человека. Убил не раздумывая, спокойно и быстро, как сбросил с плеч арестантский халат. А минутой позже, когда вытер заточку о колено трупа и узрел это страшное, но теперь молчаливое лицо, он не почувствовал раскаянья и душевной боли, не испытал и угрызений совести. Такова была цена его прописки – посвящения в каторжники.
«От чего тюрьма творит над новоявленными жестокие истязания? – задавал себе вопрос Ферт. – Отчасти от беспросветной скуки, отчасти по злобе на все и из-за страстного желания хоть на ком-нибудь отыграть накипевшую боль, от которой задыхается человек, а отчасти и из практических соображений… Потому как надо прежде “прочухать” и “прожевать” человека: устоит ли он против жалобы “чинкарям”, даже если его начнут “шинковать” в каземате, подвергая жуткому наказанию. Ведь, как вихром ни крути, а следует знать человека, пришедшего в “семью”. Будет ли он тебе в корешах или станет пастись под нарами занюханым кусочником – отверженным даже среди мира отверженных, которых презирает каторга».
Из этой «прописки», по тюремным понятиям, Ферт вышел достойно, как человек единой, нерасщепленной воли – остался тем же, вот только в его серо-зеленых глазах залегло что-то еще более ледяное и неподвижное.
* * *
…Но сейчас, когда он стоял неподалеку от капитанского мостика и продолжал прокручивать в голове возможные варианты кражи, звериное чутье подсказывало ему: дело пахло паленым… С гнетущим чувством, что он допустил где-то ошибку, он трижды возвращался к «истоку», но тщетно – ошибки не находилось.
Все упиралось во время. Войти в каюту первогильдийного купца Злакоманова было нелегким делом. Однако не тем, перед которым опускались руки. «Мыши танцуют, пока кота не чуют. Улыбнется мне клювом и этот замок». И то верно: восемь лет острога для Ферта не прошли даром. Он в совершенстве постиг науку открывать упрямые замки при помощи толковых отмычек. Другое заботило вора. У дверей каюты купца днем и ночью посменно дежурил охранник. Впрочем, эту проблему бралась устранить Маркиза. «На то она и “летучая мышь”, чтобы мерить свою жизнь прожитыми ночами и облапошенными мужиками, – усмехнулся в душе Ферт. – Ведь что ни говори, а бабы из мужиков больше любят делать дураков, чем любовников. Только уж не подведи, Мария Ивановна…»
И все же Ферт не решался идти на рожон, а значит, отмычки при этом раскладе отпадали. «К черту, вариантов много, шея одна. Есть у меня в запасе другая идейка… Береженого бог бережет. Если погорю и придется отрываться… Это, пожалуй, будет лучшее решение».
На миг в его глазах вспыхнул огненный бес воровской радости. Дерзкий и властный по жизни, Ферт с презрением глянул на галдевших вокруг людей, ибо никогда он еще не ощущал в себе такой звонкой силы, как сейчас, за несколько минут до прихоти судьбы, которая могла наградить его либо золотыми крыльями воли, либо бросить в кровавом рубище на эшафот.
Преисполненный властной позы, он, как хищная птица, повернул шею и в последний раз бросил колкий и быстрый взгляд на хмурого, молчаливого купца.
* * *
– Ива-ан! Жми! Бей своих, чтоб чужие боялись!
Кошелев ревел медведем в трубу, ровным счетом ни на кого не обращая внимания, кроме своего соперника. Чередовались только два слова: «Шуруй!» и «Пару!».
От такого безоглядного лихачества капитана публика не на шутку стала тревожиться. Послышались возмущенно-взволнованные голоса, истеричные выкрики перепуганных мамаш, которые прижимали к своим юбкам вырывавшихся детей. Однако их собственные мужья, глаза которых горели бесом возможного выигрыша, урезонили ненаглядных. Общество разделилось: кто-то трусил, кто-то ободряюще покрикивал и хлопал в ладоши, тем самым выражая свою солидарность Кошелеву. Весь пароход играл. Кто на деньги, кто на шампанское, кто на пару чая.
– У нашего Степаныча завсегда так! – успокаивающе каркал толпе разгоряченный водкой усатый боцман. – Ужо перегоним, а там пошлепаем своим ходом. Не боись! Сейчас обставим почтаря. Чай, не впервой…
И правда: через четверть часа бешеной гонки «озверевший» «Самсон» нагнал и стал уверенно обходить «Резвого», с мостика которого долговязый, как мотыль, капитан в белом, нараспашку кителе, окруженный своими пассажирами, и в том числе щеголихами-дамами, яростно грозил «Самсону» кулаком и что-то кричал, должно быть, ругался.
Кошелев на это лишь поднял бутылку и выглотал «с дула» ром до последней капли, после чего зашвырнул «любезницу» в бурлившую пеной воду и рыкнул в рупор:
– Наше вам с кисточкой! Не кашляйте! – И сызнова в трубку: – Ива-ан! Пару, мать вашу!! Я вам покажу шуры-муры!
«Самсон», делая невозможное возможным, предпринял еще рывок, и когда его корма была уже рядом с носом почтовика, вконец ошалевший от счастья Кошелев рванул с себя форменные брюки, оголил зад и торжествующе показал его побежденному сопернику.
Публика взорвалась ликующим ором, распугав речную птицу. В воздух полетели чепцы и шляпы. То тут, то там раздавались тугие оттычки шампанского и поздравления бравого капитана.
Уставший, но торжествующий «Самсон» сбавил ход, затем еще и, благодушно давая ретироваться побежденному почтовику, пошел своим обычным, но гордым ходом.
* * *
Все это время стоявший на корме и наблюдавший за гонкой Злакоманов удовлетворенно хмыкал: «Надыть же, в точку народ глаголет: “Пароход может не видеть дале своего носа: за него капитан зрит”. Хм, ежели обзаведусь своими машинами, то надобно будет присмотреться к сему лихачу. Уж больно ловок. Положу ему двойное жалованье – переманю к себе. Так, чтоб у Злакоманова были и лучшие пароходы, и речники! Потому как и цари, и дворники равно должны заботиться о блеске своего двора».
Разомлев сердцем во время гонки, Василий Саввич вспомнил молодость, золотые денечки, когда и в нем жила прыть, а грудь наполняла спелая радуга чувств. Однако теперь, когда градус напряжения спал и люди вокруг по обыкновению стали скучными и занятыми своими делами, купец приуныл. А несколько позже пришла на кошачьих бесшумных лапах тревога. Ему ни с того ни с сего припомнился двухнедельной давности сон, который сковал его сердце черным льдом страха. Тогда, уткнувшись горячим лицом в перину, он возвышался молчаливой горой над продавленными пружинами кровати и слушал свой беспокойный пульс. Нечто подобное он переживал и сейчас. Покуда вокруг кипели страсти, он даже испытывал ощущение приподнятой возбужденности – будто сам делал ставки с другими и скоро должен был получить заслуженный приз. Но вот все кончилось… Злакоманов, сам не зная зачем, неопределенно развел руками и, тихо насвистывая простенькую итальянскую арийку – это, похоже, помогало думать, – посмотрел на свою охрану. Те приветливо склонили головы в ожидании приказаний.
«Молодцы! Молодцы! Эти не подведут…» – мысленно похвалил голядкинцев Василий Саввич и, разродившись насильственной улыбкой, сипло сказал:
– Ну, что, скучаем, орлы? Хлопот, как у кота на печи, ан копейка капает… То-то погуляете, возвратившись в Саратов. Вспомните-с мою щедрость, – хитро подмигнул охране купец и полез толстыми пальцами в миниатюрную табакерку за щепотью табака. Глядя себе под ноги, он отчего-то ухватил памятью младшего сына Ивана Платоновича – Алешку Кречетова. «Славный артист, говорят, получился. Хвалят его знатоки! Молодца! Значит, не зря я пекся об этом мальце. Теперь уж большущий стал. Да, савояр… буду в Саратове, всенепременно-с в театр наведаюсь. Давненько я в царство Мельпомены не хаживал, а надо бы-с, надо бы-с… Тоскует душа. Так вот все заботы, заботы… черть бы их взял…»
Злакоманов основательно зарядил обе ноздри табаком и, от души, ядрено отчихавшись, сообщил:
– Не за горами Петушки станутся… разбудите. В сон чой-то клонит, пойду подремлю-с. Нет, нет, провожать не надо, чай, день на дворе, да и я не грудной.
Василий Саввич огладил надушенной ладонью широкое лицо, взлохмаченную от речного ветряка бороду и с достойной неторопливостью направился в свою каюту. Все в нем было от хозяина жизни: и славная купеческая стать, и дородность, и даже походка. Шаг он делал широкий, но не спешливый, не суетный, корпус клонил самую малость вперед и крепко, уверенно ставил каблук, так что даже на твердой палубной доске, казалось, должен был оставаться его приметный купеческий след.
* * *
– Ты готова? – Ферт стремительно вошел в каюту и замолчал, внимательно изучая побелевшее, напряженное лицо наперсницы.
– Да, – сдавленно произнесла Мария.
– Тогда за дело! Там, по коридору, через четыре двери от нас фараон злакомановскую каюту пасет…
– Знаю.
– Я знаю, что ты знаешь! – Ферт бритвенно сузил глаза: – Только смотри, кареглазая… Нынче ты должна гореть, как цыганский костер. И чтобы ни один легаш не мог вякнуть, что ты открывала свои ляжки, ровно подавала им милостыню. Куда ты опять таращишься? – Он резко прошел к столу, на котором стоял дорожный баул. – В глаза смотри, мне не до шуток. Сейчас на кон поставлено все! Поняла меня? Это прощальная наша гастроль.
– На сколько я его должна отвлечь?
– Не менее получаса. Лучше больше. Пошла, пошла! Нет, стой. – Он быстро подошел к ней, взял в руки ее голову и пронзительно посмотрел в глаза. Его собственные глаза горели лихорадочным огнем, но теперь в них не было злости. – Люблю тебя, – глухо слетело с его твердых губ.
– Я тебя тоже. – Ночные глаза Марии сверкали слезой. – Ты же знаешь, у меня к тебе особое чувство, Сереженька… Ты у меня первый. Кто знает? Может, мы видимся в последний раз!
– Сплюнь! – Его жесткие пальцы больно сдавили нежные плечи. – А теперь иди и сделай все, как я тебе сказал. Иначе мы действительно увиделись в последний раз.
Неволина судорожно перекрестила себя и Ферта. Она отчетливо знала – все мосты сожжены.
Когда дверь закрылась, Алдонин подошел к ней и, осторожно приоткрыв на полпальца, проследил за Неволиной. Довольная улыбка осветила его лицо – Марьюшка была в своем амплуа…
Во время отсутствия Ферта она успела соответственно принарядиться и теперь, как говорил Серж, была «в полном ажуре». Искусство женского макияжа – не зеркало: оно не обязано отражать все без разбора, и Мария это усвоила как никто другой. Для ночных свиданий Неволина красилась дерзко. Вот и сейчас, согласно непреклонной воле ее кумира, губы у нее были пронзительно алыми, хотя за окном стоял белый день и склянки надраенной рынды оповещали о скором обеде. И даже ногти ее горели багряным лаком, словно хозяйка последних перед выходом «в свет» обмакнула пальцы в каббалистический бочажок с жертвенной кровью. Досконально зная вкусы мужчин постарше, Марьюшка облачилась в черный, как ночь, кружевной корсаж, стягивавший в узкое кольцо талию и выпячивавший ее налитые сочностью груди; не забыла она и про задорные подвязки и в легкую паутинку чулки. Красивые ноги щеголяли в алых туфельках на тонкой изящной шпильке; украшенные розовыми блестками, они могли оставить равнодушным только слепого. На плечи Мария целомудренно накинула летний дорожный сак, который надежно скрывал обнаженный лик манящей порочности, но стоило его распахнуть, и жертва с головой попадала в сети «Ночного Парижа».
Ферт затаил дыхание, желая слышать их разговор.
Узкий коридор, устланный ковровой дорожкой во всю длину, был пуст и кутался в дымку сиреневых сумерек. Неволина фривольной походкой неспешно продефилировала мимо бесстрастного охранника, но вдруг обернулась и, глядя тому откровенно в глаза, с загадочной томностью улыбнулась. Набрякший унылой хмуростью караульный ожил, однако не проронил ни слова и только вперил в нее подозрительный взгляд. Затем набычился и, подавшись вперед, буркнул в густые усы:
– Ну, чего тебе? Проходи… Не велено тут…
– Ой ли?
Охранник напрягся, поджал губы, ощутив, как шелковый подклад ее легкой накидки скользнул по его штанине.
– Ты чо, чо? В уме ли, девка? А ну, давай, двигай отсель, покуда…
– Покуда «что»? – Она гипнотически подмигнула ему и едко бросила: – Я-то думала, ты мужик… Да у меня, похоже, под юбкой больше добра… Или тебя Бог обидел? Ну, тогда Он поступил совершенно правильно.
Такого оскорбления охранник стерпеть не мог, вспыхнув щеками, он ухватил возмутительницу покоя за рукав:
– Так кого ты, говоришь, Бог обидел, шалава?
Мария вырвала руку и презрительно смерила караульного взглядом. Но тут же, простив солдафонскую грубость, распахнула на себе полы дорожной накидки.
Часовой хрюкнул от удовольствия. Он попытался оглядеться – не видит ли кто сего сраму, но глаза отказывались подчиниться. Руки его дергались и сжимались в кулаки.
Открывшиеся его взору обнаженные груди с темно-румяными сосками над кружевом смоляного шелка, точно у фригийской жрицы плодородия, ошеломили двадцатипятилетнего урядника Редькина. Он что-то мычал и мямлил, но похотливая страсть его была уже тверже кремня и пульсирующим набатом в висках требовала разрядки.
…Напарница Ферта подняла руки и принялась пальцами томно поглаживать набухающие соски.
– Уйди, нечистая… – мучительно прохрипел он.
– Да брось ты, чего уж там? – Обнаженные, приподнятые корсетом груди прижались к толстому сукну двубортки.
– У меня есть только тридцать минут… Потом придет смена. – Большие простолюдинские руки урядника уже по-хозяйски лапали прелести Марьюшки.
– Думаешь, нам не хватит, мой петушок? Ты и за четверть часа успеешь потоптать свою курочку. Но одно условие! – Она вновь высвободилась из его объятий, все так же презрительно, сверху вниз глядя на потерявшего голову часового. – Надеюсь, ты найдешь нам уютное гнездышко, генерал? Ведь я не овца, а пароход – не стойло с грязной соломой.
Мария высунула острый кончик языка и ее унизанные фальшивыми перстнями пальцы царапнули потную щеку урядника.
– Ух ты… чтоб мне околеть! Да, да, чертовски да… Айда за мной… Щас устроим. Уж я-то знаю, с какого локотка к бабе подходить… и откуда ты только свалилась на мою голову, прынцесса?
Редькин торопливо подошел к соседней каюте, где квартировалась охрана, достал ключ и суетливо заерзал им в замочной скважине.
Неволина изогнула шею, приподняла волосы и снова широко и насмешливо улыбнулась Федору. Ее умение «заводить» мужиков было легендарным, и она по праву гордилась им.
Охранник расторопно справился с дверью, и Мария, тяжело качнув бедрами, перешагнула порог.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































