Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
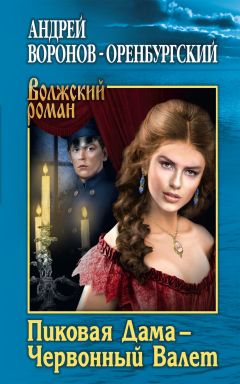
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 42 (всего у книги 48 страниц)
– Он, вурдалак, ваше превосходительство. Вот он, поди, причинный корень, ась?
– Что же… это недурно… Весьма недурно, голубчик, – складывая в одну цепь известные ему факты, молвил Николай Матвеевич. – А что же сам-то Корнеев не изволил о сем сообщить? – Голядкин с подозрением заглянул в зеленые глаза Барыкина.
– Да господи… ужли в сумлениях вы, заступник наш? Боится он вас как огня, ваше-с превосходительство. А после сего случая, значить… после убийства уважаемого Василия Саввича, земля ему пухом… так вконец волюшку потерял. Боюсь, как бы в пьянство не впал… тяжело он пьеть, без меры, без памяти… Вот и послал меня к вам… Мы еще в орлянку сыграли, кому до вас путь держать. Смекали, вдруг да поможет сия закавыка вашему следству. Могёть, есть тут каки общие касания, подоплека, так сказать, истины преступления. Еще он, горемычный, слезно сказывал покорнейше просить вас принять его скромный подарок… Так что вот, с глубоким почтением, уж не забытте вниманием, примите-с посильный вклад.
С этими словами Григорий Иванович извлек из внутреннего кармана камлотового сюртука бархатную коробочку, раскрыл ее и протянул полицмейстеру.
– Эт-то что еще за номер? – возмутился Голядкин, косо глядя на дорогой перстень с темным рубином в массивной золотой оправе. – Да как вы смеете?
– Смею, ваше превосходительство. Перстенек в подарочек – сущий пустяк. Не побрезгуйте, берите, заступник наш… обидите купечество.
Николай Матвеевич хотел было оттолкнуть руку Барыкина, но большое бородатое лицо купца было столь просто, столь искренне и добродушно, что он ощутил даже неловкость за свою дурацкую мысль.
Барыкин, каким-то волшебным чутьем угадав и эту мысль, и настроение чиновника, ласково заметил:
– И неграмотные могуть читать в сердцах, ваше превосходительство. Люди хужее, чем они хотят казаться, и лучшее, чем кажутся.
– Вы что же, голубчик, хотите меня убедить, что и черными делами зарабатывают на белый хлеб?
– Отнюдь, милостивец наш, отнюдь, – колыхнулся всей массой купец. – Просто купеческое сердце за честь почитает угостить, так сказать, высокую букву закона, а не так, чтобы с корыстью. Вниманье и ласку любит, знаете ли, и человек, и зверь… и худого тут отродясь нету. Примите, ваше превосходительство, от чистого сердца.
– Ну-с, коли от «чистого»… – Голядкин секунду-другую еще повертел в руках коробочку и, положив ее в ящик стола, сказал: – Тогда благодарю. Корнееву Максиму Михайловичу передайте, голубчик, пусть дурака не валяет и в водочный омут глазом не смотрит. А то знаете, как бывает: с неба сыпалась манна небесная, а под ногами варилась каша. Будут еще какие соображения, мысли – милости прошу, и без всяких там экивоков.
* * *
Тут же после ухода купца Голядкин самым тщательным образом навел справки о госпоже Неволиной. Действительно, эта яркая особа скрылась с саратовского горизонта сразу после убийства богача Злакоманова. И это обстоятельство, как показал приезд Барыкина, конечно, не прошло незаметно. «Еще пару-тройку дней, и в обществе станут много и определенно догадываться. Начнут “склонять падежи”, и ты, Николай Матвеевич, окажешься не у дел. Ах, как все-таки славно, что в людях еще сидит страх к закону! Ведь к тебе прилетели “клевать с рук”, а не к другому… Слава Тебе, Господи! – Голядкин с чувством перекрестился, глядючи на икону. – Теперь, Николенька, у тебя есть козыри перед его высокопревосходительством. Это уже не строительство воздушных замков и не пустая битва с бумажными тиграми. Эта версия подкреплена фактами! А факты, как водится, вещь упрямая. Нет, сему делу всенепременно должен быть даден ход».
Потирая от удовольствия руки, сидя в кресле, Николай Матвеевич еще и еще раз складывал мозаику воображаемого полотна. И все сходилось, все склеивалось как нельзя лучше. В рапорте пристава Александра Колесникова черным по белому говорилось о сошедшей в Петушках молодой парочке. Составленные по словам свидетелей портреты возможных убийц накладывались на словесные описания Барыкина и отливались в единый выпуклый барельеф.
Прошло, пожалуй, не более получаса, как дверь закрылась за спиной купца, а в голове Голядкина была уже соткана полная картина произошедшей трагедии на «Самсоне». Теперь он не сомневался, что загадочный «чужак» увлек в свой промысел эту одинокую, экзальтированную «штучку», которая была с Амуром на «ты» и в прошлом которой никто не сомневался.
«Н-да, Мария Ивановна… – иронично усмехнулся полицмейстер, – при одном взгляде на вас становится ясно, что “сценическим” успехом у Корнеева вы обязаны не столько Мельпомене, сколько талии и прочим своим прелестям. Что ж, отольются кошке мышкины слезки. – Николай Матвеевич припомнил зимнюю ссору между полковником Ланским и его адъютантом из-за корнеевской кокотки. “Пьеса” наделала шуму в Саратове: во всех ее действиях отчаянно “стреляли”. Как же была фамилия того гусара-красавца? – Голядкин мучительно наморщил лоб. – Не то Белоплотов, не то Белоклоков… Однако важно ли это? А между тем сей молодой человек поплатился карьерой и честью из-за вас, милочка… Я уж не говорю о вашем гранд-патроне и опекуне Ланском. Впрочем, жизнь компенсаторная штука. Если где-то прибавилось, значит, где-то обязательно убыло. Что ж, госпожа Неволина, дело осталось за малым: сыскать вас с вашим подельником и предъявить обвинения. А мы сыщем, голубушка, будьте покойны. Что делать: горечь судьбы приходится принимать без облаток».
Спустя еще десять минут его превосходительству старшему полицмейстеру господину Голядкину на стол было подано исчерпывающее дело на госпожу Неволину. А еще через двадцать минут в центральное управление полиции Астрахани по телеграфу полетел запрос на уроженку сего города госпожу Неволину.
Покуда ожидался ответ, Николай Матвеевич обмакнул перо в чернила и написал подробный отчет на имя губернатора, который заканчивался, по его разумению, на оптимистической ноте:
«…а посему, Ваше высокопревосходительство, разбивая и лоб, и затылок в полнейшем рвении ускорить раскрытие столь темного и запутанного дела, премного прошу-с простить мне самовольный, срочный отъезд в Астрахань. Полагаю, что известные степени неловкостей и стеснений для Вас, ввиду моего отсутствия, тем не менее обратятся желанным финалом в сей трагически нашумевшей истории.
Засим еще раз прошу меня извинить. Поклон глубокоуважаемой Вашей супруге Вере Александровне. Сердцем и делом искренне Ваш
Н.М. Голядкин».
Опережающая события записка губернатору надежды и планы Николая Матвеевича не смешала. Около шести часов вечера из Астрахани пришел лаконичный ответ. В телеграфной ленте значилось:
«Ваш запрос получен и рассмотрен. Срочно выезжайте. Есть факты, не терпящие отлагательств.
Начальник жандармского управления
обер-полицмейстер Ю.В. Марков».
– Изволите ужин в кабинет, ваше превосходительство? – Аккуратный с начальством Гришечкин прогнул по-кошачьи спину.
– К черту, время не ждет.
– Но… Николай Матвеевич! – Секретарь, как гимназист, смущенно зарделся щеками. – Вы не обедали, отказались от полдника…
– Ты, любезный, право, как повар, мыслишь порциями? Пора бы, братец, переходить на другие масштабы… А то как-то скучно и мелко. Забыл, где служишь? Впрочем, понимаю, и траве надобно пробиваться.
Гришечкин с готовностью прыснул в кулак шутке его превосходительства, но тот в ответ неодобрительно покачал головой.
– Неправильно понимаешь услышанное. Не смейся, не дослушав анекдота… вдруг он не смешной?
Глава 4
Оба опытные, тертые сыскари, Голядкин и Марков встретились по-деловому, серьезно, умно и сразу перешли к делу.
– Значит, начальство не верило? Говорило – дохлое дело? Знакомо, до боли знакомо, Николай Матвеевич. Ничего, оживим. Хоть и рискованно… Зачем мы тогда вообще есть «санитары» общества? – улыбнулся Марков, пододвигая изящную чашку саратовского коллеги к пыхтевшему самовару. – Я сегодня весь день зонтик протаскал – все тучи разогнал, и вот награда – ваш приезд. Здорово вы там в Саратове зажигаете, оперативно. Угощайтесь, гость дорогой, кушайте. Мед, печенье, орешками позаймитесь, словом, чувствуйте себя как дома, но, – Марков с озорной шаловливостью подмигнул Голядкину, – не забывайте, что в застенке… у жандарма.
Посмеялись. Николай Матвеевич после долгого изнурительного пути в Астрахань сейчас отдыхал душой и телом. Хлопотун Марков без всяких «яких» затащил его в загодя натопленную баню, исхлестал березовым веником, заставил «наухаться» на липовом полке, где раскаленный воздух обжигал уши и легкие, потом выгнал охолонуться на прудок, что был в трех шагах устроен у бани, и теперь потчевал коллегу у себя дома. После жирной свинины с хреном и гречневой каши горячий чаек с малиновым листом был лучшим избавлением от всяких желудочных «колик и пучений».
Радушный хозяин положительно нравился Голядкину, нравилось и то, что оба они категорично отказались от водки и от вина, покуда не было решено дело. И вот сейчас, сидя по-холостяцки, «без хомутов» в одном исподнем, томно потея у самовара, они неторопливо посвящали друг друга в тонкости своего следствия, делились соображеньями, опытом. И все-таки на душе гостя скребли кошки:
– Ой, Юрий Владимирович, за все низкий поклон, но не теряем ли мы золотое время?
– Вы точно рветесь в завтра, друг мой. Не боитесь сгореть на службе?
Марков хитро посмотрел на схваченное беспокойством лицо Голядкина и, расколов бронзовыми щипчиками очередной грецкий орех, успокоил:
– Никак нет, дорогой Николай Матвеевич. Тревога мне ваша, конечно, понятна. Из рук взяли, в руки передали эстафету… С архисерьезным поручением… понимаю-с, вот бог, понимаю-с. Так и вы поймите: в надежные руки передали… «Верить и служить надо разумом, а жить душой» – как говорил мой отец. Спешу заверить – у Маркова все под контролем.
– Вы говорите, это дело рук Ферта?
– И его гололягой лоретки, о которой вы делали нам запрос. Позвольте угостить вас французским табаком.
– Благодарю. Но откуда такая уверенность? Вы столь беспечны, ровно и проблемы нет.
– Спокоен, – отхлебывая чаю, поправил Юрий Владимирович. – Так вас устроит более?
– «Ферт»… Хм… – Голядкин неопределенно пожал плечами и от спички прикурил марсельскую папиросу. – Кличка – это пустой звук…
– Ну, не скажите, – веско возразил Марков. – Я вырос до полковничьих эполет на сем поприще и убежденно скажу: кличка или «погоняло» злодея… это тавро на всю жизнь, его не сотрешь, не вытравишь. Вы удивляете меня, коллега…
– Бог с ним… Согласен, – пойманный на промахе, сконфуженно потер подбородок Николай Матвеевич. – Собственно, я и не это имел в виду.
– Что же? – Полковник со вниманием склонил крепко облысевшую голову.
– Вы столь категоричны: это дело рук Ферта и его, как вы имели удовольствие выразиться, «голорукой» дивы…
– Гололягой, – усмехнулся Марков. – Ну-ну, продолжайте…
– Но почему именно Ферт? И какая, pardon, тут связь с корнеевской певичкой? Нет, вы поймите меня правильно… Ваша убежденность для меня, ей-ей, является славным ликером: и жжет, и крепит, и душа поет, но…
– Но в том-то и дело, господин Голядкин, эта парочка давно в поле моего внимания. Они теперь на моем участке боя, так сказать… В Астрахани – в родных палестинах… и я этих хитронырых лисиц не выпущу из своего курятника, будьте покойны. Скажу больше: Ферт уже стреляный патрон. Ему никудашеньки не деться. Это для меня дело принципа, ежели угодно-с. Да и здешние «иваны», доложу я вам, ой как зуб на него точат… Было тут дельце… давнее, правда, связанное не то с кражей, не то с перепродажей изумрудного колье, принадлежавшего графу Воронцову… Ну так для уголовного мира срок давности в сем вопросе – кимвал бряцающий. Много их тогда из-за сего погорело. Вот и точат они на него свои волчьи клыки. Кстати, от их стаи и прилетел гонец с вестью: так, мол, и так, «откинулся» с каторги Фертушка… видели его в городе… говорят, гоголем ехал в коляске. Прямо этакий князь Серебряный… будто и не было тех восьми лет на цепи в остроге. Так-то, дорогой Николай Матвеевич… А вы – «чем могу служить», «откуда знаете?». Наслышан я и о вас, и о вашей Неволиной. Она ведь, как понимаете, родом отсюда, с Нижней Волги. Эта астраханская муха к вам в Саратов «на котлеты» много позже прижужжала. И тоже, как догадываетесь, не из-за дури, простите, с родного дерьма слетела. Были дела темные: и шулерство, и подлоги, и липовые паспорта…
– Смотрите, Юрий Владимирович. – Голядкин с сомнением покачал головой. – Вам, похоже, из своего кабинета виднее.
– Вы сомневаетесь?
– Я не в вас сомневаюсь, а в ваших методах… Ужели вы больше доверяете жуликам, сударь, чем своим филёрам?
– Вас, уважаемый, сие размышление наводит на какую-то мысль? – Полковник вновь расколол щипцами орех.
– Наводит. Только это размышление не в вашу пользу. А ежели этот самый осведомитель из воровской стаи с прицелом вас по ложному следу пустил… и мы из-за вашей оплошности дело провалим? Неужели вы полагаете, что глупости могут совершать только женщины?
– Ну, знаете, Николай Матвеевич, вы рассуждайте, но знайте меру словам. Как говорится: «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Я не меньше вашего дорожу честью и также не могу органически преодолеть ненависть к жулью, но одно заявляю со всей ответственностью: закон в моем лице с преступностью не договаривается. Мы враги с их миром – врагами и помрем. Но при этом скажу и другое: друзей следует держать рядом с собой, врагов – еще ближе. Право, не ведаю, можно ли победить преступность, искоренить ее при наших законах, но то, что ее возможно купить, как продажную девку, – это железно. Вот этим, друг мой, я и занимаюсь. И поверьте, Николай Матвеевич, редкий срыв в сем занятье имею.
– Дай бог, дай бог… время покажет, – допивая чай, устало кивнул головой Голядкин.
– И покажет! – Марков рассерженно чиркнул спичкой, запалил папиросу и процедил сквозь зубы: – Ферт стреляный пес, и подружка его не хромая овца. Для их поимки, я полагаю, все средства хороши – был бы результат. У этой золотой роты и философия своя выковалась: жить мы, видите ли, им мешаем. Дескать, они с «нашей земли» и пятака медного не подняли, а мы их душим клещами закона. Тоже жить хотят на широкую ногу.
– Все жить хотят, полковник. – Николай Матвеевич зачерпнул чайной ложечкой из фарфоровой розетки варенья. – Но не все заслуживают. Ведь те, кто совершил это гнусное убийство на «Самсоне»… убили не просто известного на всю Волгу человека… Нет, Юрий Владимирович, в том-то и беда. Они убили мецената, подвижника, русского с большой буквы человека и сделали сим черным действом в культуре Саратова непоправимую брешь.
– Покойный был еще и меценатом?
– Еще каким! Театр был его детищем.
– Позвольте, но как прикажете понимать: старовер и театр? Нонсенс. Сия порода не переносит подмостков, как черт ладана. Они и кружку-то свою в чужие руки не дадут.
– Согласен, что тут скажешь? Как видно, это тот случай, когда исключение доказывает правило. При последнем губернаторе наш театр основательно переделали. Выписали из Москвы антрепренера Соколова, словом, на все про все денег уйму спустили. Тут тебе и певцы-цыгане, и гастролеры. А так как эта забава городу не по средствам, но отставать от столиц не хочется, то наш затейщик Федор Лукич придумал-таки творческий «финт ушами». Его высокопревосходительство знал: первые богачи в нашей губернии, впрочем, как и у вас, преимущественно закоренелые старообрядцы и весьма щедры на пожертвования, в особенности, где принимает участие начальник губернии. Эти медведи тоже не дураки, где хребет ломать с выгодой, где на коньках учиться кататься. И вот губернатор разослал им билеты во все ложи театра, прося их абонироваться на сезон представлений, объясняя, что ежели им или их семействам случится быть в Саратове, то они завсегда сумеют присутствовать в театре в своей ложе. Понятно, купцы-староверы в «бесовский балаган» ни ногой. У них ведь за большой грех считается наслаждаться «дьявольскими» представлениями… Ну да и бог-то с ними… Главное – деньги антрепренеру выслали, кресла же их пошли с молотка господам офицерам, исправникам, городским головам и помещикам.
– Ловко! Только где здесь ваш Злакоманов?
– А вот среди того купечества, что ссудило деньги, и проявился этот утес. Да так развернулся в своей любви к лицедейству, что денег на ремонт здания дал, и новый занавес в Москве оплатил, и помощь оказал с декорациями. Царство ему Небесное… – вздохнул Голядкин, накладывая на себя крест: – Жаль, душа-человек был…
– Вот поэтому, – Марков ударил кулаком по столу, дрогнув скулами, – я бы всю уголовную сволочь вздергивал на столбах, как собак! Хочешь честно, по совести? Дай мне волю… разговор один был бы: «Руки! – Пуля! Пальцы растопырь и кверху!» А ежели хоть слово поперек… хоть полслова! – мордой в пол и свинец в башку.
– Однако… круто взнуздано! Особенно для жандармского офицера… – Голядкин едва не поперхнулся печеньем. – Ну вы и фрукт, простите, Юрий Владимирович. С такими настроениями мы можем далеко зайти-с…
– Мы и так все далеко зашли. Увольте, милостивый государь, но я отказываюсь понимать полумеры, какими мы живем уж не первый год.
– И какими же?
– Да такими: «расстрелять сильно до полусмерти» или «беспощадно повесить условно». Вам нравится? Я ненавижу! Бесит… Нет, сударь, с таким либеральным подходом мы далеко не уедем. И так-то светлого лика России от налипшего дерьма не видно, но ежели будем и далее попускать… с руками на дно уйдем. Меры иные нужны, а так нам каждая сволочь будет в лицо плевать своей неустрашимой слюной. Полиция нынче живет по принципу: «Меньше знаешь – лучше спишь. Подай, принеси, пошел вон!» – словно холуй в кабаке. Ну-с, коли так, нечего на зеркало пенять, что рожа крива. В холуях и ходить будем. Эх, жили мы с вами, простите, Николай Матвеевич, сторожевыми псами… ими и умрем за чужое добро…
– И только? – В чашке напряженно звякнула чайная ложка.
– И за закон… конечно… – угрюмо усмехнулся Марков. – Не правда ли, странно, сударь, за окном июль, а на душе метель… да, да, метель… холодно… неспокойно…
Обер-полицмейстер замкнулся в себе, будто выпал из разговора. Прошла минута, за ней тяжело промолчала другая, а Юрий Владимирович продолжал сидеть у самовара с опущенными глазами, и по его неподвижному лицу нельзя было понять: слышит он что-нибудь или нет, кроме голоса своей души. Казалось, в его самоем еще крепче, еще злее затягивались узлы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и возмущение на тот сложившийся мир и уклад, которые окружали его и душили своей несгибаемой правдой.
«Странно, – подумал Голядкин, – я и не ожидал, сколько энергии, сколько силы, ярости, убеждений сконцентрировано в сем человеке… Есть ли эти силы и убеждения во мне, таким ли шагом я меряю жизнь? А быть может, он болен и близок к душевному срыву? Ведь он говорит страшные, по сути правильные, но так ли уж справедливые вещи? А ты… ты сам-то во что веришь? – вдруг неожиданно для себя задал вопрос Голядкин. – Что хочешь защищать в этой жизни – свободу, честь, царя, Отечество? Да, да и тысячу раз да… но веришь ли ты, скажем, в свободу и есть ли она вообще на земле? Не знаю… не знаю, верю ли я в нее…»
Николай Матвеевич снова пристально посмотрел на своего собеседника, потом на белую скатерть, на блюдца, на свое нелепо расплывшееся отражение в пузатом полушарии самовара и вновь на Маркова: «И все-таки, ему положительно надо лечиться… Нет, нам всем надо лечиться. По большому счету он прав…»
* * *
Голядкин повернул рогатый вензелек самовара. Кипяток зафырчал сноровистой струйкой, и Николай Матвеевич точно узрел в золотой черноте напитка чаинки своего прошлого. Свою забытую юнкерскую юность. «Тогда было все просто и ясно – в ротах учили: “Солдат есть слуга царя и Отечества, защитник их от врагов внешних и внутренних”[122]122
Спиридович А. Записки жандарма. М., 1991.
[Закрыть]. На вопрос же о том, кто есть враг внутренний, отвечали четко и просто: “Это – воры, мздоимцы, мошенники, убийцы, шпионы, бунтари и вообще все, кто идет против государя и внутреннего порядка в стране”». Жандармерия – это орган политической полиции. На офицеров ее корпуса было возложено производство дознаний по делам о государственных преступлениях, на правах следователей под наблюдением прокуратуры, согласно новым судебным уставам. По мысли Его Величества Александра II лучшие фамилии и приближенные к престолу лица должны были стоять во главе сего учреждения и содействовать искоренению зла.
«Да, мы все прекрасно были осведомлены, что главную борьбу с этим злом ведут именно жандармы, и это не могло нам не нравиться, – прихлебывая из чашки, заключил Николай Матвеевич, – так как это была та же защита нашей родины, та же война, только внутренняя».
Тем не менее вся служба жандармерии была окутана какой-то дымкой таинственности. «Сами жандармские офицеры своею повышенной сдержанностью и какой-то особой корректностью заостряли это впечатление и заставляли смотреть на них с некоторой осторожностью. И, право, в них не было офицерской простоты обычной полиции, они не были нараспашку и даже внушали чопорной замкнутостью и значением к себе непонятный страх. Почему и отчего – это было неясно и труднообъяснимо»[123]123
Спиридович А. Записки жандарма.
[Закрыть].
В полку, где прежде выпала судьба служить Голядкину, на корпус жандармерии смотрели даже очень хорошо. Несколько офицеров уже служили там, занимали солидные должности и были, что греха таить, предметом общей зависти.
Сам лично Николай Матвеевич в жандармах ничего дурного не зрил. Еще с отрочества он помнил: жандармы были хорошо приняты его родными и, случалось, бывали в гостях у ныне покойного отца. Ему припомнилось, что даже в женихах у одной из его сестер одно время числился жандармский поручик…
Да и сама матушка нет-нет да и напутствовала: «Не худо было бы, Николенька, примерить тебе мундир артиллериста, а то и жандарма… Дело почетное, нужное для общества». Сестры – так те вообще открыто и прямо убеждали братца идти в жандармерию. Воспитанные в саратовской провинциальной глуши, далекие от всякой политики, они были чужды обычных интеллигентских предрассудков против синего мундира и смотрели на жандармского офицера предметно-конкретно и просто: «Офицер, служба серьезная, бывает ли важнее? Жалованье хорошее и форма заглядение – с белыми как снег аксельбантами, чего еще нужно для девичьего сердца? А что жандармов ругают – так за глаза и государя чехвостят»[124]124
Спиридович А. Записки жандарма.
[Закрыть].
Все эти нехитрые слагаемые создали у Голядкина живое желание поступить в корпус жандармов, который находился в Вильне. А посему, почитывая учебную литературу для военно-юридической академии, он в то же время не упускал из виду, как бы найти протекцию для перевода в корпус.
Однако многие в обществе, особенно в столицах, не жаловали жандармов, службу их откровенно бранили и за закрытыми дверями говорили о них, что все они доносчики и нынешние опричники. Это неприязненное отношение к жандармам Николай Матвеевич встретил тогда же в семье одного почтенного сановника, на дочери которого, Лизоньке, он хотел жениться. Русский человек, сын генерала, герой двенадцатого года, его будущий тесть и слышать не хотел, чтобы зять стал жандармом. Он предлагал им с дочерью материальную помощь, а также выражал желание хлопотать по устройству Голядкина куда-нибудь на гражданскую службу, которая обеспечивала бы его лучше, чем полк, лишь бы он не шел в жандармы. Жених упорствовал, рьяно доказывая будущему тестю, что служба корпуса жандармов идейная и полезная для государства. Не имея ничего возразить по существу, отец Лизы все-таки был непреклонен. Каждый из споривших остался при своем мнении. Голядкина не покидало намерение поступить в корпус, и только условие невесты заставило пойти на компромисс с ее papа́ и со своей совестью. Что ж, так уж случается, что разношенные, как домашние туфли, удобные, не беспокоящие мысли в конце концов берут верх и оказываются предпочтительнее для жизни.
Вместо жандармского корпуса Голядкин был переведен из полка в полицейское управление, где и служил по сей день. Между тем перевестись в корпус жандармерии было хлопотным делом. «Для поступления в корпус от офицеров требовались прежде всего следующие условия: потомственное дворянство; окончание военного или юнкерского училища по первому разряду; не быть католиком либо протестантом; не иметь долгов и пробыть в строю не менее шести лет. Удовлетворявший этим требованиям обязан был выдержать предварительные испытания при штабе корпуса жандармов для занесения в кандидатский список, затем, когда подойдет очередь, прослушать четырехмесячные курсы в Петербурге и выдержать выпускной экзамен. Офицер, сумевший преодолеть второй экзамен, переводился Высочайшим приказом в корпус жандармов»[125]125
Спиридович А. Записки жандарма.
[Закрыть].
Помимо формальных условий, для поступления в жандармерию необходима была еще и протекция. Отбор офицеров из всех родов оружия был настолько строг, а желавших столь много, что без протекции попасть на жандармские курсы было практически невозможно.
Все это прекрасно знал Николай Матвеевич, и вот теперь перед ним сидел именно такой человек, с которым волею случая его свела судьба. Голядкин с внутренней завистью посмотрел на синий мундир с белыми аксельбантами, серебряными эполетами, что был наброшен на спинку стула, и крепко пожалел, что некогда отступил, поддался слабости, уговорам невесты и так и не смог осуществить свою давнюю мечту. «А ведь в этом исподнем белом белье, после бани, у самовара мы такие похожие, одинаковые, а в костюме Адама и того обыденнее. Когда-то Гейне говорил: “Мир раскололся, и трещина проходит через сердце поэта”. Нынче врачи называют это проще – разрыв сердца. – Голядкин не без горечи усмехнулся. – Что верно, то верно… Не кичись тем, что стихи твои на устах прекрасных дам. Губная помада тоже не сходит с их уст. Прошедшего не вернуть, стоит, брат, жить сегодняшним».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































