Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
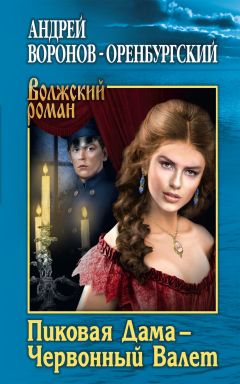
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 39 (всего у книги 48 страниц)
– Варя, милая Варя… – не желая верить в трагичный исход, с отчаянной настойчивостью повторил он. – Ты не можешь так поступить. Так нельзя…
– А как можно? – Она усмехнулась, бессознательно теребя пальцами оконные драпри.
– Но ты… обязана объясниться со мною. Я отказываюсь что-либо понимать!
– Я никому ничего не должна и уж тем более не обязана. Впрочем, если вы так преуспели в упрямстве, пан кавалер, извольте… – Снежинская, оскорбленно раздувая ноздри, резко отошла прочь от балконных дверей. – Я много думала о нас, Алексей, – официально, нарочито сухо начала она, – и сделала резюме: нам лучше расстаться. Мы ходим в разные церкви… Мои родители будут против. Ты грезишь театром, я вижу в нем лишь ослиные уши ярмарки. У нас в Польше подобный балаган посещают только прачки, конюхи и приказный класс. Да это и ежу понятно: кто из благородных, ясновельможных семейств станет позорить свой род? Ну а насчет вашего сомнительного успеха и признания в будущем, – Снежинская снисходительно качнула головой, – так ведь и гвоздь сезона… бывает ржавым.
– Что ж… жизнь подскажет, время покажет… – только и нашел что сказать Кречетов.
– Вы что? Всегда рассчитываете на других? – снова капнула яду Снежинская.
– Не смей так говорить! Ты не знаешь театра! И никогда не была на моих спектаклях.
– Ах, ах, ах! Вот умора! – Барбара язвительно передразнила его и воткнула новую шпильку: – Только не надо преувеличивать. Вы не микроскоп, а я не набитая дура.
– Да черт с ним, с театром! Дело в конце концов не в этом! Веришь ты в мой успех или нет! Но ты же клялась… еще сегодня, что любишь меня! Ты же сама говорила, что ради любимого человека готова сменить веру, готова пойти на край света!
– А ты?! Ты разве не клялся мне в том же? – Глаза полячки сверкали вызовом. – Так почему ты ради меня не хочешь сделать по-моему?
– И что же?! – Кречетов вспыхнул как порох. – Предать Православие? Предать Мечту, Театр, Гусаря? Устроиться в генеральский дом «котом в валенках» и, мурлыкая, под господской рукой, таскать со стола объедки? Жить серо, но сыто, с поджатым хвостом, но радуясь жирному кошельку?!
– Хотя бы!
Голос ее нервно дрожал. Она вновь резко прошлась по гостиной. Судорожно отпила из чашки холодного чая и, звякнув блюдцем, выдала:
– И потом, почему ты так уверенно заявляешь: «серо и скушно»? Откуда ты знаешь? Кто дал право тебе так говорить в моем доме? О, мамочка моя!.. Другим – твой бред кажется пустым и глупым!
– Ты жестокая… – потрясенно сказал он.
– Может, правдивая? – Она зло сверкнула глазами.
– Так ты лгала, что любишь? – У Алексея будто вырвали сердце.
– Не знаю… Я же сказала: мне рано думать об этом!
– Рано?! – Кречетов дал волю чувствам, громко и саркастически рассмеявшись. – А лечь со мной в постель под одно одеяло тебе было не рано?
– Ты, ты!.. – Барбара трудно дышала от гнева.
– Можешь не утруждаться! – Алексей стиснул зубы. – Кроме гадостей, твой рот все равно ничего не скажет.
– Что-о-о?! – Снежинская напряженно сцепила пальцы и будто вся превратилась в одно дыхание, спрессованное в поднятой груди. Глаза у нее стали огромные, и сверкали они с ужасом, гневом и невыносимым презрением. С холодной брезгливостью, почти неслышно, она произнесла, не разжимая пальцев: – Мамочка, mam kłucie w piersiach[115]115
У меня колики в груди (польск.).
[Закрыть]. Убирайся! Ненавижу тебя, и твою музыку, и твой театр, и твоего Гусаря! Слышишь, немедленно убирайся вон!!
Весь багрово-красный от стыда, отвергнутый и потерянный, он сделал еще два шага назад.
– Бася… я хочу сказать…
Звонкая пощечина обожгла Кречетова.
У Алексея все потемнело в глазах от ужаса создавшейся обстановки. Злой на себя, на Варю, на весь мир, он не знал, куда себя деть. «Господи, я теряю ее!» – скакало в голове. Но тут же он задыхался от горечи обиды… Его любимая, несравненная Бася безжалостно топтала его мечту.
В глазах Алексея мелькнуло железо, оно ударилось и отскочило от синего льда ее глаз.
– Ты что, не понял?!
Избегая его взгляда, она тихо качала головой и исступленно повторяла:
– Вон, вон, я сказала…
Барбара вдруг сорвала с шеи подарок, что купил в ювелирной лавке Алешка, и швырнула себе под ноги, будто плеткой по лицу ударила. Камея мелькнула бело-розовым жуком, ударилась об пол, откатилась к ногам Кречетова. На густом перламутре пробежала кривая трещина, склеить которую было не суждено.
Глава 3
С того рокового дня прошла неделя. На дворе жарил июль. Жизнь шла своим чередом, но Алексей по-прежнему не находил себе места. Прошлое страшно тем, что оно крадет у нас будущее, а будущее следует делать сегодня. Кречетов, словно старик, жил прошлым. «Увы, трюфели и рододендроны, как и амурные истории, живут преимущественно в переводных романах, – горько усмехнулся он. – В нашем же среднемещанском климате произрастают только фикусы в кадках, герани в горшках и самоубийцы из-за несчастной любви… Долговязый дурак ты, брат, – ума на твой рост не хватило. Прав Чих-Пых: “Под носом у тебя взошло, а в голове-то не посеяно”».
И все же: о ком бы мы ни плакали, мы плачем о себе. Терзался и Алексей: «О, если бы можно было хоть что-то исправить!» Но искаженное гневом лицо и слова «убирайся», «я тебя ненавижу», брошенные как камни, не выходили из головы. Желчь на Снежинскую, что душила Алешу, пропала. Осталась злость на самого себя, на раздерганность своего характера. Кто бы знал, какую он питал теперь неприязнь к своим разглагольствованиям о «жертвах во имя любви». Кречетов видел себя мелким лгуном и ничтожным трепачом. «Пришло время проявить себя, показать, кто ты есть на деле… И ты показал товар лицом! Эх ты, поэт… Божьим попущением… стихопромышленник… – мучительно думал он. – Корчил из себя д’Артаньяна, а что на поверку вышло?..» Но тут же он принимался выдвигать новый довод, оправдывая себя: «Я поступил так во имя идеи, во имя дружбы, во имя верности данной клятве. Это был мой долг! Но какова цена?»
– А как же долг перед любовью? Или это не долг? – вмешался внутренний голос. – Или, ты полагаешь, долг перед идеей выше долга перед любовью? Где найти ответ?.. А может, надо выбирать, что дороже? Но не получается ли это грязным торгашеством совестью?
Алексей развернулся к окну, достал из тумбочки папиросы, закурил. С улицы, перебивая друг друга, зазвенело сразу несколько девичьих голосов, но Кречетов заставил себя сидеть, хотя в другой раз не преминул бы прильнуть к стеклу. Хмуря брови, он продолжал спорить с собой. «Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть собственно применение наших поступков к этому закону».
И вот сейчас его изводили на нет угрызения совести. Неуверенность и стыд, порожденные в его душе конфликтом с любимой, ввергли Кречетова в полнейшее смятение. «Пойти к ней… Просить прощения?» – крутилось колесом в голове. Но категоричные слова панночки отравленной пулей убивали эту мысль. От сей круговерти «за» и «против» ломило виски, грудь давило, ровно на нее положили чугунную плиту… Уголек папиросы обжег пальцы – вывел из тупого оцепенения.
За окном опять зазвенели звонкие девичьи голоса, их, как ножницы обрезают нитку, оборвал веселый смех парней.
Алешка с завистью глянул на влюбленные парочки, те шли в обнимку, щелкали семечки и оживленно болтали. Облака для них были как облака, небо как небо…
Кречетов смахнул с ресниц навернувшуюся слезу, вспоминая обрывки счастливого прошлого:
– Варенька, мне кажется, я чуточку влюблен…
– Да? И в кого же? – Она озорно смеется, надкусывает ореховую плитку шоколада, кокетливо округляет глаза.
– В вас! – Он срывает с рук белые перчатки, без них удобнее и приятнее, и крепко держит в своей ладони ее доверчивую нежную ручку.
– А вам не кажется, что вы чуточку глупы? Мне не по нраву те, кто столь неосмотрительно сорит словами.
Она дружески улыбается, предлагает угоститься сладостью из ее руки, и грозит пальчиком:
– Будьте осторожны, Алеша, нет ничего тяжелее легких связей.
«Вот уж в яблочко… – Кречетов вдруг с новой отчетливостью ужаснулся пропасти, которая у самых ног его распахнула свой черный зев. – Да… что имеем, не храним, потерявши плачем».
Чтобы хоть как-то снять столбняк напряжения, он принудил себя переодеться и, отжавшись от пола несколько десятков раз, направился в трико и балетных туфлях в танцевальный класс. Там он два или три часа проминал и упражнял свое тело долгим экзерсисом у la grande barre[116]116
Длинная палка (фр.); балетный станок.
[Закрыть], высокими прыжками и стремительными вращениями. Приятно усталый и блаженно расслабленный, Кречетов омыл разогретое тело водой, растер его полотенцем и возвернулся к себе. Он наперед знал: завтра, наутро, дадут о себе знать последствия неумеренной тренировки, затеянной с бухты-барахты через двухмесячный перерыв. Ощущение будет такое, словно его избили палкой до синяков. «Ну так что с того… мне не привыкать».
Алексей плюхнулся на постель, попытался читать «Гана Исландца» Виктора Гюго, но липкая дрема усталости закрыла глаза. Разноперые мысли полетели птицами, унося на крыльях горечь обид и боль треволнений.
Мало-помалу Снежинская отошла на второй план, зато выпукло отчеканился Дмитрий с его хмурой сосредоточенностью и неизменной папиросой в зубах. «Митя… – Алешка улыбнулся сквозь сон мысленному образу старшего брата. – Ми-тя… – растягивая по слогам его имя, повторил он. – Как жаль, что все так получилось, как жаль…»
* * *
А ведь было время, когда они искали встречи друг с другом, черпая в творческом общении крепость и силу; были чрезвычайно любезны, стараясь выказать свое братское отношение, и просто радовались жизни. «Человек рождается ребенком и умирает ребенком, лишь в промежутке становясь взрослым. Любовь же и творчество рождаются детьми и остаются ими… Так будем оставаться детьми, братец! – восклицал Дмитрий, хлопая по плечу младшего, и весело добавлял: – Не ищи забвения – оно само найдет тебя».
Алешка при первых минутах их встреч испытывал какую-то возрастную неловкость, но, раз-другой переглянувшись с Дмитрием, начинал улыбаться и сразу чувствовал себя непринужденно и просто. Острые языки шутят: «Искра не родится от удара камня по грязи». Братья Кречетовы в сем смысле были кремнями.
Правда, до момента их сближения младший не в состоянии был понять настроений старшего. Дмитрий, и без того категоричный в суждениях, довольно скрытный по натуре человек, в обществе Алексея терпеть не мог плакаться о своих проблемах. И лишь в процессе их творческого союза Алешка открыл для себя абсолютно новые стороны во взглядах и убеждениях брата. Личные вопросы Мити, оказывается, ныряли в пучину общественных: сливались, расходились, пробивая свое русло, разветвлялись и терялись в непонятных для Алеши бездонных колодцах жизненного осмысления. В своих рассуждениях он улетал очень далеко, подчас, незаметно для себя, впадая в идеалистическое резонерство. Спохватывался, иронично усмехался своему, как он говорил, «ребячеству», уходил в себя. Интересно, что при этом он мог вполне трезво и резонно оценивать те или иные ситуации. Вразумляя Алешку, он ловил себя на том, что сам весьма непоследователен в житейских принципах, к которым призывал, которые хотел бы видеть «по гамбургскому счету» как в брате, так и в себе. Эта скрытая, но явная неувязка тяжелым ярмом висела на Дмитрии, бесила, вгоняла в невеселые раздумья. В такие напряженные часы его жизнь, вплоть до пустяков, подлежала дотошному анализу, зачастую не приносившему ничего, кроме раздражения. Он понимал: подобные самокопания ни к чему положительному привести не могут. Боялся этих состояний, по возможности избегал их. Но они всегда витали где-то рядом, плавали, как табачный дым, и удушливость их чувствовалась всеми его фибрами.
Познав хмель творчества, он с изумлением открыл сам себя, будто заново родился; в Дмитрии заиграли новые, приводящие в восторг, утонченные струны души.
Но радость не познается без трудностей. Бытие старшего брата было поделено надвое, как рассеченное яблоко: юридическая практика теперь стала мукой из-за творчества, творчество же стало мукой из-за проблем на службе. Нередко Дмитрия посещали противоречивые мысли: «Правильно ли я вообще поступаю? Имею ли на это право? Что взять с Алешки? Он, как мыльный пузырь, всегда радужно настроен. Живет в своей “учебке” на всем готовом: ни забот, ни хлопот. Так не ребячество ли мои стишки? Я взрослый, служащий человек, опрокидываю практически все с ног на голову… И во имя чего? Ведь дико то, что я не ведаю, во что выльется сия затейщина. В творчестве мало быть талантливым и правым. В творчестве надо быть правым вовремя… Мы убиваем с ним время, а время убивает нас. Так на что я рассчитываю? На признание, славу? А не есть ли это пустые химеры? Да, лимонная доля всегда горькая».
От таких размышлений раскалывалась голова, опускались руки; все казалось глупым, надуманным, смешным. Ко всему прочему, Митю тихо раздражала в их альянсе его объективная зависимость от младшего братца. Он, что греха таить, не представлял себя без юношеского запала, энтузиазма Алексея, без его музыки, которая была не лишена оригинальности выбираемых гармоний, яркости модуляций и мелодичности темы. «А кто такой Алеша? Щегол семнадцати лет – ветер в башке… Кто знает, что ему завтра взбредет в голову? Где гарантии, что он не пролетит мимо “скворечника”? Еще его театр… – ревностно думал Дмитрий, ощущая себя кораблем, который затирают льды. – Ладно, поживем – увидим… и живопись может быть мертвой, – с философским скрытым злорадством заключал он и вновь качал головой: – И все-таки глупо все… шатко. И я, зрелый, мрачный дурак, ни черта не могу с собой поделать. Вот где собака зарыта, вот что поразительно и страшно! А что делать? Ничего не попишешь – надо платить, батенька… – желчно иронизировал сам над собою Митя. – Чтобы бегать, надо бегать».
И чем дольше он раскладывал этот пасьянс, чем больше прогонял в мозгу черными толпами вариации возможного, тем тягостнее становилось на сердце, тем больше появлялось сомнений в правоте избранного им пути. Он потерял спокойствие: на службу ходил взвинченный, в голове роились пчелами рифмы, думы о спивающемся отце, об измученной маменьке, о брате… Придя в снимаемую им квартиру, весь на нервах, он как можно быстрее решал необходимые бытовые вопросы, заваривал «черного купца» на самоваре и рьяно хватался за перо. Глубокой ночью, устало забираясь под одеяло, Дмитрий переживал неприятное чувство изгоя, человека, которого обошла стороной Фортуна. Быть же пятой спицей в колеснице Аполлона ему, убей, не хотелось.
Тем не менее разлад с Алешей из-за корнеевской певички тяжело переживался и Дмитрием. Внешне оставаясь прежним, в душе он крепко серчал: все задуманные ими прожекты казались ему теперь еще более несбыточными и эфемерными. «Вот и получается, братец, что на деле мы с тобой только литературные консервы: творцы, так сказать, в собственном соку».
* * *
Так, в маете и переживаниях, в пестрых снах, прошла еще одна ночь. Проснулся Алешка чуть свет – каждый мускул болел и ныл, напоминая о вчерашних нагрузках. Чтобы подняться с кровати, ему пришлось держаться за спинку стула и кряхтеть, как столетнему деду. «Вот уж точно: заставь дурака Богу молиться – лоб расшибет. Не знаешь ты меры, Кречетов… вечно тебе ни в чем нет половины. Долихорадился со своими антраша, долбаный пируэтчик… Вперед наука…»
Однако на окольцевавшую его с ног до головы корруптуру в потешке издревле имелось одно надежное средство под названием «медвежьи слезы». Чудодейственный состав его был, как все гениальное, прост. Страдавшего растяжением мышц, невзирая на его стоны и мольбы, мастаки гнали к палке, где клин вышибался клином. Эта старая как мир народная мудрость: «Ногам больно, а ты встань да пойди» – была круче всяких массажей, втираний и внутренних средств. Тело трещит по швам, а ты терпи! Связки, кажется, вот-вот порвутся, а ты «выжимай из себя по капле раба!». Глядишь, через полчаса тебе ни бобковые мази, ни потогонские бальзамы не нужны. «Вот тебе и “медвежьи слезы”, голубь, куда, позвольте узнать, девался ваш премногий недуг?»
Кречетов, морщась от боли, умылся и, натянув трико, заковылял в свой «пыточный каземат». Там, стискивая зубы, он медленно, но верно разминал мышцы спины и ног. От турника Алексей перешел к брусьям, где разогрел пресс, плечи и грудь, и только после этого направился к палке.
В то утро Алешка еще с оглядкой утруждал себя сложными движениями в аллегро, остерегаясь возвращения боли. Но уже на следующий день к нему вернулись гибкость, упругость и сила мускулов. Он вновь был тем гуттаперчевым Кречетовым, на блестящие пируэты и виртуозные заноски которого взрывался громом аплодисментов зал.
Регулярные тренировки за время жизни Алешки в училище дали наглядные результаты. Из тщедушного «гадкого утенка» он превратился в красавца-лебедя. Достигнут был не только внешний эффект. Стройный как тополь и гибкий как тис, он был вынослив и крепок. Сила, которая гуляла теперь в его юном теле, могла на равных поспорить с силой взрослого.
Время после разлуки с Барбарой для Кречетова проходило в борьбе с железом и гимнастическими снарядами. Через эту борьбу он делал себя самого… В это последнее выпускное лето он стал другим: замкнутым и непонятным и для дежурных наставников, и для болтавшихся попусту, так и не разъехавшихся по домам потешных.
В трапезной он сидел за столом один – недоступный, погруженный в себя, точно узник. Две случайные встречи со Снежинской, которые все же случились в городе, он попытался не заметить – отвел глаза и прошел мимо… Но, оставаясь с собой наедине или с Сашкой, часто думал о ней, вспоминая былое…
Гусарь как-то вдруг за один год заматерел: стал основательно бриться, чаще выпивать, словом, выглядел значительнее и старше. Изменилось и его поведение. По преимуществу он тоже молчал или дымил папиросой, уставившись в окно. В этом, как казалось Алексею, было что-то аскетическое, мужественное. Возможно, сказывался год разницы в возрасте, а возможно, это была своеобразная форма выражения чувства вины перед другом – Гусарь отчасти считал себя повинным в неудаче Кречетова. Впрочем, ответ на это дать сложно. Важно иное: и тому, и другому было приятно помолчать, окунувшись во что-то свое, при этом осознавая товарищескую близость. В такие часы Алексей часто предавался воспоминаниям удивительно счастливого времени, когда он был с Варей. Память неспешно перелистывала милые страницы их встреч… Приносила ноющую боль, вызывала глубокий вздох сожаления. И трудно угадать, что больше угнетало его: день вчерашний или день сегодняшний.
Сколько было экзерсисов, Алексей всегда помнил, как, изнемогая от усталости, в бесчисленных повторениях упражнений, на серой извести потолка и на сырых от пота стенах он видел незримый для всех образ Баси. И ее призрачное присутствие давало ему силы и упорство в покорении поставленной задачи. Превозмогая боль стонущих мышц, юноша мысленно общался и свято верил в перелом их взаимоотношений с любимой.
Странное дело память: она оставляет в душе лишь доброе и светлое о прошедшем. И все же, как бы ни были прекрасны и чисты наплывавшие воспоминания прежних дней, они кололи сердце Алешки, наполняя его меланхолией.
Но знал ли он, что как раз эти воспоминания, именно эти состояния глубоких раздумий и чувств вольют в него то обостренное чутье и ту индивидуальную музыку души, гармония которой даст взлет его дальнейшей творческой биографии? Вряд ли… Кречетов, похоже, и не задумывался о сем. Брожение этого процесса подспудно, исподволь только-только начинало шевелиться в нем, пугливо и неуверенно прокладывая себе дорогу.
В то время он много читал книг и, ероша в беспокойстве волосы, надеялся на чудо. Но надеяться на чудо, не прилагая воли, – нонсенс. Как говорил в этих случаях Митя: «Если ты не можешь найти себя, полиция тебе не поможет. Эта мечтательность в “ничто”, то бишь в дарованное случаем – глупость. А в глупости человек сохраняется, как шуба в нафталине». «Что такое мечтательность? – рассуждал Алексей. – Это плод неудовлетворенности действительностью… Она вечная спутница слабых. Человек, не ощущающий в себе необходимых сил, которые могли бы перегнуть к лучшему его жизнь, пасующий перед преградами, – бежит в розовый мир миражей. Но вряд ли эту “беззубость души” можно причислить к романтике. Ведь не каждый поминутно смеющийся – оптимист. Чаще он просто дурак». Что до салонного романтизма без дела и без борьбы… так о сем его учитель Козаков метко сказал: «Мутность прощают вину, но не родниковой воде».
Тем не менее реалии жизни во многом не устраивали Кречетова, загоняя его в дебри воображаемого; притягивали к Гусарю, который вообще «с макушкой» жил в мире «несуществующем». В забавной малороссийской форме он возбужденно и шумно «гутарил» другу о их будущей актерской жизни: в краю цветов, поклонниц и славы… При этом он демонстрировал различные вырезки из столичных журналов, газет, красочные открытки, что подспудно ласкало восторженную душу Алексея. Внутреннее сомнение в верности слов бесшабашного романтика Гусаря, конечно, жило в груди Кречетова. Но он открещивался от него, страшно желая верить в прекрасное будущее. В те годы ни тот ни другой не могли согласиться с тем, что их чрезмерно радужные мечтания усугубляли истинное восприятие жизни… Друзья жили другими началами, понятными только им двоим, и страдали от неразделенности своих идеалов.
Однако Алексей в отличие от Сашки мечтал по-иному. Он верил, что вот-вот пробьет час и он будет действовать. Будет действовать решительно, наперекор всем тем кривым и скептическим ухмылкам надутых «степенств», которые сами не в состоянии оторвать свое седалище от теплого дивана. И именно эмоциональность, именно восторженность, именно мечтательность в союзе с волей дадут ему неиссякаемую веру и силу в достижении цели. И, разбивая нос от ступени к ступени, по которым он будет карабкаться, испытывая лишения, он только закалит себя, наполнит одержимостью фанатика, убежденного в реальности достижения желаемого.
В дни, когда Алешка терзался вопросами о влюбленной полячке, он понимал: на возможное чудо – будь то записка, письмо – и следующее за ним примирение надеяться не приходится. Интуиция подталкивала к действию, но ослиное упрямство, сидевшее в седле болезненного самолюбия, крепко держало его на цепях. Он злился на свою неподатливость – на эту карикатуру характера. Ведь стоило сделать только первый шаг… Но, как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ветер терзаний оборвал наконец и этот фиговый лист: Алексей набрался мужества и презрел догматы прежних обид. Он принимал бой, навязанный ему его же мнительностью… «Конечно, кому-то мои страдания могут показаться нелепыми и смешными, – рассудил Кречетов. – Но это только тем, кто сам никогда не любил, не мучился сомнениями, кто был всегда себе празднично ясен… Но извините, господа, без сомнений живут только кретины».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































