Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
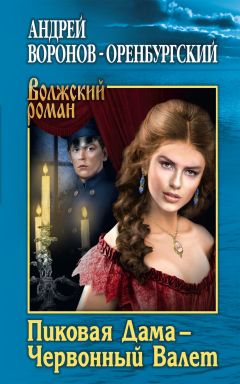
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц)
Глава 9
Казалось, все в жизни корнеевской певицы складывалось удачно, покуда судьба-злодейка не столкнула ее с адъютантом его превосходительства. Ее тайная связь с Белоклоковым в период рождественских гуляний в Саратове дала пищу для долгих разговоров. Нежданное известие, пущенное в узком кругу приятелей, отнюдь не для огласки, ротмистром Крыловым, тут же разнеслось по всему полку и стало главной темой бесед и споров. Газеты и журналы тех лет пестрели горячими сводками о Кавказской войне, новыми волнениями в Царстве Польском, выездами, визитами и приемами Его Величества Николая Павловича, но здесь, в Саратове, те, кто знал Белоклокова, Неволину и графа Ланского, говорили лишь о сем злосчастном недоразумении.
Зима в том памятном году удалась на славу, долго стояли трескучие морозы, то с мелкой, колючей, как наждак, снежной крупой, то с пронизывающими до костей ветрами, сугробы порой вздымались до крыш, но все это после тяжкого трудового дня лишь умножало потребление горячительных напитков и кипятку с медом, ибо уж так повелось на Руси, что в лютую стужу и дождь сие есть первое средство от воспаления легких, общей хандры и прочей простудной болести. Метель с Волги продолжала вьюжить и выбелять улицы, а все трактиры и кабаки были забиты военными. И за многими столами, если не везде, только и разговоров не было, что о приключившемся любовном треугольнике.
Несколько позже ближайший синеокий друг корнета – Евгений Хазов, тоже, кстати, без всякого злого умысла, подложил свинью своему другу, сообщив за бильярдным столом узнанные им подробности: оказывается, Андрей вместе с Марьюшкой сразу же после сочельника, выждав удобный момент, когда полковник вместе с генералом Будбергом отбыл на две недели в столицу, бурно отдались своим назревшим чувствам… Молодая чета гремела бубенцами тройки за городом в белых снегах, взрывала бутылки с шампанским, и все одна, без лишних глаз, разве что при молчуне Ефреме, от которого и за ведром вина не допросишься лишнего слова. А уж молодые там, без опаски… только и знали, что нежничали: ласкались друг с другом, шептались и целовались верстами, забыв про пушистый снег, про немую спину денщика, про весь белый свет.
– А ты-то, сокол, как дознался о сем? – осадили друзья вопросом Хазова. – Неужто свечку держал, брат?
– Свечу не держал, господа, врать не стану. Но так ведь Грэя я… и во тьме от вас, чертей, отличу! То я не знаю его саней? Да и болвана Ефрема его… мне ли не вспомнить?.. Дело было по вечеру, третьего дня, как сейчас вижу… Уж крепко смеркалось. Я жалил своего Гермеса плетью и шпорами, промерз верхами, жуть. Чу! Слышу… далече заливисто эдак… не то бубенцы, не то дорожные колокольцы сердце согрели: дзинь, дзинь, дзинь… с нежной напористостью так – дзинь, дзинь, дзинь… Я еще подрезвил своего рысака, а на повороте глядь – в искристом облаке… на всех-то парах, в ражую меть – они. Она – в собольей шубке до пят, с волосами навыпуск, ах, хороша! Царица!.. И наш красавец – доломан нараспашку, кивер в коленях брошен – будто и не мороз. И так они крепко сплелись в объятиях, скажу я вам, господа, так замерли в поцелуе… ну-с, просто как завидно! Вот крест, до соли в глазах…
– Ну а дальше-то что?
– Да погодите вы! «Что», «что»… Пролетел мимо них, как ядро. Один снежный буран позади. Лихо летели! Поди ж то меня и не слышали вовсе. Помню только, она ресницами черными дрогнула, а он ее крепче к груди прижал. Ну, Белоклоков, ну, каналья!.. Страх забирает меня, господа, как да прознает об этих шашнях Ланской… Всю дорогу до постоя о сем и ломал голову… Да уж, история.
– Ай, пустое, поручик! Ему и сам черт не брат! Выпутается, один бес…
– Не знаю, не знаю… Уж поглядим… Как на духу, боязно мне за него… С огнем играет, дурак, не опалил бы крылья. Да и она – хороша отрава… Невдомек разве? И себя, и его под монастырь подведет… Будут потом знать: где и кого называть ласковым имечком.
Корнет много еще проходился по поводу Белоклокова, серчал на пару с Крыловым о своем забубенном товарище, чем только подливал масла в огонь. Все эти возмутительные подробности, а пуще домыслы послужили новой затравкой для размышлений и пересудов.
Сплетни, подобно гиблому сорняку, пустили длинные корни и поползли за ворота полка: от дома к дому, от улицы к улице… В трактирах, где азарт и воодушевление подхлестывались вином, эти обсуждения порой принимали скандальный характер. Скабрезные вопросы сыпались, как горох, но на многие из них решительно никто не мог ответить. То тут, то там слышались слова откровенного неодобрения в адрес зарвавшегося адъютанта, мрачные предсказания и даже проклятья.
Не будь столь любим и почитаем командир полка граф Ланской, участник бородинского сражения, кто знает, быть может, не так и роптали бы господа офицеры…
Сообщение Евгения Хазова вскоре подтвердилось новыми пикантными подробностями, и связано это было с незаконной рубкой леса.
Господа офицеры в Саратове жили свободно, положительно ни на кого не обращали внимания, кроме своего начальства. На гражданских сановников военные смотрели как на людей, ничего не значивших, точно те были второго сорта. Во время квартирования гусарских полков, состоявших по преимуществу из детей благородных семейств, город, помимо балов и учений, гордости за ратную удаль русского оружия, хлебал и немало горя. Сколько было заведено дел в губернии о самовольной вырубке ценных лесов для устройства конюшен, манежа, отопки офицерских квартир и солдатских кухонь, не знал никто! Для рубки нужного леса офицеры высылали крестьян под надзором нижних чинов, затем срубленное вывозилось на место, где и устраивалось необходимое, а позже господа форштмейстеры заводили судебные дела и относили эти бесчинства на самоуправство крестьян. Несчастные платили за эти незаконные вырубки штраф, кто скопленной копейкой, кто последней коровой, а кто и своей свободой. Однако господ это обстоятельство не занимало, и все шло своим чередом.
В один из таким выездов по заготовке строевого леса, которым руководил полковник Александр Иванович Муравлёв, отец-командир изюмских гусар привез в Саратов ошеломляющую весть.
У лесниковой караулки – малой избы, что прижилась на опушке леса, люди полковника наткнулись на влюбленную парочку. Обнаружив себя, молодые не замедлили ретироваться, но не скрывно и тайком, а открыто, с явными перьями дерзости, ровно бросали в лицо каждому кочевавшее среди гусаров присловье: «Нам сие не в зазор! Кто нынче Богу не грешен, царю не виноват?»
Любовники в щегольском возке, будто пощечины раздавали, проехали в самой близости от армейских фур, не скрывая лиц, едва ли не рассмеявшись в глаза потрясенному Муравлёву. Их амурная идиллия, как саван, окутала всех служивых, сквозь ряды которых промелькнула тройка. Парочка ехала рука в руке, с устремленными друг на друга глазами, глупо и счастливо улыбаясь, нарочито безразличная ко всему, что их окружало. Многих всерьез насторожило не только легкомыслие любовников, их непочтительно выставленные напоказ отношения, но и случившиеся метаморфозы, которые демонстрировал адъютант, которые мог не увидеть только слепой. Изюмцы, знавшие Белоклокова, не желали верить своим глазам.
– Но это же нонсенс, господа! – говорили одни. – Грэй! И чтобы променять свободу на юбку!
– La garde meurt, mais ne se rend pas[50]50
Гвардия умирает, но не сдается (фр.).
[Закрыть].
– Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas![51]51
Не стоило танцевать, если не умеешь! (фр.)
[Закрыть]
Миру давно известно: любовь в силах вершить невероятные гримасы с людьми. Весельчак становится мрачней тучи, скупой – щедрым, трус – храбрецом…
Как ни крути, а мало кто из гусарского окружения корнета мог заключить, что Андрей Белоклоков, славившийся твердостью характера махрового бабника и гуляки, вдруг да прилипнет к какой-то пуховке. И ладно бы речь шла о женитьбе… «Но тут?.. Боже! Какой скандал! Позор, господа, несмываемый позор на весь полк!»
И ко всему прочему, предательство нерушимых прежде основ гусарского братства: ни при каких условиях не переходить дорогу своим на амурном поприще… Что говорить? – этот поступок взгневил и разочаровал многих товарищей адъютанта, но главное – создал дурной и опасный прецедент для молодых юнкеров, только-только начинавших свою жизнь в полку.
Сердца павлоградцев клокотали возмущением, все осуждали корнета, но все молчали, боясь выдать товарища, искренне жалея и самолюбие старого графа. Но шила в мешке не утаишь. И если господа военные хранили обет молчания, то гражданские, среди которых были солидные и уважаемые персоны, осуждающе покачивали головой и за игорным столом, и в ложах театра.
Другой расклад пасьянса был у слабого пола. Те, кто раньше познал жар объятий и мед поцелуев чернобрового адъютанта, те, кто прежде был убаюкан его заверениями в любви, теперь в разных концах города горько рыдали, скрипели зубами и, ворожа при свече на бобах и кофейной гуще, клялись отомстить ветреному насмешнику.
По мере того как сгущались тучи над судьбою корнета, близкие друзья ломали в отчаяньи пальцы, как вызволить потерявшего голову товарища. Но сколько они ни пытались найти дорогу к спасению, как ни велико было их желание оградить корнета от мерзкого шушуканья – все было пустое.
– Бедой пахнет, Валерий Иванович, – истребляя трубку за трубкой, темнел лицом Хазов, кусал пшеничные усы и трякал лакированными ногтями по подоконнику. – Того и гляди грянет скандал, тогда жди отставки! Вон из полка и конец карьере! Ох и дур-рак же наш Грэй.
– Больнее другое, поручик. Не наш, не наш он теперь стал… Премного не прежний… А другого такого нет! Черта с два на дне моря сыщешь. А ведь нет нам без него жизни, нет и веселья… – Крылов с сердечным вздохом похлопал по плечу Евгения и зло сплюнул: – Черт бы его подрал! Как слепой щенок, как последний кутенок привязан к сей сделке. А с ней, стервой, вести разговор, сам знаешь… Уж мы ли порох не жгли? И деньги сулили, и к разуму призывали… и угрожали – все дым, убить ее разве, тварь?..
– Брось вздор молоть, братец! Загубим себя, навеки врагами станем и графу, и Грэю. Нет, тут надо другую дорожку тропить. But all is well what ends well…[52]52
Но все хорошо, что хорошо кончается (англ.).
[Закрыть] Надо молить Господа, чтоб Он просветил его голову. Ей-богу, бродит впотьмах, не ведая, что творит…
И только сама госпожа Неволина твердо хранила непоколебленной свою веру в любовника, как боевое знамя, поднятое над баррикадами слухов и развевавшееся на ветру споров.
Все между тем решилось быстро и кратче, чем загадывали карты, чем ворожили бобы и капанный в воду воск…
Полковник Муравлёв, оскорбленный до глубины души хамским поведением павлоградского адъютанта, так и не получив ни устных, ни письменных извинительных слов, после недолгих колебаний лично упредил о сем происшествии графа.
В тот же час, лишь только Муравлёв раскланялся с помрачневшим от гнева графом, корнет был немедля вызван пред очи своего командира. Несколько минут спустя на пороге кабинета, тревожно блистая голубыми белками глаз, застыл адъютант его превосходительства. Андрей был в своем «из-под щетки» блестящем мундире и, как обычно, хорош. Однако его смугло-загорелое лицо на этот раз было взволнованно-бледным и по-мальчишески растерянным. Черно-карие глаза глядели на графа с плохо скрытым испугом.
При виде своего любимца граф дернул плечами, суровое лицо вместо привычной улыбки болезненно искривилось.
Не смевший шевельнуться корнет мысленно трижды перекрестился; ему показалось, что весь кабинет, все прежде понятные, знакомые глазу вещи и мебель, находившиеся в нем, равно как и сам воздух, вдруг стали чужими, враждебными и дышали теперь презреньем и ненавистью. Сам граф стоял у окна и никак не отреагировал на учтиво склоненную голову адъютанта. Когда же за Андреем с глухим щелчком затворилась дверь и он по приказу полковника подошел к точеному бюро, за которым по старинке любил работать Николай Феликсович, слух его обжег выстрел вопроса:
– Это правда, что вас третьего дня видели с нею?
– Так точно, ваше превосходительство.
– И вы, конечно, болтали ничего не значивший милый вздор, корнет?
– Истинно так, ваше превосходительство, только…
– Лжешь, мерзавец! Нынче мне на всю правду открыл глаза господин Муравлёв! И про ваши катанья, и ваши грязные шашни при луне, и… Молчать!
Остро отточенный карандаш в пальцах графа с хрустом переломился и поскакал по паркету. В следующий момент дрожавший от яри мелкой сыпью кулак Ланского грохнул по столешнице.
По бледному лицу Белоклокова пробежала темная судорога. Андрей замер в ужасе, язык прилип сухим листом к нёбу… А беспощадный голос полковника продолжал допрос, точно забивал гвозди в крышку его гроба:
– Правда ли, что ты… за моею спиной… уже не первый раз позволяешь себе эту мерзость?
– Да, ваше-с… – сипло, будто что-то перехватило ему горло, пролепетал адъютант.
– Верно ли то, что ты имел с нею близость? Ну-с?! Изволь отвечать, спал ты с этой изменницей-шлюхой?
– Да, ваше превосходительство.
– А это тоже правда, что ты, негодяй, истратил на эту девку все казенные деньги, доверенные мною тебе?
– Правда, – едва живой, пробормотал Андрей, но тут же попытался клятвенно заверить, что внесет свои деньги, как только получит из дому.
– Молчать!! И после всей содеянной пакости ты еще смеешь дышать на сем свете? Ты, очернивший мою честь и имя своих почтенных родителей? Ты, предавший мое доверие?.. Эх, жаль не тебя мне… Жаль мне твоих мать и отца… благородные люди, и вот за такого одра, как ты, им до смерти краснеть придется.
У Белоклокова при этих словах все заскользило перед глазами, будто в кошмарном сне. Он хотел что-то аргументировать в свою защиту, но продолжал лишь неметь в тупом одеревеневшем отчаяньи.
– Ну вот что, – с пугающим холодом, тихо, но жестко, молвил полковник. – Был бы ты мой сын, ей-богу, предложил бы тебе застрелиться. Мертвые сраму не имут, а так… завтра же отпишу генералу… И с глаз долой – в арестантские роты… на Кавказ, в войска! Там тебе отобьют форс! Там научат уважать командиров! Будет тебе наука, как позорить гусарский мундир. Так и знай! А теперь прочь с моих глаз! Ступай, утри слезы своей фуфыре… да подари ей на прощанье какой-нибудь фермуар…[53]53
Ожерелье или пряжка-брошь (фр.).
[Закрыть] На Кавказ она к тебе не приедет. Честь имею.
От такого решения земля ушла из-под ног адъютанта. Окольцованный страхом полного краха своей молодой и кипучей жизни, теряя достоинство, он как стоял, так и рухнул на колени к ногам Ланского, жарко стараясь вымолить милость.
Однако эта картина унижения, это безволие и тупая покорность явились тлеющим фитилем, поднесенным к пороху.
– Ты дворянин? Офицер или баба?! – разрубая тишину кабинета, взорвался полковник. И, более не в силах сдержать своего гнева, пылая набрякшим сабельным рубцом, он накинулся ястребом на стоявшего на коленях адъютанта.
Тогда-то и была хвачена холеная бакенбарда корнета железными пальцами и драна под корни взбешенным командиром.
Слава богу, в ту минуту за окном, на плацу, высоким стаккато сыграла полковая труба, сзывавшая павлоградцев на построение к общему смотру. Эта счастливая оказия отчасти отрезвила графа и подарила возможность ретироваться битому адъютанту.
Уже у себя на диване, постанывая под заботливой рукой денщика, морщась от крестьянских бодяжных примочек, Андрей тщетно пытался унять заполошный стук сердца. Но как ни вертел, как ни крутил он выпавший на его долю расклад – приходил к одному: стоит благодарить Христа и креститься локтем уже за то, что остался вживе… Кто-кто, а он знал, что Ланской в такие моменты «выпадал из разума»… глаза его застилал алый туман, и он становился хуже дикого зверя. Андрей вдруг представил, как топчут его сияющие хромом сапоги полковника, как гневно звенит серебро шпор и как когтистые кулаки бьют его красивое, еще недавно счастливое, а теперь окровавленное лицо, и ему стало нестерпимо жалко себя, жалко свою судьбу, свою душу и молодое тело. О Марьюшке, что дарила ему беззаветно, на свой страх и риск, любовь, он теперь и не думал. Как обойдется с ней колесо фортуны? Промчится мимо или переедет своим железным, не знающим жалости ободом?.. «Что горевать и томить сердце о гулящей девке? Пустое, – спокойно и холодно заключил он. – Все было ясно наперед: облетел белый цвет, и прощай…» Нет, не думал Андрей о Марьюшке, как не терзал память и о тех рядовых, которым его офицерский кулак частенько разбивал в кровь зубы и носы… Мучило корнета одно: справит свою угрозу Ланской или нет…
Слабая надежда на милость все же жила, оттого как Андрей преотлично знал, что ходит в любимцах у графа… Знал и другое: старик лют во гневе, но пуще отходчив, скор на прощенье и отцовскую ласку. «Завтра же отпишу генералу… И с глаз долой – в арестантские роты… на Кавказ, в войска!» – выжглись в памяти угрозы полковника.
Но вот пришло пугающее завтра… потом, как брошенная милостыня, еще день отсрочки, еще и еще, а за бледным от страха и горя корнетом никто так и не приехал, ни нарочные, ни посыльные… никто.
– Неужели прощен? Господи свят, благодарю! – Белоклоков трепетно молился на образ, а по счастливым щекам его текли слезы радости.
К вечеру четвертого дня несчастный адъютант был требован к графу. Разговор был краток и сух, как текст военной депеши:
– Что ж, корнет, в карцер вас закатать под усиленный арест – это святое… Плюс к сему две недели без отпуска и… три дежурства вне очереди. Полагаю, этого будет довольно. И вот что, адъютант. – Старик, все так же по-ястребиному поводя плечами, отвернулся к окну. – Прежде чем сдадите оружие дежурному офицеру, извольте побывать у изюмцев и лично, без всяких там бумажек, извиниться перед полковником Муравлёвым Александром Ивановичем. Понятно?
– Так точно, ваше превосходительство! – боясь проявить излишнюю радость, гаркнул корнет.
– И впредь, – Ланской, с суровым прищуром продолжая смотреть в окно, на миг замолчал, – не фолишенируйте[54]54
От folie – безумие (фр.).
[Закрыть], корнет, не советую. В первый и последний раз прощаю. Благости во мне к вам… больше нет. Выйдете из-под ареста… жду на службу. А теперь оставьте меня…
Глава 10
– Ну что же вы, Алешенька, идемте! По́лно глазеть на это пьяное непотребство. Ваш чудный вечер чуток споткнулся, а вы уж думаете – упал и разбился. Глупый ты мой, ну прямо красная девица.
– Благодарю. – Алексей виновато улыбнулся.
– Сущие пустяки. – Неволина кокетливо рассмеялась.
Ее пышные юбки призывно зашуршали по ступеням, окутав его нежным облаком жасмина. Юноша покорно направился следом, но его возбужденный взгляд продолжал беспокойно скользить по гудевшей толпе, по мрачным шинелям городовых, ища и не находя лица Мити.
В зале, откуда с заломленными руками уже выводили буянов, снова встрепенулась и заиграла музыка, привычно замелькали рубахи половых, послышались «здравицы», «многия лета» и тосты.
– Лешка, не подкачай!
У младшего Кречетова отлегло от сердца. За одним из столов, в обществе корнеевской пташки, он узрел беззаботного, счастливого брата. Тот ободряюще махал ему выброшенной вверх рукой и задорно гримасничал.
Сама Марья Ивановна в этот час тоже была в ударе. Мальчик ей положительно нравился. Обиду на корнета она, конечно, продолжала держать в оскорбленной душе, но сейчас та была расчетливо задвинута на дальнюю полку. Да, ее злило вертопрашество и фиглярство корнета, резкие и колкие, что жало осы, ответы на ее женскую ревность:
– Ты невыносим, Грэй!
– Так забудьте меня, тетенька. Что за беда? Вам надо сменить декорации, и только. Глупо из-за сего ссориться. Ну, хлопнула нас жизнь по щеке пару раз… ничего, не отлетит… Прости, я, может быть, и вел себя как медведь… Но Ланской далеко не набитый нафталином тюфяк. Гляди, Марьюшка, оба головы потеряем! А ссоры что ж?.. После них и поцелуи слаще… Ты потерпи, потерпи… Даст бог, все образуется. Мы, может, с тобой еще после, ха-ха, за границу махнем. Так куда мы едем: в Италию или во Францию? Ах, Рим, ах, Париж! – там, говорят, забывают все печали.
– Замолчи! Как смеешь потешаться, видя слезы в глазах?
– «Слезы»? Да полно вздор молоть, ma chere, такими слезами весь город залит после дождя. А, объяснить тебе? Хм, да у меня и слов-то таких не найдется. И не могу я, не хочу!
– Это что, шутка?
– Отнюдь, я всегда так расценивал наши отношения.
– Мерзавец! Я хотела, чтобы ты понял…
– Я уже понял! Любовь для женщины – это святое…
– В твоих устал это звучит пошло.
– Разве? А я полагал – весело. Ты же сама всегда шептала мне: «Дорогой, в твоих устах даже грубость звучит мило». Ты мне твердишь – у тебя тоска и печаль, а я тебе сразу рецепт: вас, моя душка, ждет новый роман. Я и этому молодцу-юнцу заявил: «От тебя, как от сладкой дыни, не уйти… за уши не оттащишь…»
– Это все? Больше ничего не скажешь?!
– А разве мало?
Кареглазый корнет смеялся в лицо бывшей любовнице и махал на прощанье ручкой.
Еще никогда в жизни Марья Ивановна не чувствовала себя столь оскорбленной, униженной. На миг она зажмурилась, чтобы не видеть Грэя, не видеть своей подружки, на губах которой играла победная улыбка. Бледнея лицом, она отошла в сторону, сжала зубы, чтобы не закричать. А ее корнет все настойчивее продолжал целовать в губы Катеньку, что-то шептать на ушко ласковое и веселое, отчего та таяла в его объятиях, как вишня в шоколаде, и заливалась пустым, но заразительным смехом.
Глаза Марьюшки застлала пелена, более она ничего не видела, рассудок отказывался понимать. Однако она не набросилась на свою обидчицу, не вцепилась той в волоса. Уж кто-кто, а Марьюшка наперед знала: бабы-соперницы, дерущиеся из-за мужика, – лучшее зрелища для кабака. «Нет уж увольте, пьяные кобели, Неволина так еще не упала… От хрена уши вам, скоты, а не зрелищ! Да и Катька – бог ей судья – ровным счетом не виновата… Одно слово – сучья работа…»
Затаив глухую обиду на бесшабашного Грэя, поднимаясь в свое «кукушкино гнездо», Неволина даже втайне радовалась тому обстоятельству, что прежде была представлена наивному школяру. «Что ж… радуйся, веселись, гусарик, пей шампанское… Недолгое счастье твое… Ох, отольются кошке мышкины слезки… Уж я сумею постоять за себя. Дурак ты, Грэй! Жизнь твоя на нитке, а думаешь о прибытке».
Закусив губу, купаясь в кружевах своей задуманной мести, госпожа Неволина приняла как большую удачу возможность услужить незадачливому юнцу. Выступать в такой роли ей как-то уже доводилось… «Шут с ним, сыграю и теперь…» Однако ее сейчас мало занимал азарт вкусить прелестей юности. Улыбаясь в глаза Алексею, Марьюшка радовалась про себя, полагая, что с помощью этого случая ей искусно удастся привести свой замысел в жизнь.
Уже у самых дверей номера певичка вновь мило улыбнулась; непринужденно, точно брала вишенку из чашки, сунула белые пальцы за кружевной корсаж и, вынув маленький ключик, сноровисто отворила дверь. Делая это мимолетное действо, она успела чуть наклониться вперед, ровно настолько, чтобы следовавший за нею Алексей успел более откровенно приметить манящий изгиб ее пышных грудей. Уловка удалась на славу. Опытный взгляд куртизанки сразу отметил, как отозвалась мужская природа, как вспыхнули жаром молодые глаза.
– Ну что же ты, Алешенька, такой скромный да тихий? Право, как певчий из церковного хора? Прошу, проходи, мой кроткий паж.
В комнате было темно, горела лишь тройка оплывших витых свечей в бронзовом шандале. Закрывшаяся на щеколду дверь смягчила звуки нестройного кабацкого гула.
Весь в нервном волнении, Алексей заметно вздрогнул, когда чуть прохладные пальцы спутницы увлекли его за собой в глубь комнаты, к изящному ломберному столу.
– Садись же, пугливый! Вот невидаль… Разве не видел хмельную бабу? Да я как будто лицом не корява и не крива… нравилась тебе там, внизу? На-ка, выпей лучше, Алешенька… Моя наливочка для настройки всяких музык первое дело. Эх, лицедей, попался ты под обстрел женских глаз.
Неволина качнула прядями подвитых волос, что черной медью скользили по ее белой шее, и наполнила узкий хрусталь рубиновым вином. При этом она словно невзначай качнула стройной ногой и повернула лодыжку вправо-влево, точно осматривала свою, в тон бордовому платью, туфельку.
– Что же, выпьем за наше приключение? – Ее волнующие бархатной глубиной глаза, казалось, поглотили Алешу.
Он согласно кивнул головой, не смея оторвать от нее взгляда. Марьюшка напоминала одну из девиц с аляповатых картонных открыток, что продавались наборами и в розницу на базарах менялами и глухонемыми коробейниками. Одинако во всей этой чрезмерности трактирного макияжа он сейчас находил предел красоты, яркие тона молодости и совершенства. Ее влажные, как у газели, в оправе густых ресниц глаза, в уголках которых едва угадывались наметившиеся морщинки, придавали ее улыбке особую материнскую ласковость.
И когда она подняла высокий фужер, Алеша не раздумывая, как и в первый раз, там, за столом в зале, одним глотком осушил содержимое.
– Не гони так, побереги силы. Тсс! И не журчи лишнего, мой ручеек! – Неволина приложила к алому бутону губ указательный палец. – Отдохни душой, не майся. Как думаешь, может, нам все же пора навести порядок в наших посиделках?
– Пора, – с легкой тревогой в голосе, однако с готовностью откликнулся он и поперхнулся волнением: – Только я не знаю… чего вы хотите от меня, Машенька…
– Зато я знаю. – Певица томно улыбнулась и прищурила левый глаз.
– Да?
– Да, Алешенька, да…
– А что же люди?..
– «Люди»?! – Неволина округлила глаза и, откинув голову, в голос расхохоталась. – Да они блины на блюде… Люди твои скажут, чего и не было…
– Так ведь есть же, Машенька… вы… я…
– Есть… Конечно, есть, Алешенька. – Она еще раз клюнула носиком графина в свой фужер. – Так ведь и ты уж не козленок – мамку сосать. Сам должен решать, чего хочешь, чего нет, к какому бережку прибиваться. И хватит, хватит мне «выкать»! Разве я старуха тебе или тетка? – с наигранной обидой поднялась она со стула и сцепила тонкие пальцы. – Ты вот что, дружок, пока осмотрись… Скинь сукно, разуй грудь – душно… Я скоро, не успеешь соскучиться.
И, прохладно зашелестев кринолином, уверенно стуча каблучками туфелек, она прошла через комнату и скрылась за резной ширмой.
Оказавшись один за столом, Алексей вдруг со всей очевидностью ощутил, как жутко пьян. Стоило ему на минуту закрыть глаза, голова шла кругом, а перед мысленным взором летела пестрая карусель.
«Блудного глас приношаю Ти, Господи: согрешил пред очами Твоими, Благий, расточил богатство Твоих дарований. Но прими мя кающася, Спасе, и спаси меня…» – послышался ему неожиданно осуждающим эхом напев хора из церкви отца Никодима.
Крутнув головой, подавляя подкатывающиеся к горлу приступы тошноты, он суеверно наложил на себя крест, тщетно пытаясь найти на стенах хоть один образок, и прошептал про себя: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое!»
Место, где он находился, показалось жутковатым: «…Сгинь здесь – никто не услышит». Низкий сферический свод давил своей купеческой, дедовской мощью; на потолке играли дроглые тени мерцавших свечей. Пол был устлан арабским ковром, стены глухо затянуты гобеленом, отчего номер напоминал не то шкатулку для украшений, не то табакерку. Рядом с ломберным столом у зарешеченного окна молчал хранивший тайны виденного старинной работы трельяж, а чуть далее угадывались вольные очертания пышного ложа, над которым висела в кудрявой раме картина. Алешка не удержался и, посветив шандалом, пытливо всмотрелся: на полотне среди атласных турецких подушек извивалась в объятиях черного мавра обнаженная наложница. Изогнув аркой в порыве страсти гибкую спину и приоткрыв рот, жаждущий поцелуев, она напоминала собой распахнутый для греха спелый и сочный нежно-розовый плод. Но более воображение Алексея поразил мавр: его звериный порыв и хищный взгляд, сверкавший белками глаз. Черные пальцы жадно впились в белое бедро, другая рука ласкала вздыбленную грудь.
Алексей повел плечом, казалось, чернокожий любовник ревниво и зло смотрел ему прямо в глаза.
Юноша отошел к столу, поставил подсвечник на место. В какой-то момент комната будто крепче сдавила его своими немыми объятиями. Пламя свечей задрожало от невидимых сквозняков и метнулось вдоль стен к темным углам… Обрывки речей, неясные образы всколыхнули сознание Алексея и рассыпались рябью, тревожа беспокойное сердце: маменька, Митя, отец Никодим… воскресная исповедь и причастие… предательски забытые за вином театральная сцена и та незнакомка, воздушный образ которой столь трепетно хранила память…
«Господи, что же я делаю, гадина?!» Противясь липкому хмелю, сгорстив волю в кулак, он заставил себя прояснить голову.
«Надо бежать… Прочь, прочь отсюда!» – стучало в висках. Он собрался подняться и без проволочек покинуть номер, как голос Марьюшки пригвоздил его к стулу:
– Все молчуном сидишь, дружок? Как тебе моя келья? По сердцу, нет ли?
Бесшумно подошедшая сзади Неволина кивнула на картину, но обернувшийся на голос Алеша не смог ответить.
За его спиной стояла в корсете винного цвета ни больше ни меньше как сама жрица любви, Неволина. Стеганый атлас, туго стягивавший талию, пышные подвязки, тончайшие чулки и прозрачный, такого же темно-винного цвета пеньюар одновременно испугали и покорили мальчишку.
– Мы до сих пор одеты? Нет, нет, нам пора заняться делом… – Она дразняще перехватила его растерянный взгляд и, томно покачивая бедрами, не снимая туфель, прошла к кровати.
Алешка, пришпоренный словами певички, поспешно поднялся и принялся было застегивать пуговицы на своем мундире, когда приметил грозивший ему с перины пальчик.
– Глупый, совсем не тем надо заняться… Сними быстрее с себя эти скушные вещи и помоги мне… Надеюсь, ты должно воспитан и не оставишь без внимания желание дамы? Помоги мне, ну же! Ох уж эти несносные петельки и крючки, все ногти сломаешь, пока дотянешься до них. И чулки. – Она, откинувшись на подушки, совсем как та наложница на картине, вдруг подняла вверх ногу и капризно наморщила нос: – Зачем они мне? Тебе? Так ты поможешь своей подружке справиться с этим?
– Ты счастлива со мной, Машенька? – Его вспотевшие от волнения пальцы судорожно исполняли прихоть Неволиной.
– Ой, осторожнее, не узел на мешке развязываешь! Так, так, а у тебя нежные пальцы, но сильные, давай, давай… – Она выше подняла локти, придавая своей просьбе вид самой обычной услуги, позволив снять с себя врезавшийся в тело атлас. – А теперь позволь, я помогу раздеться тебе.
– Нет! Ты не ответила мне, не ответила! – вырвалось из его груди. – Ты счастлива со мною?!
– Это вопрос или предложение? – насмешливо прищурив густые ресницы, откликнулась она. Голос ее был тихий, как стоявшая за окном зимняя ночь. И вдруг рассмеялась высоко и громко, с нервической нотой, прикрывая свою наготу кружевным корсетом. – Ах, Алешенька, ах, золотенький! Да не смотри же ты на меня, как солдат на вошь. Шутка, миленький… Не обращай внимания на конченную девку. Я же грязь, шлюха, доступная баба, Акулька пиковая, ну что там еще?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































