Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
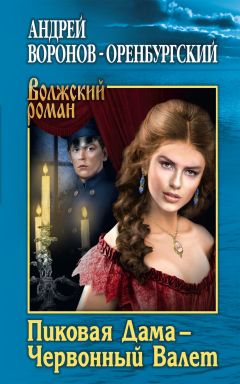
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 48 страниц)
Глава 4
А тем временем в закрытые ставни души Кречетова упорно стучали осенние дожди сомнений, и снова порывисто вздыхала юная грудь: «Правильно ли я поступил? Как завтра буду смотреть ей в глаза?»
И опять самоуспокоения и ответы: «Но не я же начал… Она первая… И ей как будто было приятно…»
И тут же угрызения: «А тебя-то, что… горчицу заставляли гольем есть? Подлец ты, братец! Это тебе не букли на щипцы накручивать, не папильотки[93]93
Бигуди.
[Закрыть] Марьюшке подавать. Как ты можешь думать о Вареньке худо? Ведь она, она… Это Она! А ты?..»
Пауза – вздох. Алеша закурил папиросу, свернул на улицу, что вела к потешке, – опять сумятица размышлений, опять засновали, зашмыгали мышами вопросы.
Один миг, и вот пожалуйста – десятки ощущений, десятки воспоминаний: радость, сомнение, щекотливый восторг победы, тревога неуверенности… И опять все сызнова, как монотонный бег цирковой лошади по кругу. Золотисто-рыжим карасем в мыслях Кречетова вскользь вынырнул Сашка Гусарь, но сыграл упругим хвостом и ушел в зеленую глубину воды – не до него. «При всей нашей дружбе ему все равно не понять меня. Наперед ведаю, что с порогу брякнет: “Нас на бабу променял”. У-у, несчастный женоненавистник. А Митя? Хм, тот тоже ухмыляться начнет, да еще не преминет воткнуть обидное: “Что ж ты соколом нынче не смотришь? Никак возрос? Вот ты и влип, любезный. А помнишь, клялся, заверял?” Нет, лучше молчать. За язык меня никто не тянет». Но язык чесался, как чесоточный, а сердце прыгало на скакалке. Так хотелось пооткровенничать! Поделиться радостью.
В училище Алексея будто кто в спину толкнул. Не заходя в дортуар, он прошел в музыкальный класс и бросился к роялю.
Два такта мелодии малиновым звоном отозвались в голове. Да так проникновенно и ласково, словно беличьим мехом по обнаженному телу провели. И был в этих тактах хрусталь сентиментальности, но не той слезливой безысходной печали, а прозрачной и светлой нежности. Пальцы тронули стройные шеренги клавиш, и затрепетали листьями ивы на ветру.
Что происходило, что жило в нем? Алексей и сам не мог объяснить. Каждый новый взятый аккорд подсказывал следующий, и каждая нота пела в согласии с его очарованным сердцем… И кружево чувств, которое он сплетал, проникало бездонно глубоко в него самого, скользило по всем уголкам души и становилось все более порывистым, пронзительным, ярче окрашивалось и обрушивалось мощной волной на все те же простые – великие семь нот. Эта музыка была прочувствована им и опьяняла, как чувствовал и пьянел Алеша от девичьих губ и северной красоты серо-голубых глаз.
В какой-то момент он смежил ресницы, но пальцы продолжали свой трепетный бег. И мысленный взор неизмеримо выше поднял его на своих незримых могучих крыльях. Увидеть сокрытое – значит понять запредельное. На мгновение он ощутил связь между струями звуков и пространством, которое окружало и омывало его. Безбрежность… Бездна… Она синим и белым раскинулась вокруг, до черного пунктира горизонта. А он, как ловец жемчуга, оказался в ее зеленых прозрачных пучинах. «О, несравненное, неземное чувство!» Не музыка и цвет в человеке, а человек в цвете и музыке. Как затонувшая амфора в океане – она полна воды, но и сама покоится в той же стихии.
Катастрофически не хватало слов, но Кречетов что-то пел во весь голос, часто вставляя имя. Душа выводила гимн его чувствам, пульсу, его любви.
…Из соседнего дортуара по стене отчаянно колотили в «набат» туфлей. А чуть позже, распахнув двери, в класс влетел взлохмаченный Гусарь.
– Ну, Кречет, ну, даешь! Як говорит Воробей: «Конь любил выпить и закусить удила». Тебя же, шального, из ночлежки Чих-Пыха слыхать! Очумел, що ли? Да, брат, весна хоть кого с ума сведет! Лед – и тот тронулся.
* * *
Дни отныне полетели стремительно, что горная река. Череда радости ожидания, трепет встреч, очарование прогулок вдвоем по городу, острое наслаждение эйфорией невинных шалостей – заполнили Кречетова сполна, словно рождественский мешок – подарками. Он был счастлив. Радостна была и Снежинская. Но более других потирала руки пани Войцеховская, потому как каждая встреча влюбленных – итожила ее доход в виде коробок конфет, лорнетов, чепцов, смородиновой наливки и прочих радостей, которые тешили душу и согревали одинокое сердце старой девы.
Худая как трость, измученная неудачами, она давно потеряла надежду на устройство своей личной жизни. Для девочек пана Фредерика она была и бонной, и гувернанткой, и уже второй десяток лет неотлучно жила при их доме. Всегда натянутая, как виолончельная струна, строгая, она все же оставалась женщиной со своими слабостями и слезами. И если ей уделялось внимание чуть большее, чем то, на которое могла претендовать в господском доме прислуга, «каменное» сердце пани Ядвиги сдавалось и через минуту-другую выбрасывало белый флаг.
В памяти воспитанницы жило много светлых воспоминаний о своей бонне, и Барбара охотно рассказывала Алеше о всякой всячине, связанной с нею. Как легко та научила ее английскому и французскому языкам. «Кажется, я начала говорить по-английски одновременно с польским. “Stop talking”, “Are you ready?”[94]94
Не разговаривай. Ты готова? (англ.)
[Закрыть] и прочие слова детского обихода пришли ко мне сами, и я их никогда не зубрила. Так было и с Агнешкой… На наше Рождество пани Ядвига всегда делает облитый ромом ореховый торт… Вкусный – пальчики оближешь… А за то, что она вечно ворчит: “сюда нельзя, туда не смей”, мы с сестрой прозвали ее Пани Нельзя. Правда, в точку? Но только это я вам по секрету открылась, Алеша. А так чтобы ни-ни…»
Рассказывала Бася и другие милые разности: «как они с Агнешкой хаживали во флигель пани Ядвиги, и та угощала их вареньем на блюдечке старинной серебряной ложечкой. Ложка эта была маленькая, тоненькая и вся изжеванная, потому что однажды большущая свинья черной чухонской породы нашла ее в своей лоханке и изжевала».
Нет ничего выше и прекраснее, чем дарить счастье ближнему! Ведь по-настоящему беден духовно и несчастен тот, кто только берет и ничего не дает взамен… Глубоко обманываются те, кто мыслит иначе.
Кречетов радовался оттого, что брал от Баси участливость, свежесть поцелуев, а сам отдавал взамен глубокую признательность, верность и безоглядное доверие своего сердца, ежедневно пополнявшееся новыми оттенками чувств. И если бы Алексей мог тогда сформулировать свое внутреннее состояние, то он, несомненно, сказал бы следующее людям: «Хотите водворить состояние всеобщего счастья – стремитесь к тому, чтобы каждый имел столько для жизни, сколько ему нужно, и чтобы никто не имел более того, чем нужно для удовлетворения своей сути».
…Отдельным «секретным конвертом» в голове Кречетова хранились «бесы». Эти чертята выскакивали из табакерки по принципу подлости в самые что ни на есть неподходящие моменты. И сеть накинуть на этих прытких дьяволов ему не удавалось. Смысл сих «умственных недоразумений» сводился к тем возрастным глупостям, которые, подобно родимым пятнам, переходят из детства в отрочество, затем в юность и, случается, преследуют человека до гробовой доски. Временами Алексея начинали мучить вопросы: «Как выглядит Варя в бане?», «Не потолстеет ли она?», «Справляет ли она нужду?» и т. п.
Кречетов маялся скрытой тревогой, как беременная молодка, и порой подолгу не находил себе места. Но чем больше он изгонял из себя этих «бесов», тем ожесточеннее, против воли, они усаживались плотным горохом на булавке его воображения и точили, точили, точили его мозг. И вот тут-то в памяти огненными буквами и начинало полыхать крылатое изречение маменьки: «От мелких грязных мыслей можно перейти к чудовищной мерзости».
Какую такую «чудовищную мерзость» мог совершить он, Алеша решительно не знал, потому как ему казалось, что «мелочь грязных мыслей» он давным-давно уже миновал и теперь вот завяз по уши в крупных пороках. И случись ему знать мнение Конфуция: «Ошибки человеческие, которые не исправляются, есть настоящие ошибки», – то бедный Кречетов считал бы этих проклятых «бесов» непременно «настоящей ошибкой» номер один. Вот такие дела…
* * *
Подъем и спуск по ступеням набережной, слезы ребяческих ссор с неподдельной серьезностью на лицах, чаепития, незабываемые прогулки в Липках, любезные тайны юности, «набеги» в театр, ароматы цветов, интимные слова, условные знаки, понимаемые только влюбленными, – сколько уже всего было на их памяти за эти длинные короткие дни!
Семнадцать лет – золотое время. Оно в жизни каждого бывает лишь раз, впрочем, как и все в жизни… Кречетов в свои семнадцать уже откровенно, с внутренней гордостью, как и другие воспитанники, курил на улице папиросы, отпустил по французской моде волосы ниже плеч, брызгал слюной сквозь зубы, следил за «парадкой» ногтей – подтачивал их турецкой пилкой и рьяно полировал о бархотку, словом, определенно ощущал себя в душе мужчиной, да и не только в душе. Увы, Алешку не обошла стороной глупая форма самоутверждения зеленых юнцов через табачную соску. Досадно было другое: он курил, и ему нравилось это занятие. А еще ему нравилась непоколебимая уверенность старшего брата, к которой Алешка интуитивно тянулся и пытался выковать это качество в себе. Алексею порой казалось, что он особенно восхищается Дмитрием и скрытно завидует ему именно за это качество.
Стоит ли продолжать? Семнадцать лет – это время, когда юноша открывает для себя зеркало. Хочется смотреться в него и видеть именно то, что хочется, а точнее – героя. И Кречетов в сем деле отнюдь не был исключением.
О Снежинской Алексей мог сказать лишь одно, что в шестнадцать лет Варенька была необыкновенной прелестницей. Когда они гуляли по Саратову, он не мог не замечать откровенных взглядов молодых людей, которые вызывала Барбара. В душе возникало двоякое, щекотливое чувство: с одной стороны, эти взгляды льстили его самолюбию, тешили собственнические нотки, с другой, они порождали раздражение, тяжелым бременем ложившееся на сердце.
Отдавая себе отчет в том, что страдания из-за ревности есть унизительные страдания человека, не верящего в свои силы, он кусал губы, а сердце его охватывала щемящая боль. Оставаясь визави со своими мыслями, Кречетов пускался в рассуждения, судил самого себя, как правило, заходил в тупик, расстраивался, переживал.
«Что ж получается? Я ревную ее к взглядам, к пересудам, к улыбкам других – значит боюсь… Чего? А того, что потеряю свою Вареньку, верно? Но ревность чувство постыдное, причем свойственное человеку, по-настоящему не любящему… Ведь тот, кто любит, не имеет оснований не доверять возлюбленному… Разве иначе? Но я ли, Господи, не люблю? Я ли не боготворю Басю, дороже коей у меня никого нет? Выходит, я люблю ее, но люблю как вещь… Радуюсь и наслаждаюсь только потому, что она у меня есть?»
В этом было некое зерно истины. Кречетов действительно не представлял свою любовь без конкретной осязаемой Вари. «Но что есть тогда любовь?» Тут получался заколдованный замкнутый круг. Алексей терялся, не ведая, как выйти из него. Рылся в книгах; завуалированно, ссылаясь на душевные муки какого-то абстрактного приятеля, выспрашивал у других мнение на этот счет. Выяснялось: любовь – это в первую очередь жертвенность со стороны человека, который любит. «А могу ли я пойти на жертву?» Алешка широко крестился и, накинув сюртук, отправлялся бродить по городу.
«Жертва… жертва… жертва… Пойти на жертву?» – колоколами звенело в голове. А потом вдруг снизошло. Кречетова осенила совсем простая мысль: «Пойти на жертву – это значит во имя блага ближнего лишиться блага самому. Смогу ли я смириться с таким положением? Хватит ли у меня сил и духа пожелать счастья Вареньке с другим?»
В памяти вновь, как пчелы, начинали роиться сюжеты прочитанных славных книг и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибших за чистую любовь. На ум приходили отрывки давно забытых стихов, где в платья звучной гармонии и сложной рифмы облекалась бессмертная любовь; где печальные образы были счастливы в своем несчастье и где через печаль и грусть светлее и чище сходила в сердце любовь. Но набранная высота поэтических грез тут же складывала свои прозрачные крылья и камнем падала оземь. «Я – эгоист! Себялюбец! Дрянь! Какая к черту эвфони́я[95]95
Благозвучие (греч.).
[Закрыть] мира? Какие белые лилии на пруду, ежели я могу любить Вареньку при единственном условии, что она будет рядом… Так что же?! Уйди она с другим, и я возненавижу ее? Но это предательство! И, право, не с моей стороны… Разве ненависть и злоба тут неуместны? Вздор! Но… но это получается уже, пардон, и никакая не ревность. Последняя зиждется не на фактах, а на подозрениях и неверии. О Бог мой! Так отчего же я тогда ревную? Ужли во мне нет места чистоте, а в груди вместо сердца просто кусок мяса? Нет, неправда ваша… я люблю ее крепче, чем себя! Я никогда не был готов сделать что-либо во имя кого-то, а теперь делаю! Разве не рисковал я жизнью на Соколовой горе? Меня могли убить! Чудо спасло нас! Я сочиняю музыку и не могу отныне не сочинять, потому что… А коли люблю, то и не смею ревновать и наводить наветы на ее имя. Господи, какая же ты прекрасная кара – любовь! Ты огромна, как мир, дивно красива, как утренняя звезда, и нет ничего тебя могущественнее и краше!»
* * *
Именно любовь, как вода, стерла острые грани стеснения и неловкости, испытываемые Алешкой в обществе Вари. Ему приносило удовольствие ненавязчивое с его стороны рассматривание Снежинской. Золотое руно волос, схваченное сзади черной бархатной ленточкой, молочная белизна кожи, чувственный абрис рта, который мог быстро становиться холодным и жестким, изящная линия шеи, сбегавшая в плечо, глаза со льдистым отблеском голубой волны – приятно мутили Кречетова, заставляя ощущать сухой жар в ладонях и беспокойное эхо сердца в груди, особенно когда он ощущал покорную мягкость ее маленькой руки.
И все же Алексей испытывал в определенные моменты их встреч гнетущую неловкость и вину перед Снежинской. Каким-то шестым чувством он догадывался, что Бася ждет от него большего, но не говорит и лишь томится и надеется. Пожалуй, он знал чего… но боялся и самого себя, и ее. В такие минуты он маялся, находясь в дурацком положении. Но душевные стенания лишь усугубляли крапивный зуд сомнений.
Как-то раз они забежали в Павловский трактир. После долгих хождений по бульварам к обеду в их желудках «выли волки».
– Боже, как я хочу есть! Как хочется заморить червячка! – Бася залилась румянцем от своего откровения.
«А с моим аппетитом я готов и гадюку заморить», – сглатывая слюну, признался себе Алешка и проводил спутницу, придерживая под локоть, до свободного столика, который им указал половой.
Сели. Барбара идеально выпрямила спину, точно аршин проглотила, когда к их столу подошел старший официант. Рыжеватые волосы, чесанные на прямой пробор и мазанные конопляным маслом, блестели на его челе, как глянцевые крылышки навозного жука. На лице дремала самодовольная тень скрытого превосходства. Не проронив и слова, он бросил перед ними по обеденной «доске».
– Сразу изволите заказать али гадать будете?
Половой, лет сорока, смерил Алексея беглым взглядом, но Варя заметила, как в глубине его мелких глаз прижалась презрительная усмешка. Потом он перевел взор на нее, изумленно растянул полные губы в улыбке и начал с охотой жонглировать прибаутками:
– Кислые щи и в нос шибають, и хмель вышибають. Имеется в наличии и мороженое, шампаньское, и – чоколяд. На первые блюда уха из осетра… есть белуга в рассоле, есть белая, как сливки, индюшка, для вашего Артюшки, откормленная грецкими орехами с потехами… Имеются и «пополамные расстегаи» из стерляди и налимьих печенок. Вторичные блюда – хоть куда: поросенок с хреном за красную цену. Откормлен, барышня, сей экземпляр-игрушка в особой кормушке, чтобы, так сказать, он, шельмец, с жирку не сбрыкнул! – пояснил половой.
Девушка прыснула в ладони – уж больно ловок и спор был на веселые речевки официант.
– Чем же удивите «на третье»? – Ее глаза искрились от смеха.
– А это уж по вашей привязанности… Кому-с – ароматная ли́стовка: черносмородиновой почкой пахнет, аки весной под кустом лежишь; а кому белый сахарный квас… Опять-таки он, подлец, ядрен шибко, приходится купорить в «шампанки», а то всяку дуру-бутылку в клочья разорветь.
– Ну хватит ваньку валять. Сами сделаем выбор.
Кречетов вспыхнул очами, но тут же почувствовал на своих напряженных пальцах руку Вареньки.
Половой, надув гузкой губы, пожал плечами и равнодушно отошел. Барбара озадаченно дрогнула ресницами, подняла глаза и увидела, что Алексей выжидательно смотрит на нее. Она решила, что он обиделся на панибратство хамовитого полового, но лицо Алеши осветила улыбка, и в уголках карих глаз обозначились милые лучики морщинок.
– Расстроился? – Она вновь украдкой протянула руку под столом, нащупала его пальцы и крепко сжала. – Не бери в голову. И в пьесе бывает много пустых мест…
– Плевать на этого холуя! – Кречетов нахмурился. – Не за то волновался. Как он смотрел, гад, на тебя!..
– Алеша…
Снежинская запнулась, растерявшись с ответом: его простые откровенные слова удивили ее и порадовали, но также чуть-чуть испугали. Какая-то внутренняя сила удерживала девушку, но одно она знала твердо: ей не хотелось, чтобы кто-то обидел Алешу… И в первую очередь она сама.
Помолчали. Кречетов деловито взял обеденную карту и стал штудировать меню. Цены плясали перед глазами – положительно все казалось чудовищно дорогим! «Да, жаловалась селедка, что люди ей здорово насолили… Уж лучше было нырнуть в закусочную – дешево и сердито. Дернул меня черт хвост павлинить! Правильно говорит Гусарь: “Все блохи выскочки”. Вот ты и есть блоха!»
Однако на поверку Алексей и глазом не моргнул. Он знал: любое колебание в его действиях, нерешительность могли огорчить спутницу и сыграть с ним дурную шутку.
«Может, купить ей все, а себе заказать помидорный салат с луком? Соврать из осторожности, дескать, сыт, как утка, и еще не нагулял аппетит?.. Нет, так не годится… Нехорошо. Ведь я готовился к этому дню не одну неделю. Один шут, маменькина реликвия – розовый бриллиант – заложен… Эх, персидская ромашка, варенуха из бубновых валетов, один раз живем, богаче не станем».
– Ну-с, ваше высочество, и что же вы изволите откушать? – Алешка беспечно бросил взгляд из-под ресниц на цветущую полячку и вальяжно развалился на стуле. Нет, не будет он в такой день душу рвать из-за лишнего гривенника. Впрочем, ему всегда хотелось показать себя на уровне, пожалуй, даже больше, чем он был на самом деле.
– Oh, charmant, monsieur le baron![96]96
О, прелестно, господин барон! (фр.)
[Закрыть] – Бася захлопала в ладоши. – Выше всяких похвал. Так, так, так! Вина «Шамбертен» здесь все равно нет. Тимбали по-милански тоже, тушеной рыбы, присыпанной средиземноморскими барабульками, я тоже не вижу… Ах, вот, зато есть жареная баранья грудинка, паюсная икра и антреме перед десертом.
Барбара непосредственно изучала меню, водя розовым пальчиком по густым столбцам строчек сверху вниз, беззвучно шевеля губами.
В тот день они устроили праздник желудка. Алешка был на высоте: его манеры за столом были безупречны. Уроки мастаков не прошли даром. Он даже невзначай поправил незадачливого полового, когда тот остановился не с левой, как положено, а с правой стороны. С разложенными перед ними столовыми приборами он тоже обращался, как со старыми друзьями, – переходя от внешних к внутренним.
После трапезы они встали усталые, квелые от сытости и счастливые. Было решено отправиться к Барбаре – сказывалась июньская жара и послеобеденная сонливость.
Глава 5
– Езус Христос, наконец-то дома. От твоих угощений безумно хочется пить. Особенно после этой жирной баранины. – Варенька манерно вздохнула, присаживаясь в кресло.
– Так в чем же дело?
– Ты предпочитаешь кофе или чай? – Она игриво качнула ножкой.
– Мм… а ты что будешь?
– Что ты.
– А я – что ты.
– Так чай или кофе?
– А молоко есть?
– Конечно, но я его не буду.
– Право, не знаю, изволь, что хочешь.
…За чаем они болтали о разной чепухе, дурачились, показывая друг другу кончики языков, смеялись. Варя сидела напротив и аккуратно наливала в Алешин чай сливки по латунному черенку ложечки так, чтобы они растекались по золотистой глади белой кляксой. Затем пили мелкими глотками дымный напиток, и сливки оставляли тоненький ободок на их верхних губах.
Когда Барбара угостилась шоколадным пирожным, Кречетов не удержался и, протянув под столом ногу, коснулся пальцами ее голени. В ответ был послан воздушный поцелуй.
Их глаза встретились, ясные, живые, искрящиеся, и что-то хорошее, светлое, послали друг другу.
– Варя…
– Угу. – Губы сбежались в розовый бутон. В веселых глазах вспыхнуло по вопросу.
– Варенька, душка… я хотел…
– Угу. – Уголки губ прыгнули вверх – лукавая улыбка тронула уста.
– Отчего смеешься? Я совершенно серьезно…
– Угу, и я серьезно. Ну?
– Не «ну»! Я хочу, хочу!.. Ежели ты только пожелаешь, ежели только скажешь… я готов предложить тебе руку и сердце! И то непременно, как «Отче наш»… Так и знай… Ежели пожелаешь, – твердо повторил он, – я женюсь на тебе.
– Ха-ха-ха-ха-ха-ха-а! – Лицо Снежинской зарозовело от прихлынувшей краски. – Увы, милый Алешенька, но, по-моему, этого желаете только вы.
– Но я люблю тебя!
В ответ снова раздался звонкий уничтожающий смех.
Алешке хотелось зарыдать от злости и безнадежности: «Как же так? Господи, надо мной опять посмеялись! Что ж, в змеиной азбуке все звуки шипящие!» В нем взорвалось что-то вроде гранаты: он выскочил из-за стола, метнулся к порогу, но там, наткнувшись на пани Ядвигу, бросился прочь; ворвался в детскую, едва не растоптав грелку-кота Антона, громыхнул дверью, упал ничком на кровать; уткнулся лицом в подушку и замер. В глазах стояла соль слез и оранжевые круги. В сердце будто заколотили раскаленный гвоздь.
В коридоре звякнула чайная ложка, слышно было, как поставили чашку. Летучей мышью бесшумно открылись двери. Раздался тихий скрип половиц. На пороге стояла Варя, раскрасневшаяся, взволнованная, в глазах сожаление.
Движимая чувством вины, она тихо подошла и мягко опустила руки на его молчаливые плечи; прижалась губами к горячему виску – время отсчитало минуту.
– Алешенька, прости меня… Я дура.
Тихий, как робкое утро, поцелуй.
– Прости, я не хотела.
Нет ответа.
И тут она, невольно щекоча его висок невесомой паутинкой своих волос, дыша теплым дыханием, прижалась к его плечу.
По Кречетову растопленным сахарным песком побежали горячие токи блаженства. Сердце замерло в ликующем восторге, но вредная гордыня еще упорно цеплялась кривыми когтями, заставляя неподвижно лежать.
– Алеша… Алешенька, слышишь?
– Мм-м…
– Я тоже… люблю тебя.
Он порывисто повернулся, обнял плечи любимой, сцепил их мертвым замком, прижал к себе. Юные свежие губы искали юные свежие губы. Соединились, впились друг в друга, трепещущие в огне неумолимой страсти. Руки переплелись, запутались; груди прижались; золотое руно кудрей влилось в разметавшийся русый блеск и засверкало на солнце золотой рябью.
Ему показалось, что он вот-вот потеряет рассудок. Воздушные прикосновения Барбары сотрясали его плоть.
– Бася, Бася, dis que tu m’aime…[97]97
Скажи, что ты любишь меня (фр.).
[Закрыть]
– Ne t’inquiete pas, reste tranquille, bien sur, je t’aime…[98]98
Успокойся, не тревожься, конечно, я люблю тебя… (фр.).
[Закрыть] Подожди, – прошептала она.
Барбара встала и, не говоря ни слова, начала раздеваться. Алешку дробью прострочил озноб радости и беспокойства. Он не знал, как себя вести.
– Отвернись, не смотри на меня… Я стесняюсь.
Но это испытание было выше мыслимых сил. Алексей прикрыл глаза, а сам сквозь ажур ресниц смотрел на нее. Бася сбросила платье. Приглушенно щелкнули крючки корсета…
Кречетов потерял самого себя: ни рук, ни ног, ничего другого он не ощущал. Она осталась совершенно нагой; смущенно улыбнулась ему, а он смотрел на нее завороженным взором и запоминал грацию ее линий, ее изящество, ее совершенство.
Портьеры в спальне были сомкнуты, и в приглушенном дневном свете в центре огромного ковра, матово-белая, подобно античной статуе, стояла Снежинская. Казалось, она была очень легкая и хрупкая, что саксонский фарфор, дотронься – зазвенит.
Барбара подошла на цыпочках, откинула с лица рассыпавшиеся струи волос.
– Алеша…
В тишине комнаты голос ее прозвучал мелодично и, как показалось Кречетову, влажно. Он приоткрыл глаза, и взгляд его потонул в сырой акварели девичьих глаз. Алексей протянул руки. Ладони коснулись друг друга, пальцы сплелись. Он ощутил неожиданную силу в обманчивой мягкости ее рук.
«Ты любишь меня?» – настойчиво спрашивали искристые глаза Вареньки.
«Да, да! Конечно, о чем ты спрашиваешь?» – с готовностью отвечали глаза Алешки.
«Это правда?»
«А как же иначе?» – вновь говорил сияющий слезой преданности его взгляд.
В эту минуту безмолвного диалога словам не было места. Мысли и чувства влюбленных и без того преодолевали пространства и дали. Слова исчезают, а пережитое в молчании навечно остается в душе.
Благословен тот час, в который встречаются двое, самой судьбой предназначенные друг другу. Час, в который выявляется прекрасная истина.
– Я хочу… чтобы тебе было приятно. Doucement, doucement, mon cheri…[99]99
Тише, тише, мой милый… (фр.)
[Закрыть] Слышишь?
Алексей кивнул головой, ощутив, как по его телу пробежала судорога. Его пальцы охватили узкое запястье.
– Почему у тебя на глазах слезы? Ты плачешь? – Он встрепенулся, но она удержала его.
– Так. Самую малость. Я и сама не знаю почему. О, Езус Христос! Прости меня, грешницу.
Обнаженное стройное тело плавно подалось вперед. Он ближе ощутил свежее дыхание Вари. Круглые груди дотронулись до его лица. Он видел венчавшие их темно-розовые соски, прохладу которых ощутили его пересохшие губы. Чуть выше левой ключицы, где кожа была необыкновенно тонкая, почти прозрачная, лазоревыми ниточками бежали две жилки, ныряя в кремовую белизну плеча.
Кречетов смотрел и смотрел, пока лицо у него не стало горячим и не защипало в глазах. Он понял, что, если и дальше будет смотреть на Басю, из глаз его побегут слезы.
Блаженное состояние счастья набирало горнюю высоту. Густым нескончаемым потоком оно катилось от головы к ногам, а от ног к голове, пропитывая каждый уголок тела возвышающим эликсиром любви.
– Тебе не холодно?
– Нисколько, а тебе? – глухо спросил он.
– Нет. – Она счастливо тряхнула головой. И наградила его нежным поцелуем, похожим на прикосновение душистых лепестков розы.
– Боже, как ты красива… – Он протянул руку и поднял, будто зачерпнув ладонью воды, рассыпанные по плечам золотистые волосы.
– Тебе приятно? – Волнистые пряди вспыхивали, попадая под прицел солнечных лучей; она не сводила с него глаз.
– Да.
– Это потому, что ты сам желаешь мне счастья. Мамочка говорит, что любовь – это единственная страсть, которая оплачивается той же монетой, какую сама чеканит.
Алеша не ответил. Он крепко прижался щекой к груди и вновь слушал, как билось ее сердце.
Гибкие, тонкие пальцы Вари расстегивали пуговицы на его рубашке.
– Сними…
Кречетов лихорадочно стянул врезавшуюся под мышки сорочку. Высоко вздохнул полной грудью. Брюки упали на ковер. Гладкая кожа стройных ног скользнула по его коже. Горячее, прерывистое дыхание сводило с ума. Он словно летел вниз головой с крутой лестницы, которую сложно было считать таковой – у нее не было ни перил, ни ступеней.
* * *
Дни бежали своей чередой, обдавая Алешино бытие счастьем сознания того, что он есть, что он видит, чувствует, говорит. Он переживал ту стадию жизни, когда человек воспринимает себя как что-то очень большое и исключительное. Весь мир, казалось, вращался и существовал для него.
Увы, приобретая одно, человек теряет другое. По мере того как крепли их отношения, Алеша с болью замечал медленное разрушение той дружбы, которая связывала его и Сашку Гусаря. Совершая променад или катаясь с Варенькой в лодке, он чувствовал, как сердце его сжималось у тех дорогих мест, где он носился, восторженно мечтал с Гусарем о театральной карьере; где они настойчиво уверяли друг друга в вечной верности, где первый раз пили пиво, трепались о своих учителях, обсуждали прочитанные книги…
В такие минуты перед глазами мелькали цветными мазками этюды былого. В груди начинало что-то давить, а на лице укладывалась тень грусти и тихого сожаления.
Эта рассеянность и меланхоличность выводили из себя Снежинскую. Наступали затяжные паузы молчаливого хождения по бульварам или загородным тропинкам. Кречетов с горечью отмечал, что милое лицо полячки резко менялось. Эту метаморфозу можно было сравнить с ровной гладью воды, в которую бросили камень. Гримаса надменной насмешки искажала любимые черты, верхняя губка плотоядно дергалась вверх, глаза сужались, темнели и брызгали холодом льда.
Увы, Алексей ничего не мог с собой поделать: измученный терзаниями, он находился в состоянии хмурой подавленности. Внутри него тлел огонь обиды и неприязни к себе, к Барбаре, к Шурке. Ему жутко хотелось равенства в отношениях Баси и Гусаря. Но ее не было…
Едва окрепла их влюбленность, как Алеша тут же взахлеб начал рассказывать ей о необыкновенности Сашки, и наоборот, – Гусарю о необыкновенности Вари. Оставаясь один, он радовался предвкушению их скорого знакомства. Но вышло иначе.
* * *
Снежинская после первой же встречи разочаровалась в Гусаре, в дифирамбах Кречетова, в которых он рассыпался пред другом. В хохляцкой неотесанности она усмотрела лишь грубость, в откровенности – хамство, в простоте – примитивность, и даже искренний, закатистый смех Сашки был воспринят как плебейское зубоскальство…
Сам Шурка, нет слов, был поражен точеной красотой паненки. Но при следующей встрече на светозарные вопросы «ну, как тебе она?» Гусарь бухнул с порогу:
– Неживая она, Кречет. Сидит букой замороженной. Фифа такая… В «Макбете», я кажу, она могла бы играть ведьму без грима. А ты, брат, як шляпа, колы не зришь сего. А быть шляпой, как известно, можно и зимой, и летом.
Вот и все, что сказал голубоглазый Гусарь. Получив первый сквозной удар от Вареньки в оценке друга, он получил второй удар от Сашки. И удар этот для Алексея пришелся ниже пояса. Подавленный крушением буколических грез, он надолго ушел в себя, сцепив в замке пальцы. Шурка ободряюще тыкал его в бок указательным пальцем, что-то убежденно трещал в ухо, а он остолбенело сидел на незаправленной кровати и мрачно молчал. Потерянный взор уперся в зеленый абажур, по бахромчатому краю которого ползала беспокойная муха.
– Да брось ты душу клевать! Пошла она… Ну, гарна баба, не хаю, ну, що зараз… вешаться? Размажь и забудь, брат. Весны проходят, веснушки остаются. Найдешь другую. Я бы с такой фуфырой хороводы водить не стал. Больно надо! Уфф… Строила тут из себя… фу ты – ну ты… недобитую Клеопатру! Дывысь, мы и так из-за нее встречаться стали редко, хоть и коптим в одном дортуаре. Ты все о ней да о ней… А як же наша клятва о дружбе? Мы ж «майские жуки» – выпускники, Лексий… Скоро разлетимся кто куда. Никак забыл? Как же мечта – театр, сцена? Разве опохмелить тебя, оголтелого… за самоваром сбегать? Эх ты, инженивая драмати!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































