Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
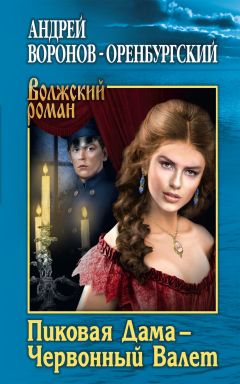
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 48 страниц)
* * *
«Тулупный переулок» весьма напоминал собою тоннель, пробитый путейцами где-нибудь в скале, – до того он был узок и похож на галерею подземелья. В нем издавна лепились «овчинники» и швецы, вековали тут и портные, сооружавшие полушубки, шугаи, рукавицы и треухи. Василий сызмальства помнил, как от всего переулка, равно как и от его обитателей, ноздри щекотал крепкий запах кислющей шерсти и дубленой кожи. Уже на подходе к этой обители в нос шибала тяжелая вонь, которая местными с гордостью выставлялась целебной и отгоняющей всякую заразу.
– О-оп-ля! – восклицали тулупники, – с нашим душком нам печалиться неча: «холера-чахотовна», и та нос заворотить!
И то верно – «заворотить»: помои, рассолы чанов, колтуны сальной шерсти, сгнившая мездра выбрасывались прямехонько на улицу; узость же последней не позволяла даровому и лучшему из санитаров – солнцу – высушить эту мерзость, а потому про Тулупный переулок легко можно сказать словами Гоголя, что там каждый дом испускает «амбру», и вся улица курится «благоуханием»…
Но не это тянуло в Тулупный юного Ваську… «Переулок в те времена по праву гремел на весь город особым достоинством: спокон века он рождал и выращивал богатырей, лихих бойцов для кулачных боев»[56]56
Старый Саратов. Изд-во журнала «Волга», 1995 г.
[Закрыть]. А кулачные бои – была любимая забава купцов, бурсаков и мещан Саратова. Массовые драки (сродни гладиаторским боям Древнего Рима), так называемые в народе «кулачки», служили для купечества, их семейств, для чиновников и прочего среднего класса знатным развлечением. В театр тогда ходили мало и по преимуществу дворяне; клубов, концертов и танцевальных вечеров для разночинной публики устраивалось в год по чайной ложке, потому она всеми силами поддерживала подобные кровавые потехи. Подсобляла просьбами у полиции, подарками в складчину, наймом бойцов, – словом, всеми зависящими мерами старалась не дать зачахнуть своему удовольствию.
Помогал сему делу и отец Василия, пристрастив своих сыновей к дикому зрелищу. Сколько зимних вечеров было отдано разборам этих побоищ! Об эпических боях слагались легенды, которые переходили из рода в род, из поколения в поколение и восхищали слушателей своим драматизмом. Сам Василий, лежа на печи, больше всего любил внимать о чуть не мифическом Никитушке Ломове. Народная память до сих пор хранит богатый букет историй об этом Илье Муромце волжских бурлаков. Старики баяли, дескать, Никитушка получал жалованье и пищу за пятерых, а когда выходил на бой – разносил в запале кабаки и прибрежные притоны, останавливал тройки на полном скаку… Говорили, будто он один сдерживал целую стену народа, состоявшую из тулупников и мещан. Будучи бурлаком, Никитушка стоял за своих, и стало быть, в борьбе с городскими сторона его была от Волги.
В доме Злакомановых зиму ждали с особым нетерпением, почитай, как ярмарку. По первому льду устраивались бои, и все саратовцы от мала до велика в назначенный день стекались на Валовую улицу, на которой в большинстве и случались публичные драки горожан с бурлаками.
Азартно и страшно бывало смотреть на темную массу бурлаков, носивших черные чепаны, когда они сходились на льду с горожанами. Вперед бросались мещане, а вслед за ними, оглашая морозный воздух криками и наполняя его запахом дубленой кожи, валили тулупники… И гремел бой!
Полиция тех лет была бессильна, да и сами представители ее, что греха таить, любили эту древнюю русскую потеху не меньше других. Крики, шум, топот враз умолкали, когда противники сходились вплотную, лицом к лицу. В это мгновение почти могильная тишина бралась в толпе, затаившей дыхание до первого рокового удара. Но мигом позже разом разевались сотни глоток, летели кулаки, крошились зубы, и настоящее вавилонское столпотворение наступало среди бойцов.
– Ну, Евпатьюшка, айда! – кричит отец Василия и, подбирая полы своей лисьей шубы, аршинит прочь к саням. А Евпатий, и вправду жуткой силищи кузнец Злакомановых, уже заработал своими пудовыми «маховиками», будто паровыми молотами, неумолимо вламывая их в скулы и ребра противников. «И инда треск шел от его ударов, словно дрова в лесу рубили!»
Василий помнил, как еще задолго до окончания свары многие битые и изувеченные вырывались из толпы дерущихся и шли шатаясь лечиться в кабак или тут же, у зевак, находили в советах скорую помощь.
– Ты снегу-то приложь, бедовый, натолкай его пуще в ноздри! – охали сердобольные зрители, видя кого-нибудь из кулачников с раздрызганным носом, из которого щедро журчала кровь.
– Ай, к бесу, мать его еть… Толкали – не берёть! Пойду хапну стакан – это лучше́е! – тряся по-собачьи головой, отхаркивался боец и скрывался в черневшей норе ближайшего кабака.
– Эх, Васенька, – часто сокрушался за воскресным столом покойный тятя, – не те забавы стали, не те… Гибель кулачкам идёть… мягчают нравы обчества, требовательность в порядке и спокойствии нонче в моде. Год от года хиреет удаль. Ежли так дале пойдёть, конец силушке русской.
«Да уж… – глядя в темноту потолка, мысленно согласился с отцом Василий Саввич и вновь заскрипел пружинами. – Сегодня, почитай, все не так. Правда, бывают и теперь мелкие сшибочки, легонькие мордобития, но тысячных боев нет, и богатырей уже не видать. Бывалоча, лет двадцать-тридцать назад понаедут купцы на тысячных рысаках, понавезут с собою разряженных и полупьяных кучеров с серьгами в левом ухе и, спихивая их с козел в толпу, рыдают вослед: “Ну-с, с богом, Силантий, – иди сокрушай!” Теперь же за это попадешь к мировому. Нате вам, пожалуйста, “гогу с магогой”… изволь отвечать. Раньше битый семинарист, схлопотавший фонарь в драке, приветствовался товарищами за героя, а в настоящее время подобный субъект стыдится показаться с подбитой физией. М-да, мельчаем, сударь, мельчаем».
Василий Саввич вновь обвел взором черную пустоту спальни, подозрительно посмотрел на прежде испугавшее его окно. Неподвижна была синяя ночь, и только небо быстро тянулось куда-то, и бледный, подслеповатый месяц, казалось, качался в рваном гамаке туч.
«А все же какие прежде были славные бойцы-семинаристы, – возвращаясь к кулачным боям, сам себе улыбнулся Злакоманов. – Эти дрались попеременно, то за городских против бурлаков, то напротив, в особенности когда нахальные, с подковыркой, мещане чем-нибудь да обижали поповичей, ну-с скажем, обозвав их “кутьей” или “жеребячьим отродьем”».
«Божьи жеребчики», весьма чуткие к подобного рода обидам, тут же переменяли фронт и, соединившись с волжской стороной, жестоко били мещан, просивших тогда «пардону». Семинаристы всегда высоко ценились как той, так и другой стороной, ибо, будучи в драке колючими и верткими, что ерши, они нередко опрокидывали голиафов физической силы простым искусством.
«Забавно и другое, – подумал купец, – многие из них были достойными бойцами, но сие не помешало им со временем сделаться солидными пастырями церкви. Взять хоть отца Никодима…»
Долго еще Василий Саввич перебирал в памяти разные вехи своей жизни: и светлое, и темное, и то, и другое, и третье, но будто суровый, загадочный рок тяготел над ним в эту ночь. Смутное беспокойство, предчувствие чего-то недоброго, как незримое облако, окутывало его существо, не давая вольно дышать, всякий раз спугивая долгожданный сон.
– Вот ведь напасть какая, язвить тебя в душу, заразу. – Злакоманов сильнее натянул на голову пуховое одеяло, прочитал молитву и тяжко вдохнул: «Однако это-с все из-за денег проклятых… Пай твой шибко велик в закупке речных судов. Без малого чистыми, почитай, четыреста пятьдесят тыщ. Ой, смекай, Василь Саввич, не треснули бы порты… широко шагаешь. Семь раз отмерь – один раз отрежь. Гляди в оба, не подломил бы тебя Барыкин… Ладныть, ежели-с способлю сию затейщину, уложу ее на лопатки, вот крест, женюсь. Время тебе, холостяку, и о наследничке подумать. Ты ведь тоже не вечный, брат… Кому прикажешь дело свое передать?»
Глава 8
Смеркалось. Марьюшка сидела на оттоманке у приоткрытого окна своей спальни и, щелкая тыквенные семечки, рассеянно смотрела на темную тучу. Та нехотя ползла с востока на запад, пеленая город прозрачной тенью сумерек, за которыми притаилась ночь. Тьма сгущалась исподволь, вкрадчиво, так что трудно было в нее уверовать, и казалось, это все еще тянется день, разве что хмурый, ненастный и на излете.
Порыв ветра принес с собой первые крупные капли дождя. Они дробно и тяжело, как свинцовые пули, ударили по карнизу. А чуть позже по мостовой, завихряясь в складках булыжника, зажурчали ручьи. Небо на миг прощально озарилось ярким тревожным всполохом, железисто грянул гром, и последние робкие краски вечера пропали.
Становилось свежо. Улица обезлюдела, если не считать пары-другой одиноких фигур, жавшихся к стенам и безуспешно пытавшихся укрыться зонтами. Мария затворила окно и, кутаясь в прилипшую к плечам шаль, зажгла свечу. Сегодня она была свободна, а следовательно, всецело предоставлена себе. Шум, крики, лапанье за столом, тисканье и пьяное веселье – все, от чего она стала уставать за последний год, – остались за дверьми корнеевского трактира. Таких дней на неделе у нее выпадало два-три, впрочем, все зависело от спроса и клиентуры. Выгодный заказ заставлял ее спешно подняться с постели и наводить марафет, чтобы при встрече ее визави мог насладиться не только медленно проникающим поцелуем, но и запахом дорогих духов, вкусом губной помады и ласковым прикосновеньем меха к щеке. Но сегодня все было тихо, посыльных с «просьбами» от Корнеева не было.
Расчесав густым гребнем волосы, она подошла к зеркалу, перед которым на туалетном столике теснились различные сверкавшие стеклом бутылочки и костяные стаканцы с торчавшими в них расческами и щетками в серебряной оправе. Певичка долго всматривалась в свое отражение, потом с едва уловимой горчинкой улыбнулась и стерла пальцем со щеки остатки пудры. «Вот так… еще шесть-десять лет… и ты станешь никому не нужна, – подумалось ей. – Потом минут еще годы, и пробьет час, когда ровным счетом никто не вспомнит даже твоего имени. Занятно, какой ты станешь? – Красивые губы Неволиной, как прежде, качнула ироничная усмешка. – Пожалуй, костлявой и тощей, с пучком седых волос… может быть, респектабельной, может быть, ворчливой и набожной… Как знать, если вообще еще буду жива? Детей у меня, как видно, не будет… Терпеть не могу эти вопли, пеленки, подгузники… Да и зачем? Какая я буду им мать?»
Она припомнила соседку-покойницу Агафью Федоровну, та тоже никогда не была замужем и, следовательно, не имела детей. Старуха коротала свой век в постылом одиночестве, вместе со своими до безобразия разъевшимися мопсами. Но помимо трех беспокойных любимцев, вечно тявкающих и вечно гадящих, где ни попадя, у нее была крыса, которая наведывалась к ней, когда хозяйка садилась за трапезу, и подбирала со стола остатки печенья и хлебные крошки. Когда-то эта крыса провалилась в бутыль с вишневым вареньем и непременно бы сдохла в вязком сиропе, но тетка Агафья спасла ее, насилу отмыла нагретой водой полуживую воровку и дала той отлежаться в овчинной рукавице дворника. Варенье, конечно, пришлось выбросить, крысы и мыши – твари поганые, зато хвостатая привязалась к своей спасительнице и регулярно навещала старуху.
– Вот и я так, заведу на старости лет какую-то живность: мышь, кошку иль канарейку… какая разница? И буду пить чай с наливкой у окна, живя воспоминаниями… Ведь богатство – это не только деньги, но и прожитые годы.
Рассуждая таким образом, Марьюшка прошлась по комнате, босые белые ноги тонули в густом ворсе ковра. Неожиданно у нее разыгрался аппетит, и она перекусила крутым яйцом и намазанным маслом ломтиком хлеба. От жареного она категорически отказывалась, полагая, что подобная пища вульгарна и от нее страдает цвет лица. В заключение она пощипала головку ноздрястого сыра и запила холодным киселем. Оставив посуду на подносе для служки, она уютно устроилась на диване. Но на душе по-прежнему было уныло и пусто, точно на сжатом осеннем поле. «Господи, опять в сердце одни дожди. – Певица посмотрела в сырое темное окно – ни ясных звезд, ни ласкающего ухо голоса гармони. – Лечь разве сегодня пораньше и выспаться?» Мария машинально посмотрела на иконку, сиротливо висевшую над дверьми спальни, и по привычке перекрестилась.
В церковь она верила постольку поскольку, как верит в нее большинство обывателей, не углубляясь и не размышляя. «Так верят все, – полагала она, – так верили мои родители, так верили их предки, пусть это так и будет». Но сейчас, отдавшись хмурой ряби своих настроений, Марьюшка как никогда прежде задумалась о неведомой грядущей черте: жизнь скоротечна и не за горами то время, когда увлечения и страсти уже не наполнят ее дни, а впереди откроются пустота, равнодушие, старость и смерть.
«Старость и смерть… – Льдистый холодок пробежал по крепкому цветущему телу женщины и залег между лопаток, наполняя беспокойством и раздражением грудь. – Но что делать? Куда бежать? Неужели нет никакого спасения? Не краше ли тогда наложить на себя руки, чем дожидаться страданий и рокового конца?»
Привыкшая всю жизнь побеждать и властвовать, Неволина внезапно обнаружила перед собой что-то пугающее и непобедимое. «Нет, нет и нет! – Раньше она положительно не задумывалась над этим жутким вопросом. – Неужели смерть – конец всему… и больше ничего?!» Да, есть могила, есть церковь, есть дети, есть, наконец, память людская, но этого всего ей теперь было решительно мало. Мария вспомнила почти забытые слова приходского священника: «…Чем ближе к природе, тем кончина становится проще, естественней». «Да, смерть благородного человека ужасна, смерть сермяжного мужика примиряюща, смерть цветка даже где-то красива, но все же это – смерть, порог понятного и живого!»
Не находя душевного покоя, она теперь уж не машинально, а истово трижды осенила себя крестом и с мольбою воззрилась на тихий и скорбный лик Богородицы.
– Святая заступница, спаси и помилуй! – страстно слетело с ее напряженных губ. – Ведь право, не столько даже страшна сама смерть, сколько немеркнущий страх перед нею… О, эта пытка ожидания!
Плечи передернула нервная дрожь. Марьюшке с небесной ясностью привиделся ее конец – это была дорога, вернее, затянутый белым саваном помост, ведущий на эшафот.
«Что ж, внешнего спасения нет, – обреченно итожила загнанная в угол мысль, – но внутреннее спасение должно быть… И я обязана его найти!» На ум вновь пришли забытые слова церкви: «…Чтобы открыть душе духовное воскресение, надо прежде открыть для себя Бога».
Эта идея будто толкнула ее в спину. Мария соскочила с дивана, отперла изящным ключиком бюро и судорожно нашарила в ящичке преданные забвению церковные свечи. Погнутые и пыльные – они сейчас являлись немым укором для кающегося сердца и, казалось, жгли руки.
Все время, пока Марьюшка устраивала их перед иконой, сдувала с них пыль, обжигала пальцы раскаленным воском, в голове неотступно скакали мысли: «Ах ты, дрянь, ах ты, сука бесстыжая! Забыла Бога, душу дьяволу продала… Когда ты, грешница, последний раз причащалась? Когда последний раз не красила губы и ходила на исповедь? Гадина, гадина, тварь! Все кончено! Завтра же после вечерни отправлюсь в храм. Плевать на Корнеева – “жили-были”, плевать на его балаган, плевать на его сальные, липкие деньги!»
Спонтанная молитва к Небесам чередовалась с пытливым допросом к самой себе. Настойчиво и жестоко, как прокурор, как палач, забираясь в самые потаенные уголки души, куда и сам-то человек заглядывает со страхом, она карала и бичевала, методично втаптывая себя в грязь. И если бы кто-то в этот момент спросил ее, чего она добивается, то вряд ли услышал бы внятный ответ, потому как сама она, потеряв нить реальности, не ведала, чего ищет, чего добивается, и лишь беспощадно, без стыда, страха и жалости, разрушала все, чем еще могла держаться и жить душа.
Она не знала, сколько времени простояла на коленях. Тонкие свечки оплыли наполовину, залив янтарными слезами бронзовый подсвечник, сделавшись похожими на срезанные ножки опят.
Мария тяжело поднялась, затекшие ноги не слушались, налила воды из кувшина – жутко хотелось пить, в горле пересохло от молитвы и волнения. Фарфоровая чашка дрожала в руке. Она мысленно упрекнула себя, но прикусила язык, все еще оставаясь во власти пережитого. Сложные, незнакомые чувства переполняли ее: отчаянье и страх за свои грехи, гнев и робкая надежда на что-то светлое. Ее душа продолжала метаться и корчиться на костре всеразрушающей правды, зыбкий пунктир которой неясным окаемом, подобно цветной радуге, наметил свои черты. Оставаясь сосредоточенной и сдержанной с виду, Мария с беспокойной радостью ощущала, как внутри нее происходят метаморфозы, словно новая, доселе непознанная, чистая жизнь медленно, но властно входит в ее грешную, распятую пороком плоть. Появилось ощущение полного понимания той великой, безбрежной правды о Христе, от которой лик потемневшей от времени иконы, казалось, просветлел, ожил и стал парить в сиреневом сумраке комнаты.
На щеках заблестели слезы: «Господи, неужели снизошло? Неужели открылось?»
Снедаемая предвкушением еще большего откровения, ничего не чувствуя, кроме ударов собственного сердца, она торопливо подошла к иконе вплотную и стала напряженно ждать новых чудес. Но чуда не случилось, как ни молила Марьюшка. По-прежнему перед иконой хлипко мигали свечки, потом догорели и они, наполнив спальню горьковатым и вязким запахом жженого фитиля и расплавленного воска.
– Нет… не может быть… – разочарованно, как у обманутого ребенка дрогнули искусанные губы. – Нельзя так… нехорошо.
Она вытерла о пышные кружева пеньюара ставшие от волнения влажными ладони, затем, как могла, напрягла слух – вдруг ей будет что-то сказано. Но слышно было приглушенное стрекотанье настенных часов в прихожей, они шумели и дышали, как человек, прямо ей в уши, но не пытались поведать и слова. Марьюшка для верности выглянула за дверь – пустое. Вся в сомнениях, теряя последние крохи прежнего настроя, она опять подошла к иконе и осторожно тронула ее, страстно ища в ней движения жизни. Потом ощупала крепче – доска. С досады ли, с умыслом, она ковырнула краску ногтем, под нею оказалось то же унылое дерево. Спешно прошла в другие комнаты, где были иконы, – везде одно и то же, везде те же крашеные доски и тишина.
– Так перед кем молиться? Перед кем каяться? – с вызовом глядя в глаза Богородице, усмехнулась Мария. – Не нашла я тут Бога, не Бог это сроду, а доски размалеванные… Скажи на милость, чем же они лучше ярмарочного лубка?
И вдруг, придавая лицу кощунственную откровенность, она истерично и звонко захохотала на весь спящий дом. А перед огнем ее дерзко-радостных глаз в каком-то диком плясе заскакали скорбные лики икон. Но замкнуты были глаза грешницы для слез покаяния, зато открыт рот для святотатства и мятежа. Казалось, ей даже нравилось это действо, столь ликующ был взгляд и столь свободны были ее проявления.
– Ну, давай, давай! Чего же Ты ждешь? Сожги меня в пепел, преврати в соляной столб! Ведь Ты всесилен, все можешь, давай! – уж без смеха, а хриплым криком требовала она у Бога, но холодно взирал на нее Господь, и вечную тайну хранили его сомкнутые уста.
Отмучившись, отрыдавшись, она, наконец, затихла. Сидя с ногами на диване, обложившись парчовыми «думками», она еще долго, как соперницу, мерила взглядом строгую икону, затем дроглой рукой наложила на себя крест и закурила длинную папиросу. Мысли о Боге больше не трогали ее сердце.
– Зачем? – вслух рассуждала она. – Жизнь так скоротечна… Право, не лучше ли подумать о себе? С Ланским я сожгла все мосты… что ж, милый был старичок. Обидно, досадно, ну, да ладно – невелика потеря, лучшее, что у него было за душой, – это деньги. Так разве все они у него? – Марьюшка стряхнула серый столбик пепла в напольную вазу и задумчиво огладила свою высокую грудь. – Ай, где наша не пропадала…
Вспомнив о графе, она вспомнила и о его адъютанте. На память пришла белозубая, шалая улыбка, смачный, заразительный смех и яркие, сверкающие черным огнем глаза. Но удивительно и странно: сердце не екнуло, не заныло. Бывшая любовница не пришла провожать разжалованного корнета, когда за ним приехали нарочные.
– Нет уж, увольте… Я не сделала ему такого праздника. Да он и не оценил моего стыда, моих слез. Слава богу, сумела справиться, взяла себя в руки. Хм, где он теперь звенит шпорами? Пожалуй, по дороге на Кавказ… Что ж, туда ему и дорога. Вольному – воля, спасенному – рай. Я искала способ отомстить… Я его нашла. Чего же боле, Андрюшенька?
Неволина победно затушила папиросу, откинула на обнаженный мрамор плеч тяжелую волну волос и приоткрыла окно.
Дождь кончился. На вымершей улице дышала свежестью теплая, мягкая ночь, и где-то в палисаднике, в зарослях белой акации, подчеркивая тишину алькова, уютно и вежливо трещал сверчок. У желтого фонаря, освещавшего крыльцо парадной, хаотично метались бесшумные мотыльки и ночные бабочки, оскальзывались на стекле, падали и вновь с бестолковой неумолимостью летели на огонь, мерцая во тьме цветастой пыльцой.
– Н-да, была любовь… да, видно, вся вышла, – раздумчиво перебирая пальцами бахрому диванной накидки, тихо сказала Мария и еще раз попыталась представить его – трясущегося в казенном тарантасе к угрюмым горам Кавказа. – Нет, ничего не осталось на сердце… все травой поросло. И если по совести, был ли он моим кумиром – Грэй? – Марьюшка поморщила нос и усмехнулась. – Он и в кровати-то был не ахти какой гусар. Если приходилось выбирать между любовью и водкой… то им, не колеблясь, выбиралось второе. Неблагодарная свинья! Я же для него была так… не более, чем красивое приложение. А ведь было времечко, когда я каждую ночь крестила его, сонного, отгоняя беду… Полно, к чему ворошить старое? Не такие шали разворачивали.
Уж если кому и было когда-то подарено ее сердце, так это Ферту. Он был частью ее юности, частью того прекрасного, пылкого, но краткого срока, который отделяет подростка от женщины, и срок этот истек. Когда Ферт – фартовый картежник и вор – первый раз вышел из острога, к нему обернулась женщина, а не девочка. «Господи, как это было недавно, как это было давно». Красивое лицо напряженно застыло от сдерживаемых чувств. Да, это было ее первое настоящее искушение. Ни до, ни после ничего подобного она не испытывала. Еще тогда, двенадцать лет назад, в Астрахани, она поняла умом: счастья у них быть не может, но в сердце билась надежда, и юность не смогла отвергнуть этот соблазн. И все же конец наступил.
– Ферт, милый Ферт… – Мария с мечтательной грустью прищурила густые ресницы. – Ты был слишком отчаян для этого мира. Зачем ты оставил меня? Я думала, моя любовь к тебе будет как мерзлая земля с камнями… Увы, жестоко ошиблась. Твои слова и теперь выжигают мой разум. Я не могу жить без моей жизни, без души. Помнишь, родной, как ты однажды спросил меня: «Ты способна представить рай?» – «Пожалуй, – ответила я, – но только с тобой». Так зачем, не пойму, не прощу… ты обрек меня на эту паскудную жизнь? Зачем изменил своему сердцу? А разбив свое, разбил и мое? Или ты хотел, чтобы отныне плач был моим главным развлечением?
Певица непослушными от переживаний пальцами вставила в серебрёный мундштук новую папиросу, медленно налила в фужер вина и, откинувшись на подушки, сделала мелкий глоток. Как сейчас не хватало ей Ферта! Как жгло сказать ему правду: что она все прощает, что по-прежнему любит и помнит. Перед глазами встала их последняя встреча: он был во всем траурном – черном, ужасно бледен и голоден. На прощанье ничего не сказал, но она наперед знала: более он никогда не придет к ней – ее любовь по прозвищу Ферт. Она поняла по тому, как прямо и гордо стоял он и не смотрел на нее. Она узрела это в его потемневших серо-зеленых глазах – гнев, напугавший ее, и лед, от которого мучительно засосало в груди.
– Ах, Ферт, милый Ферт. – Мария снова пригубила вино и повторила: – Ты был слишком отчаян для этого мира. – Подумала и добавила: – Ты жестокий, страшный человек, но все же не демон.
Покрасневшие глаза защипали, засаднили набежавшие слезы, грудь острее кольнули воспоминания. О, это была незабываемая жизнь, словно выпавшая и пожелтевшая от времени страница из дурного романа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































