Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
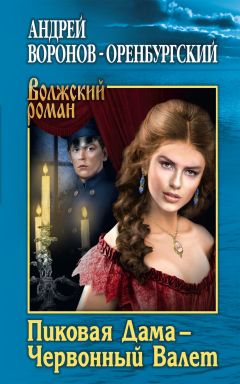
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 45 (всего у книги 48 страниц)
Алексей, весь оголенный нерв, первым вошел в спальню, преклонил колено и, взяв в ладони бледную руку маменьки, трижды поцеловал ее.
Людмила Алексеевна заволновалась, с беспомощной обреченностью посмотрев на вошедших. Похоже, ей необходимо было что-то сказать, но вместо слов ее запавшие глаза заискрились слезой.
– Мама… Маменька, дорогая, это мы, твои сыновья, и папенька! Мы здесь, рядом с вами! Вот Митя… Вы только ради всего Святого не оставляйте нас.
Белые, словно натертые мелом пальцы матери безвольно продолжали лежать в ладонях Алешки, и право, трудно было понять по ее неподвижному, ставшему аскетичным, с заостренными чертами лицу: разумеет ли она что-нибудь либо нет.
– Мама… ма-ма, дорогая! – Дмитрий, краснея глазами, упал на колени с другой стороны кровати, уткнулся лицом в бордовый край одеяла. Плечи его содрогались, из груди вырывались рыдания.
Прошедший июль они поочередно ухаживали за маменькой в этой тяжелой и последней болезни. Но та, похоже, не хотела дальше бороться за свою жизнь, несмотря на всю заботу, которую ей оказывали домашние и приглашаемый каждую среду эскулап. Измученная и уставшая от беспросветности бытия, она и вправду с нетерпением ждала скорейшего освобождения.
– Господи, прости… Пресвятая Троица, помилуй нас… посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради… Прости меня, любушка! Безвинно загубил я тебя… каюсь… Прости, картина-любовь моя единая. Не возьми в обиду… Благослови детей наших в сердце своем. Вот они, милая: и Дмитрий, и Алексей. Благослови и отыди с миром. Не страшись смерти. Бог-Отец наш простил тебя. Он, Благодетель, любит тебя. Прости меня, изверга.
С этими покаянными словами отец, как и дети, рухнул на колена и, прижавшись дрожащей щекой к ногам умиравшей, обоняя густой запах восковых свечей, что в изрядном количестве горели в спальне, зашелся горькими и обильными слезами нестерпимой боли и жалости. И плакал Иван Платонович и о ней, некогда молодой и красивой, сердечной и кроткой, родившей ему двух сыновей и доверчиво ждавшей все последние десять лет от него, деспота, хоть какой-то теплоты и ласки; плакал и о себе – завтрашнем вдовце, о своей несложившейся, неуклюжей жизни, о жалкой доле спившегося человека; о прежних замыслах, которым уж никогда не случиться; о никчемных своих письмах и жалобах городскому начальству; и снова о своей покорной жене; о детях, с которыми он давно потерял общий язык и светлую радость общения, и плакал, плакал, плакал… Плакал навзрыд, с бережной жадностью в последний раз обнимая и трогая давно забывшее ласку тело жены, которое у него навсегда отнимала стоявшая в изголовье смерть.
Страшно было смотреть на эту картину: на троих стоявших на коленях мужчин, приникших лицами к неподвижным складкам покрывала, еще живого последним биением сердца.
А потом вместе с приходским священником Никодимом спальню умирающей запрудил народ. Комната накалилась глухим и тяжелым безмолвием траура. Слышно было, как надсадно скрипели половицы под ногами соседей, как угрюмо дышала в своей сердобольности любопытствующая толпа. Высоко под потолок взлетел бабий плач, сплетаясь в венок из слез с другими женскими голосами.
Отец Никодим загудел молитву, спальню окутало ладаном… Алексей, захлебываясь горем, выбежал из дому – маменька так и не приходила в сознание. Путаясь в чувствах, теряя твердь под ногами, он огляделся на крыльце. Над соседними крышами домов поднимался из труб кудреватыми тающими столбами дым. С улицы тянуло жженым бурьяном и золой. «Сколько же времени прошло? Час? Два? Три?..»
Из заволжской степи нарастала ночь, богато сгущая краски. Над колодезным журавлем зависла в смущении юная звездочка, застенчивая и светлая, как невеста на первых смотринах.
Однако ослепленные глаза Алешки не увидели сей красоты. Он потерянно спустился с крыльца. На дворе было тихо – так тихо, как бывает лишь в ожидании смерти. Прошел через дверь, миновал опустевшую собачью будку. Его косматый друг – сторожевой пес Жук – умер еще полтора года назад, и теперь только истертый широкий ошейник да ржавая от снега и дождей цепь напоминали о верном четвероногом охраннике.
Алексею хотелось остаться одному, и он, свернув за поленницу, отворил низкие двери хлева. Крепко пахнуло свежим навозом, душистым сеном и прелым деревом. Рядом с дремлющими коровами, расшаперив голенастые ноги, пестрый телок цедил на земляной пол сквозь ржавую прядку тонкую струйку. На скрип двери он нехотя повернул лопоухую голову и обиженно промычал.
Алексей предусмотрительно перешагнул ползущую лужу и, шлепнув по шелковистому заду раскоряченного телка, присыпал опилками мокрый пол.
Затем достал папиросу, прикурил и присел у малого оконца, пропиленного в бревенчатой стене, на осиновую чурку.
И снова губы дрожали в молитве, а сам он, точно перестав ощущать связь со своим телом, пытался подняться духом до неведомых и таинственных высот, где, отбросив сомнения пытующей мысли и презрев земную гордыню, страстно молил у Небес новую толику жизни для матери.
Но молчали предвечерние небеса, и только месяц, отливающий серебром в густой синеве закатного неба, скользил меж тающих облаков и красил крыши Саратова сумеречной сиренью.
Алексей уронил голову в горячий венец ладоней: «Мама… маменька… неужели это конец? Неужели это навсегда?!» Во тьме смеженных глаз неслись оранжевые пунктиры былых картин и эскизов, связанных с матерью. Но отчетливо ясно почему-то виделось только ее серое платье немодного покроя, туфли, давно потерявшие цвет, и… карие, как у него, глаза, в которых застыло усталое горе. В колючей метели воспоминаний проявились забытые из детства длинные зимние вечера, когда еще были живы родители его отца. Бабушка сидела в кресле рядом с постелью разбитого ревматизмом деда, поила его чаем с сушеной малиной из ложки, и они по-стариковски неторопливо и обстоятельно вели беседы о смерти. Алешка помнил об их договоре: тот, кто раньше будет отдавать Богу душу, поведает другому, хорошо ли умирать.
Когда дед совсем ослабел и стало очевидно, что смерть близка, бабушка не преминула спросить деда, славно ли ему?
– Очень славно, – прошептал он, и это были, пожалуй, последние его слова.
Алексей снова перекрестился: «Господь милостив, может, и маменьке сейчас хорошо…»
Людмила Алексеевна прожила в каком-то своем особом мире еще семь часов и на талом рассвете скончалась.
Братьям врезалось в память, как золотые с красным отливом ресницы солнечных лучей легли на окаменевшие складки савана.
Глава 2
От смешного до печального – один шаг. От печального до смешного – значительно более. На Руси по сему поводу говорят: «Пришла беда – отворяй ворота». Не разминулась она и с Алешкой.
Еще не отпели сорокоуст со дня смерти маменьки, как в дом Кречетовых, где проживал теперь Алексей, заявился Гусарь.
– Совсем ты тут захирел, хлопец, – ревниво оглядывая «пенаты» друга, заключил Сашка. – Пылюка кругом, як в архиве. Тут впору чихать без нюхательного табаку. А ты помывку собрався устроить?
Алексей действительно стоял с засученными рукавами у большого медного таза, настроившись затеять стирку. Рядом с лавкой, на которой лежал ворох белья, стояло три ведра нагретой воды и чашка наструганного для кипячения мыла.
– Я до тоби с весточкой. Пляши! – плюхаясь на диван, помахал запечатанным конвертом Гусарь.
Кречетов стряхнул пену с рук, вытер их о полотенце и раскатал рукава блузы.
– И от кого?
– У-а, да ты дитё… выходит, в этой науке? Никак не учуешь? Или ясноокая паненка осталась в твоей памяти, как адрес дома давно помершего человека?
– Уволь, Шурка, мне нынче не до шуток. И хватит изрекать те бесспорные истины, которые наши прабабки вышивали крестом на рушниках. Дай сюда!
Алексей выхватил конверт из рук Гусаря и живо отошел к окну. Письмо и вправду было от Снежинской – он безошибочно узнал ее легкий, словно бегущий почерк.
Сердце забилось птицей под рубахой, в груди горячим теплом разлилась надежда. После черных невзгод сей кусочек белой бумаги, точно солнечный луч, высветил душу. Алексей не торопил эти дивные минуты. Ему хотелось напевать вполголоса – в гости заехал друг с радостной вестью, в сердце стало тесно от девичьей любви, за спиной вновь налились чувством юные крылья… и это прозрачное, теплое утро августа! – разве всего этого не довольно для радости?
Повернувшись спиной к Сашке, он осторожно и бережно вскрыл конверт, достал вдвое сложенный лист розовой бумаги. В душу запали сомнения, когда на большом развернутом листе, еще не читая, Алешка увидел всего несколько сиротливых строк.
«Алексей, здравствуйте.
Простите за долгое молчание, но так случилось… Прошу вас более не преследовать меня и не искать встречи, это много неприлично… тем более, что наша семья переезжает в Варшаву.
Наверное, жаль, что все кончилось. Но я полагаю, у нас с вами ничего серьезного и не начиналось. Увы, не все дороги мы выбираем сами. Иногда они выбирают нас, и это называется – судьбой.
На прощанье скажу: вы милый человек, Алеша. Не переживайте, все образуется.
Барбара».
Синяя вязь чернил расплылась перед глазами, буквы полетели стайкою наискосок. Алексей будто в ледяной омут упал, где его начала крутить и корчить сила невидимых струй. Спотыкаясь от душивших мук, он еще раз пробежался по краткому посланью – глаза отказывались верить. «Вот они… динь-дон – за́мки из песка…» Мир рушился, прозрачные небеса затягивала зимняя мгла. Любовь ушла… Остались лишь жалкие строки письма, как сироты малые в миру, лепившиеся в три ряда на бумажном листе… И боже мой! – какой казенщиной, каким суховеем тянуло от этих строк, будто не юная девичья рука начертала их, а акцизное перо дожившей до седин канцелярской крысы.
– Лексий, в зобу дыханье сперло? Ну ты чего, чего? Не стращай людей…
Гусарь беспокойно глазел на молчаливую спину друга, не смея верить в дурной исход, но вдруг ужаснулся душой и сразу все понял. «Вот так рождественская залепень!»
Алексей обернулся, пугая блеском своих глаз, слегка улыбнулся и уже по-новому, по-чужому, возвышаясь над сидящим на диване Сашкой, убитым голосом произнес:
– Вот она… явь проклятого сна… Изнанка правды…
– Кто-кто? – не понимая смысла, поперхнулся Шурка.
– Конь в пальто! – не в силах держать себя в руках, взорвался Алексей и зло швырнул под потолок изорванное письмо. Мелкие клочья разлетелись по комнате и розовыми хлопьями стали оседать на стулья, диван и стол.
Гусарь поймал один из них с обрывком фразы: «…семья переезжает в Варшаву…», бросил сочувственный взгляд на друга, а чуть позже буркнул под нос:
– И это все, что осталось от героического признания… Угу… Перелетная птаха ищет счасться в пути. А может, все к лучшему? С глаз долой – из сердца вон! Нашел с кем якшаться… Ты тильки глянь, усе получилось, як я казав. Запшекала тэбэ чертова панночка, и ау… А ты – «брэхня». Верно в молитве сказано: «…Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Да не кручинься ты так безбожно. Все можно пережить, Кречет, ну разве ж кроме своей смерти… Эх, мало их, шляхетских псов, Богдан[137]137
Имеется в виду национальный герой Украины Богдан Хмельницкий.
[Закрыть] на колья садил!
Гусарь, находя в случившемся раскладе несомненное зерно личной выгоды, оживленно засуетился вокруг Кречетова. Он ублажал его как ребенка, мурлыкал хохляцкий гопак, гладил по голове, помог прикурить папиросу, и все без иронии, без обидного смешка – настолько полно радостью было его сердце. Но вдруг взглянул на лицо Алексея и охнул:
– Ты бледный, як смерть! Ну-тка хлебни водицы. Да що ж водицы! Давай наливки выпьем за твое избавленье? Тьфу, опять двадцать пять! А ну выбрось ее из башки. Заколдовала, подлюка! Сделала из тебя чучело и соломой набила. Говорил я тоби, ведьма она.
– Когда письмо получил? – Кречетов провел ладонями по щекам.
– Нынче, еще до обеда…
– Кто привез: почтальон или?..
– Нет, не почтовый, ражий такой кабаняка, морда – во-о! Шиш лопатой прикроешь. Я к нему и так и эдак, кто, мол, поручил, що знаешь, не видел ли? А он мурло кирпичом и трындит одно: «Сказано было – не велено». Словом, бирюк. Каменное сердце. Такими бульвар мостить…
– Ну вот что. – Алексей решительно поднялся. – Из песни слова не выкинешь, но можно выкинуть песню. Может, ты и прав, что все к лучшему… Беличьи муфточки, шляпки с лентами – к дьяволу! Нас с тобой через три недели сцена ждет, а это не бантики и не рюшечки! Да и что такое сердечное счастье? Будь оно проклято… Это пустынное слово среднего рода. Хватит быть мухой на праздничном куличе! Гляди-ка, нашла румяного гимназиста… верно, Сашка? То мы юбок не знали прежде?
– Ай, молодца! Люблю! – притопнул Гусарь, тиская в объятиях друга. По-южному яркие голубые глаза Александра блестели задорно и даже драчливо.
– Эй, погоди! – Кречетов кое-как избавился от товарищеских тисков. – Согласен, Федо́ра уже не идет за Егора. Но возник один вариант с идеей. Я ж не вчера родился, чтобы в Тулу со своим самоваром ехать. Не спорь, братец, ее характер – сахар со стеклом, но и мой – не пряник.
– Да що ж задумал? Не томи! Неужто опять… на поклон к ней, гадюке, пойдешь?
– Пойду, но не на поклон, а проверить. И не опять, а снова.
– Тьфу! Кацап ты был, кацапом сдохнешь… – разочарованно махнул рукой Гусарь. – Все вы одним миром мазаны. У нашего брата хохла честь тильки через кровь и мясо, силой отнять можно, а вы сами готовы отдать. Куда тоби такому дурному в пекло лизты?
– Тебя не спросил! Нашелся атаман. Лихо у тебя получается за меня шашкой махать! Нет уж, уволь – сыт. Тебе налево, мне направо.
Гусарь со слабеющим интересом посмотрел на спешно одевавшегося Алексея и мысленно хмыкнул: «Ну, ну… нехай пошукает свое счастье в крапиве… Поглядим. Это ж ведь дело нехитрое: есть люди, коим приятнее думку кахать о том, що пчелы жалят, нежели що они мед дают».
* * *
От театрального училища до дома Снежинских полчаса бойкого ходу, в пролетке вдвое короче, но на улице, как назло, только ветер кружил пыль. Кречетов плюнул в сердцах и поспешил на своих двоих знакомой дорогой; благо под горку, туда, где золотилась рябью под солнцем красавица Волга, туда, где сердце и душа его познали счастье.
От квартала к кварталу его высокие скулы ярче полыхали румянцем, мысли мчались, как лошади по утоптанному шляху: «Только б успеть… Может, еще не уехали…» А память – эта вольная птица в акварельной полуде небес набирала высоту, распластав крылья, выплескивая все новые и новые воспоминания.
…Он лежал на спине, раскинув руки. Загородная тишина вязала наслаждение. Через сомкнутые веки солнце алым мячом смотрело в глаза. Горячий ветерок лениво полизывал тело, временами покрывая его мурашками озноба. Кожа на бедре Вареньки, раскаленная, что нагретый фарфор, коснулась ноги Алешки. На загородных вылазках ему были чужды проказы лукавого Эроса. Состояние внутреннего стеснения, испытываемое им в иной обстановке, кроме интимной, стирало возможные порывы. Он осторожно отодвинул ногу. Мягкая прохлада от воды, щелканье и пересвисты птиц, тихий голос листы убаюкивали. С ласковой теплотой песка в тело приходила и сладкая дрема забвения.
– Тебе не нравится? – с возмущенной веселостью сказала она. Быстро привстала, придвинулась вплотную к нему. Сырая прохлада еще не высохшего кружевного белья прижалась к груди Кречетова, стянула темные пятачки сосков. Шафранная соломинка заплясала в одной из его ноздрей, вызывая неуемное желание чихнуть. Он некоторое время держался, морщил нос, покуда хватало выдержки. После чего был выброшен белый флаг.
– Сдаюсь, хватит!
– Ух ты какой, хватит ему! – игриво говорила она. – Нет уж, терпи… Кто мною брезгует? Кто меня не лю-у-бит?
– Ну, Улиска, не мучай меня. Я сда… сда… пчхи-и-и!
– А-а, попался, который кусался! Вот тебе, вот!
У Баси было явно дурашливое настроение. Навалилась телом на Алешку, всеми уловками пытаясь еще пощекотать острой соломинкой.
Кречетов упивался круглыми, что спелые яблоки, тугими грудями, золотым пиршеством волос, стройными бедрами, малиновым ртом, которые в беспорядке попадались под его губы и пальцы.
Они не заметили, как кубарем скатились с белого покрывала, и, продолжая дурачиться, угодили в коровьи лепешки. Охая и ахая, перепачканные, но счастливые, они подняли гам на всю безлюдную песчаную косу и, схватившись за руки, кинулись в воду…
В очередной раз бултыхая ногами, смывая бурый клей ила и песка, Барбара прильнула к нему и, опустив голову на плечо Алексея, с трагичным пафосом всхлипнула:
– Так вот почему вы, сир, отодвинулись от меня? Поцелуйте меня… c’est à présent ou jamais, – прошептали ее губы, – nous aurons ce qu’il nous fait[138]138
Теперь или никогда. У нас будет, что нам нужно (фр.).
[Закрыть].
– C’est ce que je ferai[139]139
Это я и сделаю (фр.).
[Закрыть], – также шепотом, в унисон прошептал он и приник к ждущим губам.
– Dostarczylam się wiele przijemności[140]140
Я получила большое удовольствие (польск.).
[Закрыть], – уже по-польски сказала она и, перебирая пальцами пряди его длинных волос, улыбнулась. – Но так целуют знамя, mon cher… Может быть, правы те, кто утверждает: «La querre gâte le soldat»?[141]141
Война портит солдата (фр.).
[Закрыть] А у нас с вами, сир, война или мир?
– О, несравненная леди, вы же знаете, сколь самоотверженно я люблю вас вот уже… м-м, дай бог памяти… скоро полгода… Но это для меня срок, равный вечности. Любовь к себе, что доселе жила во мне, это было ничто, подобно праху… Любовь к вам, о прекрасная, высокочтимая Улиска, есть венец души человеческой, самая жизнь! – выпалил Алексей. Осторожно дотронулся губами до ее душистой полуприкрытой груди. Вдохнул свежий запах прогретой солнцем кожи. В этот поцелуй он постарался вложить всю нежность, которая только жила в нем. Она ощутила это и ответила тем же…
– Алеша, право, не знаю, что со мной делается… Порой мне кажется, я умру, если мы расстанемся…
Барбара не смотрела ему в глаза. Складывалось впечатление: это признание нелегко далось ей.
– Бася…
Она порывисто повернулась к нему, розовые, в милых морщинках губы подрагивали. Алешка забыл про слова – да и к чему они? – крепко обнял девичьи плечи… Так они долго и славно сидели на деревянных мостках, скрытые от чужих глаз густой щеткой тальника, буйно разросшегося вдоль берега, и рассматривали в прозрачной бутылочной зелени воды дно с глубокими черными вмятинами своих следов.
– Видишь, те, что большие, – это мои, те, что поменьше, – твои… Правда, здорово, что среди них не путаются чужие?
Она коснулась губами его щеки.
– А вон, видишь? Нет, не там… прямо под нами, вон, вон… на самом донце лежит, как золотой самородок, язь!
– Ой, правда, какая рыбина, какая прелесть! Как ты сказал?
– Язь.
Алешка бросил в щербатую щель мостков камешек, и вспугнутая рыба, блеснув кольчугой чешуи, величаво ушла в струящуюся глубину серебристого плеса.
Они помолчали. Где-то далеко по воде разносился мирный чавкающий звук рыбацких весел, воздух чертили синие, красные, желтые стрелки стрекоз, а вокруг ни души, и все, решительно все было пропитано полуденной ленью.
– Господи, как хорошо! – Алешка перекрестился и набожно поцеловал болтавшийся на груди нательный крестик. – Ваш католический иной, правда?
– Да, более строгий. Без лишней восточной вычурности.
– Покажи. – Он пропустил мимо ушей ее булавочный укол.
Барбара с готовностью выудила распятие на золотой цепочке. Оно действительно было лаконичным, без затей, до душевной унылости.
– Бася, ты даже не представляешь, как я благодарен судьбе… как счастлив. Знаешь, какая у меня была жизнь без тебя?
– Не надо, ведь я рядом…
Они встали и в одном исподнем, такие непривычные, но домашние, пошли к сбитому покрывалу, к перевернутой плетенной из виноградной лозы корзинке, из-под которой рыжими бильярдными шарами выкатились яблоки. Кречетову казалось в те солнечные минуты, что он и Варя – это одно целое, неделимое, вечное. «Когда-то все равно придется уйти из жизни, так, право, лучше умереть вместе. Зачем жить одному. Я сойду с ума».
Ветерок скакал резвым жеребенком по сонному берегу, заставляя морщиться лицо воды. Девушка задумчиво надкусывала лакированный бок яблока, мило щурилась на солнце и тихо напевала мелодию. Это была его музыка, вернее, один из многих лирических романсов, написанный им на стихи брата. И романс этот в ее устах звучал уверением их вечного союза.
Алексей лежал на животе и делал вид, что читает Байрона, а на самом деле исподлобья зачарованно смотрел на Снежинскую. Он крепился, стараясь сохранить спокойствие. Удавалось это с великим трудом. Но как знать, возможно, именно благодаря своей воле, гасившей брожение внутренних чувств, он и мог молча восхищаться ее благородным лицом, грацией, радоваться сознанию, что есть такая на земле Бася. И что Бася эта его. Его! Его!! И что не только он любит эту прекрасную польскую барышню, но и эта прекрасная польская барышня тоже любит его. Ему до крапивного зуда желалось говорить Барбаре бесконечные нежные слова о ее красоте, совершенстве, о своих чувствах к ней, но слов этих не находилось, ровно кто-то сторонний украл их из тайника Алешки. Он ласкал вкрадчивым взглядом ее белые лодыжки и пальчики ног, что виднелись из-под рюшек еще не совсем просохшего белья, любовался изящным изломом хрупких ключиц, девичьей линией шеи, а пальцы его рук перетирали в муку золотые зернышки речного песка…
– Хочешь? Давай угощайся! – Она протянула половинку яблока. – Э-эй, очнитесь, пан кавалер! Czy się panu nie nudzi? Może zagralibyśmy w karty?[142]142
Вам не скучно? Может, поиграем в карты? (польск.)
[Закрыть] – Она выразительно кивнула на лежавшую у ее колена колоду карт и тут же спохватилась: – Прости, я опять забыла… ты не знаешь нашего языка.
– Нет, не хочу. Благодарю, Улиска.
– Почему ты так зовешь меня – Улиска?
Она надкусила сочную белую дольку, прозрачные, подсвеченные солнцем капли брызнули и скатились по нежному подбородку.
Алешка пожал плечами:
– Наверное, потому, что ты самая настоящая Улиска… Есть для меня в этом что-то неуловимо ваше – польское…
– Хм, не думаю. – Верхняя губка ее озадаченно дрогнула. – Скорее Уршуля…
– Тебе не нравится? – Он потянулся за табачной коробкой.
– Kto wie?[143]143
Кто его знает? (польск.)
[Закрыть] – Бася пожала плечами. – Просто непонятно и смешно. А вообще, кто это такая или такой?
– Вот уж чего не знаю, того не знаю. – Кречетов загадочно улыбнулся.
– Как это? Называешь Улиской, а сам не знаешь… To niesłychane. Protestuje![144]144
Это неслыханно. Я протестую! (польск.)
[Закрыть] – Девушка шутливо погрозила пальчиком. – Так не бывает.
– Как видишь, бывает иногда. Ей-богу, сам затрудняюсь объяснить, что это за зверь такой… Но ручаюсь головой, что ежели ты пойдешь сейчас на мосток и посмотришь в воду, то вы, пани, как пить дать увидите Улиску…
Они от души рассмеялись.
– Ты что-то хотел мне сказать? Я перебила тебя…
– Я? А-а… да, пожалуй.
– Говори же. Зачем подавляешь в себе желания? Или у вас, сударь, есть от меня тайны?
– Как же… от вас, моя госпожа, попробуй скрой хоть что-то…
– Вот как? Я и не знала – браво! Ну-ка признавайтесь, пан Секрет.
– Варенька, каюсь, я просто еще раз жаждал сказать миру, какая ты прелесть. Но это не те слова. Увы… Мой черствый, грубый язык…
– Ну и ну! Charmant[145]145
Превосходно (фр.).
[Закрыть]. Да вы страшный обольститель, пан Сердцеед. – Снежинская снова погрозила пальцем. Прилегла на живот, ткнулась носиком в русую бровь Кречетова и с характерным для нее милым акцентом тихо сказала: – Алешенька, тебе, пожалуй, не понять, что значат для нашей половины комплименты.
– И что же они для вас? – Он выпустил на волю мятежную, ломкую струйку дыма.
– Понимаешь, когда пан кавалер говорит девушке, что она прекрасна, если при этом они еще и по-настоящему любят друг друга, это… Może się mylę, dokładnie nie wiem…[146]146
Возможно, я ошибаюсь, точно не знаю… (польск.)
[Закрыть] Как объяснить?.. О, если бы ты был девицей, ты бы понял… поняла меня.
– Но ты же сама прежде замечала, что о любви говорить не следует часто?
– Wcale nie – вовсе не так, глупый. Я сказала… Мало ли что я сказала! Это все так, наши женские уловки… чтобы вы, наоборот, больше говорили. Я же у тебя Улиска?
– Да уж, не иначе. Я где-то читал или слышал, сейчас не припомню, что женская логика – это отсутствие всякой логики…
– О-ля-ля! «Отсутствие»… Что вы понимаете? Хотя, – она вытерла пальцы о желтое полотенце, – отчасти это где-то как-то и так…
Память Алешки держала и другой случай, когда, тоже поссорившись из-за какого-то пустяка, опять же по вине Вареньки, он встал из-за стола и пошел прочь. Опомнившись, Снежинская долго бежала за ним по набережной: плакала, спотыкалась, просила прощения. Называла себя «дурой», еще как-то смешно и резко по-польски, но все было тщетно: Алексей был молчалив и непреклонен, как оловянный солдатик. И только уже на Московской его оскорбленное сердце не выдержало. Обернувшись, он шагнул к любимой навстречу: обнял, она дрожала в его руках, как бабочка в сачке, и рыдала у него на груди, подобно младшей сестре… Он бережно гладил ее по спине, по золотистым локонам и тихо шептал ласковые слова. Прошла минута, другая, третья… и случилось чудо: сырой карий бархат его глаз опять отражался в искрящейся синеве ее глаз… На душе светало, чувства становились тоньше и выше. А с росистых трав – их ресниц, с влажных и соленых от слез губ, – взлетали слова-птицы славить новый день. Мир вновь тепло улыбался влюбленным сердцам и дарил юные мгновения счастья.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































