Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
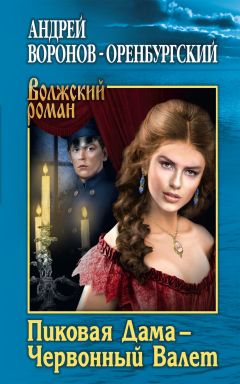
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц)
Глава 12
Засыпая в объятиях Марьюшки, Алешка чувствовал себя героем или близко к тому. Теперь он – мужчина, а значит, на равных мог говорить с Митей и не отводить глаз, когда разговор заходил о женщинах. Обида и вспыхнувшая было злость на корнета миновали, и он счастливо и покойно затих, совсем как ребенок, на груди своей новой подруги. Сквозь блаженную дрему он еще ощущал запах ее тела, чувствовал, как слабеющие от усталости и сна пальцы по-матерински гладили его волосы, шею… Какое-то время он еще завороженно прислушивался к ровному биению ее сердца и, согреваясь мыслью о своей победе, не без гордости итожил, что может доставить опытной женщине наслаждение.
Где ему в его неполные шестнадцать было добраться до сути истины, когда сама Марьюшка в деликатных вопросах альковных дел нередко сомневалась, спорила с собой, так и не находя ответа… Как большинству женщин ее «породы», Неволиной было непросто достичь желанного пика блаженства. Впрочем, из-за этого в пепел она себя не сжигала, а поступала мудрее: просто однажды раз и навсегда смирившись с сим обстоятельством. Амурная игра вполне устраивала певицу, тем паче, если поутру в розовом конверте на столике оставались щедрые чаевые…
Лишь один человек – ее первая и роковая любовь – был и оставался в мечтах Марьи Ивановны тем князем и властелином, в объятиях которого она безотчетно теряла рассудок и приносила себя всецело на алтарь безумства страстей. Но Ферта давно не было в ее жизни… И даже весельчак Белоклоков со своим безудержным раскатистым смехом, объявившийся на горизонте ее беспокойной жизни, в глазах Неволиной был лишь бледной тенью того, к кому с юности прикипело ее сердце.
Часы лениво отбили четыре… Сквозь сомкнутую вязь ресниц Алеша не видел, как Марьюшка напряженно глянула на часы, не видел он и любопытного прусака, что пробежал краем золоченого багета, а затем, рассудительно дернув усами, невозмутимо пересек оскаленное в страсти лицо мавра и замер на белом плече наложницы…
В занавешенное тяжелым бархатом окно насилу начинал пробивался синюшный рассвет, когда Алешка, затканный сном, погрузился в неясные грезы.
* * *
Угревшись под одеялом, он никак не мог избавиться от ощущения на своих губах ее поцелуев. Впервые в жизни его целовали таким долгим, умелым, проникающим вглубь поцелуем, так что он, испугавшись по первости, был вынужден вырваться из объятий. Но вскоре они целовались с еще большим пылом, и сейчас у Алешки ныли распухшие губы, и он, право, не знал, радоваться сему обстоятельству или нет.
Сонные мысли вяло и хмельно цеплялись друг за друга, высвечивая желанные мечты. Он представлял, как не таясь, на зависть всем станет прогуливаться по бульвару с Марьюшкой и она будет клонить голову ему на плечо; как, уединившись, он снова начнет помогать расстегивать ей крючки и петельки, стягивать чулки, а потом любоваться ее прекрасным телом с двумя бархатными родинками на нежном животе и груди…
Засыпая, он радостно предвкушал, что и сон-то его будет наполнен очаровательной Марьюшкой, запахом ее чудных духов, шелковистой прохладой волос и блеском агатовых глаз… Однако мерное течение сна приносило Алексею странные, почти забытые памятью лица, житейские мелочи, о которых наяву он никогда бы не вспомнил. Ему отчего-то привиделся круглый стол, что по обедам собирал всю их семью, старый турецкий диван с оторванными кистями… молчаливый, красного дерева резной буфет, за мутным рифленым стеклом которого стояли щербатые шеренги бокалов и рюмок его отца Ивана Платоновича, добрая Степанида и гремящий цепью возле своей будки Жук…
На столе в большой тарелке с зеленым краем лежали ровным рядком треугольнички нарезанного сыра, в плетенке гнездился душистый, еще теплый, с хрустящей корочкой хлеб, миска густых сливок и лукошко алой малины… Тут же, шаркая шлепанцами в заплатках, охала кухарка Фекла, усаживала его за стол, пичкала всякими сластями и добродушно приговаривала: «Кашу-то, касатик, едай ровнее, а не лупи аки каторжник, прости меня господи…»
Потом вдруг вынырнуло из-за шторы радостное лицо Белоклокова… смех, соленые шутки, в очах хамоватый блеск, доломан чуть не по полу волочится… Его сменил Митя с белым листом в руках; читались стихи… опять стихи… Откуда-то снизу, из-за спины, сквозь кашель прозвучало невнятно:
– Э-э, паря, да этот мо́лодец и вошь не раздавит… Он, похоже, любит свою лицею… сие похвально…
– Знамо дело… Их тамось, вроде ярмоночных собачат, учуть на задних лапках прыгать…
– Цыть, холера… Не слухай его, дуру, братец, он же пьяный… Ха-ха…
Алешка оглянулся на зыбкие голоса, но никого уже за спиной не было, как не было и родного дома, за столом которого он сидел…
Зато теперь кто-то до рези знакомый, с бледным пятном вместо лица, тянул его за рукав и выводил волынку:
– Что же это, сударик… Ах, жили-были… Как же вы так? Запропастились навек, ой-ёченьки! Марьюшка-то наша уж третью подушку искусала, белугой ревёть… «Где ж он, мой сокол? Где крылья сложил? Отчего не летит к своей горлице… Что ж ты так? Протягиваешь мне руку, а подставляешь ногу…» Она-то ведь девка не из порченых… Одного тебя дожидалась, а я берег ее сторожим оком, чтобы ни-ни… А за сие рублишко-другой прилагаться должон… Вот так! Благодарствую… Прошу, гостенек, прошу… вон в ту дверку…
И Алешка Кречетов шагнул к той двери, распахнул и ахнул: золотое текучее солнце заливало синий купол небес, в салатовой зелени порхали, щелкали, пели птицы, а белое, что снег, облако, сотканное из тысяч и тысяч трепещущих крылышек бабочек-капустниц, ласкало его разгоряченное лицо, облепило распахнутые крестом обнаженные руки и нежило, нежило легкой прохладой, как свежее дыхание Волги.
– Нонче, братец ты мой, слышал ли? – неподалеку от города, в саду Шехтеля закладывается новый летний театр… Славное дело мыслится. Ужо я раскошелюсь, ссужу деньжат на благое дело… Так-то вот, савояр. Опять же первая партия саратовского сигарного табаку нашим братом купцом отправлена в Гамбург… Это ли не похвально? Капитал российский хоть и молод, но клыкаст! Нарвись на него – брюхо пропорешь.
Кречетов, поднимая над собою крылатое облако, радостно откликнулся на голос своего опекуна. Но Злакоманов Василий Саввич вдруг недовольно свел брови и погрозил ему пальцем:
– Чем же ты занят, савояр? Так ли исполняешь наказ мой? Я ли не сказывал тебе – гляди, не осрамись? Я ли не упреждал: служба лени, измены и праздности не прощает?
Алешка силился найти нужные слова, но их не было… Хотел было по старинке ухватить Злакоманова за спасительный палец, но купец, боле не взглянув на него, зааршинил прочь…
– Дядя, дядя-а! – истошно закричал Кречетов. Бросился вослед за удалявшимся сюртуком. Упал, обдирая колени, дрожащие руки с грязными от земли пальцами тщетно тянулись к молчаливому купцу, но тот уходил все далее…
Алексей в отчаянии огляделся окрест: солнце пропало, небо затянуло студеной хмурью, голосов птиц не слышно… Сердце сдавил страх, и он с внезапной очевидностью осознал, что стоит на краю пропасти… Еще раз обернулся, глянул в свинцовые кудри облаков, точно искал Бога, но небо жило своей жизнью, и в нем не было для него места.
* * *
– Да проснись же! Вставай! – Неволина, сотрясая Алешу, дважды хлестнула его по щекам. Он жалобно застонал, точно ему выдрали ноющий зуб, разлепил глаза. Но эта затея оказалась куда как непростой: голова трещала, ровно коня подковывали, а набрякшие чугуном веки отказывались подчиняться.
– Что? Где? Что случилось?
– Все потом! Быстрей одевайся! – Она без лишних объяснений швырнула ему на кровать вещи. – Да быстрее же, ради Христа! Не погуби! Он уже здесь…
Кто «он», ошалевший Алешка не понял, но инстинкт самосохранения, женская нервозность и напряжение сделали свое дело. Выпрыгнув из постели, он взялся судорожно натягивать форменное сукно, но нога, как назло, не попадала в нужную брючину.
– Что ты смотришь? Давай, давай! Если мыслишь живым выйти отсюда!
Лицо Марьюшки горело, глаза излучали странный тревожный блеск, и вся она была чужой, порывистой в движениях, металась по комнате загнанной птицей, в вызывающей красоте которой жило что-то дьявольски жестокое. Возможно, в этой перемене были виноваты разметанные по плечам волосы, возможно, что-то еще, но Алексей отказывался признать в ней прежнюю ласковую подругу.
– Я готов… Что теперь? – Голос Кречетова прозвучал невнятно, как если бы он говорил с полным ртом.
Неволина, доселе припадавшая ухом к двери, опять появилась перед ним с горящим взглядом и трепещущими ноздрями.
– Собрался? На, возьми-ка! – Она торопливо сунула ему в руку забытую на стуле фуражку. – Не поминай меня лихом, Алешенька.
– Но… смею ли я надеяться… – Ему вдруг захотелось плакать, в горле запершила горечь.
Марьюшка в ответ растроганно улыбнулась, верность подростка согрела ее сердце, но только на миг.
– И думать забудь! Оттопырился с братцем, и точка. Сюда дорогу забудь. Все, что было – быльем поросло. Гулящая я… А перейдешь дорогу… так и знай, перееду тебя, глазом не моргну.
Потрясенный ответом, Алешка что-то хотел еще молвить в противу, но шум снизу, злющий грохот каблуков по лестнице, звяканье шпор и яростный стук в двери заставили их побледнеть.
– Госпожа Неволина, я требую, немедленно откройте!
Марьюшка вскинула палец к губам, наскоро осенила себя крестом и, поманив за собою вконец одуревшего юнца, подвела его к задрапированной бархатом нише.
– Марья Ивановна! Mariе! – Грозный, со сталью голос Ланского заглушил ропщущий гул зевак, собравшихся за дверями. – Я последний раз призываю вас к благоразумию! Иначе прикажу ломать двери!
– Сюда, – давясь словами, горячо зашептала она. – Спустишься по черной лестнице… Возьмешь первого «голубчика», и жги прочь. На вот, сгодится. – Она насильно всунула в его застывшую ладонь десятку.
Пугающий грохот сабельного эфеса вновь сотряс альковное гнездо певички.
Более Марьюшка не раздумывала: отдернула портьеру, мгновенно без шума отворила потайную дверь, что представляла собой одну из секций обшивки стены, и силой вытолкнула Алексея.
* * *
Оставшись один, Алешка перевел дух, огляделся… Узкая деревянная лестница, круто уходившая вниз, и обшарпанные, с лохмотьями теней стены, давно не знавшие краски и меловой щетки… Лестничный пролет отдавал запахом дегтя, к которому примешивался тяжелый дух топленого воска и сырости. Держась за шершавые перила, весь смятение, Кречетов прислушался – тихо, лишь где-то за дощатой стеной пристроя громыхнул и застучал железным черпаком зазябший в этот предрассветный час водовоз.
«Господи, Царица Небесная, где же Митя? Что с ним? А как же я? И сон-то какой мерзкий в руку лег…»
Алешке вдруг сделалось не в пример страшно и гадко, что произошло с ним за последние сутки, словно он наелся мыла с волосами или червей. Похмельная дурнота подкатила к горлу, сдавила щипцами желудок, когда до слуха долетело:
– Что, черт возьми, все это значит? Где этот хлыщ? Где?!
У Алексея замерло сердце, он замер, затем прижался к скрытой переборке, тщетно пытаясь отыскать щель, и… вот удача: по чуть заметному сквозняку, что тянул на уровне его щеки, нашел. Прильнул пытливым глазом, ощущая во всем теле мелкую дрожь.
Прямо перед ним, чуть поодаль от стола, на котором теснились два одиноких фужера и окатистый графин с наливкой, стоял полковник, в котором Кречетов без ошибки признал командира павлоградцев. Нет, он не видел ни разу графа, но какое-то шестое чувство безошибочно подсказало правильность мелькнувшей догадки.
Высокий лоб, прорезанный морщинами, две глубокие борозды, шедшие по обеим сторонам с хищной горбинкой носа, и изуродованная французской саблей левая половина лица… Сомнений быть не могло, все как и рисовал в беседе с братьями о его превосходительстве адъютант.
– Так где эта скотина? – гремя опрокинутым стулом и крепче темнея взором, повторил Ланской.
– Да кто же именно?
Неволина дерзко усмехнулась, показав белоснежный ряд ровных зубов, глаза театрально расширились. Полная решимости, она была готова к любому допросу своего содержателя-любовника и уклоняться от ответов не собиралась.
– Хватит дуру валять! – дрогнув рубленой щекой, с внезапной злостью вспыхнул ревнивец. – Он был здесь?! Я знаю!
– А вы не будьте таким впечатлительным! – явно издеваясь, все более распаляя старика, ввернула Неволина. – Все носитесь со своими идеями. Неужто ревнуете? Уж… вроде вышли из романтических лет…
– Нет, это ты повзрослей и изволь вернуться на землю, в реальный мир. Марьюшка, ангел мой, опомнись, богом прошу… с огнем играешь.
Тон графа был предельно резок, но в нем угадывалась и дрожащая нотка надежды. Бряцая крестами, он обошел отчетливым шагом комнату и, насилу сдерживая эмоции, воззрился на молчавшую у окна любовницу.
Сам не ведая, как он страшен в своей вымученной твердости, Ланской продолжал молчать и сжигать оскорбленным взором ту, ради которой не жалел ни чести, ни средств.
Его любимая Марьюшка, его услада сердца теперь стояла перед ним в одном пеньюаре, с полуобнаженной грудью, с рассыпавшимися по плечам волосами, и глядела на него, не опуская глаз. Однако Николай Феликсович на сей раз не прочитал в этом взгляде знакомой безмолвной мольбы или страха, хотя его грозовое молчание и обдавало ее смертельным холодом.
Она как будто ждала бури и даже нервически радовалась выпавшей на ее долю карте, с достоинством продолжая вести немой поединок глаз.
Граф по-прежнему угрюмо молчал и смотрел на эту жестокую фальшивую красоту, похоже, рожденную лишь для того, чтобы пожирать сердца мужчин и пополнять ими свою богатую свиту.
Седые усы полковника дрогнули, серые глаза подернулись горьким туманцем слез, когда его взгляд остановился на бархатной родинке… Сдержано опираясь кулаком о столешницу, он глухо изрек:
– Как ты могла?.. Как смеешь заходить столь далеко? Кто дал тебе право?
– Привычка. – Любовница, откинув скатившуюся на плечо прядь волос, с подчеркнутой независимостью прошла к своему ложу и, сама не зная зачем, поправила подушки. – Знаешь, – она решительно обернулась, – я хотела что-то изменить в лучшую сторону, но у меня, увы… не получилось. Впрочем, зачем лукавить, мой дорогой, – новое вино не наливают в старые меха…
– Да ты!.. – Ланской, теряя остатки самообладания, скрежетнул зубами.
– Бу-бу-бу… – с шаловливой злорадностью перебила она. – Боже, какое мелкое тщеславие! Уймите свою гордыню… ах, простите, милейший Николай Феликсович, я, глупая, полагала, вы прибудете часом-другим позже…
– Ты жестоко ошиблась!
– Да что вы?! – Она опять нервно и высоко рассмеялась. Похоже, Марьюшка более не могла владеть собою, а скорее, в это решающее мгновение ей и не хотелось притворяться несчастной жертвой, гонимой злобной судьбой. Лицо ее приняло воинственное выражение. Лихорадочный взгляд перебегал с одного предмета на другой, потом вновь на полковника, точно она готовилась попрать старика-ревнивца, когда он начнет оспаривать ее свободу с оружием в руках.
– Но это безумие, Marie!
– Так ли уж, ваше превосходительство? Знаем, знаем – славны бубны за горами. Корове, может, и все равно, кто ее доит, кто хлещет хлыстом, да только не по мне такой крой… Что же вы в лице переменились, сударь? А-а-а, да вы, похоже, женоненавистником стали, а ведь еще вчера как пели соловьи, как сыпались клятвы!.. Что же мы, ваше превосходительство, молчим? Быть может, вина? И не принимайте столь похоронный вид.
Неволина, нарочито качнула бедрами, без стесненья плеснула себе в фужер остатки вина, и что-то тревожное, отталкивающее было в этом диком несоответствии между красивой внешностью и вульгарным проявлением сути.
– Ах, вина больше нет ни капли! Это же свинство, сударь… Не изволите ли вы…
– Нет, это ты изволь взять себя в руки! Довольно! Все это эмоции, женские истерики… Знаю я ваши штучки… сыт! У тебя есть аргументы посерьезнее? Прошу, давай поговорим спокойно… без этой пошлой риторики. Что ж получается: муж в дверь, жена за дверь, так что ли?
– Вы мне не муж! – Она судорожно отхлебнула вина.
– Я тебе больше чем муж! Marie, перед памятью нашей любви… Умоляю… Я не могу этого допустить! – Он с нескрываемой болью и омерзением глянул на мятую, дышавшую изменой кровать.
– Боже, какая химера! – Неволина, алея щеками, снова глотнула вина. – Вы до сих пор не поняли, полковник, что я одинокая птица в черном поле… Летучая мышь… Довольно, все сгорело. Все! Я же тебе говорила, Ники: я баба шлющая, а значит, непредсказуемая. Переменчивая, как погода. Жизнь – мерзавка… вот я и беру пример с нее. Вы же венчаны, граф, я все знаю, чего ж еще? А теперь оставьте, слышите, оставьте! Я совершенно измотана… у меня нервы… Я полагала, дело уже кончено…
– Теперь… пожалуй. Но поставить в нем жирную точку след! «Я шлюха!» «Я летучая мышь!..» «Я из борделя и жить пошла!» – Брось! Все это софистика, и заметь, невысокой пробы! Жаль, конечно, что эти банальные домашние дрязги не миновали нас… Но разве я… я обезобразил твою жизнь своим чувством?
– Да вы ворвались ко мне, как варвар, даже не склонив головы.
– Да кто ты такая, черь возьми?! Помни, с кем говоришь! – Плечи Ланского вздрагивали, холодный прищур глаз не сулил ничего хорошего. – И хватит пить эту дрянь!
Пузатый графин, вырванный полковником из рук Марьюшки, разлетелся каскадом стекла по полу.
Однако певичка не дрогнула и на этот раз. Сумев околдовать сердце Ланского, она была уверена, что сумеет доиграть свою роль мстительницы, а если надо, и удержать любовника. Разве не для этого Господь дал ей красоту, а дьявол – хитрость и властолюбие!
– Ты спрашиваешь меня, кто я? – делая несколько опасливых шагов вдоль стены, с вызовом бросила она. – Так знай: никто и ничья! И не надо смотреть на меня, как на собственность. Нет, граф, мой экипаж давно ушел… равно как и ваш… Мы оба опоздали…
Николай Феликсович на этот довод лишь молча сыграл желваками и, отведя взгляд, сдавленно молвил:
– Что ж, благодарю за откровенность… Каюсь, был слеп, да вот прозрел и сделал открытие… Ты мерзкая гадина. Впрочем, на этом и ладно. Честь имею.
– Фи, какие слова… Жаль, что такой с виду благородный человек столь дурно воспитан.
– Молчать!
– А вот и нет! Здесь не казарма! О, да вы красный как рак… Этот цвет вас сильнее старит…
– Молчать! К черту сантименты! К черту тебя! Ты, похоже, такая же дрянь, как и твоя мать, только еще хуже!
– Возможно, и что?
– Стерва!
– Еще бы! – Она истерично захохотала, гордо тряхнув головой.
– Тварь! Шлюха!!
– О, да-а… но не твоя! А ты бы хотел приказать мне сидеть здесь на стуле, как Христовой невесте, да смерти ждать?
– Зарублю-у! – Полковник, дрожа скулами, схватился за рукоять сабли.
– Ну что же вы, граф? – Она, как ведьма, скакнула на перину и, закрывшись турецкой подушкой, отчаянно закричала: – Давай! Давай! Покажи свою удаль! Значит, тебе легко убить беззащитного человека? Женщину? Да! Да!!
– Нет… – Граф с искаженным от гнева лицом бросил клинок в ножны: – Но убить такую гадину, как ты… это не преступление, это долг. Однако я слишком презираю тебя, и поэтому… прощай, но помни: ты плохо кончишь…
– А ты мне не ворожи, – затравленно сверкая из-за подушки глазами, огрызнулась Марьюшка. – Мне кукушка на опушке нагадала двести лет. Лучше скажите милому моему – адъютанту вашему… лишь его теплом согрета, век буду ждать и помнить!
– Что?.. – Ланской качнулся, будто прошитый пулей, тихо, словно не веря ушам, повторил вопрос и вдруг, потемнев лицом, давая ему страшную откровенность, взорвался криком: – Опять он?.. Иуда, подлец! Вместо службы все по трактирам рыщет… Табак, карты, вино… Ныряет в постели к чужим женщинам… и причем по уши в долгах… Мотыга, стервец! И кто, прика́жете, за такого пройду платить станет? А ну скажи мне на милость, кто? Разве дура-мать или такой, как я – выживший из ума слепец? А может, вдова генеральша, к которой он тоже уже успел под юбку забраться с просвиркой? Нет, дудки! Знавал я на своем веку таких брандахлыстов. В адъютанты сквозняком вышел! К черту! Разве то служба? Мерзость! И кому дорогу перейти вздумал? Раздавлю! В остроге место таким, в штрафной роте! Я обещал ему снежные пики Кавказа… так сделаю. Уж я научу тебя государю служить… Будешь помнить меня, коль скоро честь потерял! – возвышая и без того громовой голос, выдал Ланской. – Вот тогда и согревайте друг друга… плетите козни да шашни… К черту, честь имею.
Полковник смолк, водопад гнева иссяк. Подергивая плечами, пылая рубцом на щеке, весь презрение и брезгливость, он захрустел битым стеклом к двери.
Марьюшка, как загнанная в угол блудливая кошка, слушала сей приговор, давно опустив свои прелестные глаза. Сейчас ей уже не хотелось кричать и ёрничать либо расцарапать ему лицо. Кровь отхлынула от щек, разметанные волосы неряшливо падали на лоб, глаза погасли, и она даже как будто стала меньше ростом.
Страдая тяжелым чувством потери в лице богатого графа, она все же испытывала глубокое удовлетворение, что сумела вовремя подмахнуть, и ее ядовитое жало мести достигло желанной цели. Белоклоков и Ланской, близкие друзья, отныне были врагами… Ей только и оставалось теперь посмеяться над самовлюбленным и незадачливым корнетом.
Тем не менее, как только фигура полковника исчезла за дверью, густая тень беспокойства легла на лицо Марьюшки. Тревожно оглянувшись помутившимися глазами, она привстала на колени. Было так необычно, так пугающе тихо, как это бывает разве в присутствии смерти. Блуждающий взгляд остановился на сбитой в ногах перине, и ей показалось, что и перина, и она сама в этот час была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки савана и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда тускнеют и блекнут на платьях яркие краски жизни, а звуки тают и исчезают в обете молчания.
В занавешенное окно дышал по-весеннему теплый мглистый рассвет и где-то далеко, подчеркивая набухшую тишину комнаты, жалобно подвывала бездомная собака.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































