Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
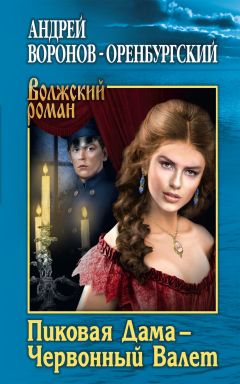
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 48 страниц)
Глава 13
– А-а, вот ты где запропастился, архаровец, жили-были… На тебе салют из пушки… Не боись, спущайся до меня. Гроза миновала. Да, брат, история… Тут мало одной фразы, чоб ответить на все вопросы…
Алешка обернулся на голос и увидел на нижнем лестничном марше Корнеева. С подсвечником в руках он снизу вверх смотрел на него и манил пальцем.
Дымное от тумана, смуглое от тающего крыла ночи утро встретило их на заднем дворе трактира. С карнизов крыш сыпала звонкая капель.
– Ты вот что, сизарь-голубок. – Мелкие, не знающие покою глаза Максима Михайловича несколько раз с ног до головы ощупали стоявшего перед ним подростка. – Все, чо здесь видал и слышал, забудь… Понял? Ну-сь, то-то… Буркалы-то свои на меня не лупи… Знаю я вас, тихонь, без гроша в кармане… Из молодых да ранний, как погляжу… Привык, видать, уже с заднего крыльца шныкать. Гляди у меня, тихоня, не накличь беду языком своим… Тут дело темное, раз-два и в канаву. Я тебе тогда еще ангелом покажусь. У нас здеся каждый сверчок под лупой… Понял, а?
– Брат мой где? Дмитрий?
Алексей, не ежась от запугиваний торгаша, смело посмотрел на хозяина.
– Экий ты прыткий, бесенок. Однако боец растет. Гляди-ка, не опустил очей своих долу.
– Митя где? – тверже и громче повторил Алешка, инстинктивно сжимая кулаки, чувствуя, как в груди его разрастается черный ком тревоги за старшего брата.
– Стой, не дергайся! Спит твой Митя и соску сосет, – нервно хохотнул Михалыч, обтер свои пальцы о бордовый плюш и снова зыркнул окрест. – Сказал же, не дрейфь. С ым я еще разговор поимею… А теперича дуй отсель и помни слова Михалыча! Через годок-второй заходи… Ждать буду… Не обессудь.
После этой отповеди Алексей побрел на дорогу «мы́кать» извозчика. На душе скребли кошки, в голову лезло разное, но пуще тошнило. Вскользь промелькнули слова тяжело болевшего с водки отца: «На рассвете хорошо умереть или выпить», и еще: «С похмелья я, брат, готов играть на выстрел. Плевать на жизнь, только графин поставьте!»
День между тем обещал быть ясным и солнечным, но окованный своей неподвижной думой о случившемся, Кречетов был глух и слеп к краскам грядущей весны. Слезы обиды жгли душу: «Как обошлись со мной? Машенька… Что я, щепка от леденца? А ведь была… была минута, когда я хотел открыться ей, поведать о своих целях: театре, музыке, брате, о нашем маэстро Дарии, о Василии Саввиче, о Сашке Гусаре… О том, как мы вместе, я и она, ежели… Но нет, она сразу сказала, словно отрезала: “Не смей рот открывать о будущем. Я не желаю думать о нем. Хочу жить днем сегодняшним… Вот я здесь, с тобой, мне как будто и славно…”»
Уже там, наверху, за запертыми дверьми, когда ее губы душили его, он вновь встрепенулся, пытаясь вспомнить свое:
– Но почему, Машенька, почему?! Отчего ты не хочешь поговорить о нашем будущем?.. Отчего равнодушна? Разве не в радость помечтать о том, как мы вместе…
– Только давай без грез!
Марья Ивановна склонила к нему голову, и Алешке стало невыносимо горько. Ее лицо, такое красивое и близкое, было невероятно чужим и далеким.
– Все верно, миленький, на любви и верности бабьей земля держится. Да только не пара я тебе, ни по годам, ни по духу… Ты ведь и сам не глупый… Только не спорь – скушно… Ей-богу, скушно, родной. Но знай наперед, наш постельный роман ни к чему путному не приведет. И если ты подумаешь, то согласишься… Не смотри на меня бирюком. Я лишь добра желаю. Помни и другое, мой свет, пока молод – гуляй, успеешь на шею хомут накинуть. Жизнь – суровая штука, ждать не будет, так пользуйся, лови момент. Глупый, зачем тебе я? Распахни глаза, глянь, какие вокруг душечки в сарафанах… Свежие, молодые… Успеешь еще свое семечко бросить. И уволь меня от Божьей узды: «Это угодно Господу, это – не угодно…» Сущая чепуха, лишь бы тебе было сладко, понял?
– Но следовать твоим словам… выходит… купола людским горем золотить можно?
– Ах, какие опять красные речи, дружок! Только их к жизни не пришить! Святым духом сыт не будешь, хлеб без масла – наждак в горле… Ай, что там… зелен ты еще, пером не покрылся. Вот встанешь на крыло, хлебнешь лиха, поймешь, что такое жизнь. В ней, хитрой, без опыта жить, все равно как коту лезть головой в голенище…
У Алексея защемило в груди, когда при этом разговоре он увидел в ее глазах сверкнувшие слезы.
– Не надо! Прошу тебя… Прости… Опять я виноват.
Он неловко попытался поцеловать ее влажные, раскрасневшиеся глаза, но Марьюшка остановила его:
– Давай закончим этот разговор.
Голос ее звучал тихо, но жестко, и Алеша понял. что спорить бессмысленно. Он лишь обиженно посмотрел на нее, тщетно пытаясь найти для себя опору…
– Полно мрачнеть. Смотри, я не люблю таких, обижусь. Это наша с тобой особая ночь, а ты уже дуешь губы!
Она вдруг рассмеялась чему-то своему и, скользнув ладонью по его плечу, сказала:
– Помни, так заведено… Люди от любви страдают, но не умирают. Знаю, ты сегодня мыслишь иначе, но это так. Все мы умираем от старости, болезни, от ядра и пуль, но не от любви.
Алешка уже не спорил. Он тихо лежал рядом, а по щекам текли слезы. На хрупкую бабочку его надежды наступили жесткой туфлей правды.
* * *
У корнеевского амбара заслышалась песня:
Посмотрел я в глаза сахалинские…
Посмотрел я в глаза татарские…
Все пропив…
Алексей обернулся – никого. Смолкла и невесть откуда взявшаяся песня, будто захлебнулась и ушла под лед. По широкому двору мимо высокой поленницы бродила сонная стайка черных овец и тупо глазела на одинокого подростка.
«Поцелуй слаще, чем вино… слаще, чем и твои мечты…» – опять всплыли слова Неволиной. Кречетов встряхнулся, как утка: надо гнать эту хворь из себя. Сколько мне ходить за нею мысленной тенью? А может, я не прав? И не смею дегтем мазать свою любовь? Может, ее светлей и нет на земле?
– «Любовь»? – Он снова удивленно переспросил себя и тут же скривил в усмешке губы. – Да какая же это любовь, дурак, коль о тебя, как о половик, вытерли ноги. Нужен ты был ей лишь для личного прицела, вот и вся любовь. Сказано было: «Гулящая». Забудь!
Алексей сплюнул в сердцах под ноги, нахохлился. Набежавший ветер хватал его за длинные полы шинели. Угрюмо пройдясь вдоль дороги, напрасно высматривая в этот ранний воскресный час свободный возок, он закурил схороненную папиросу, взятую про запас со щедрого стола адъютанта. Пока он прохаживался туда-сюда, память Кречетова бралась родительским домом… Отец, маменька… И видя ее сейчас перед мысленным взором, такую чистую, кроткую, любящую его и Митю, укоризненно молчаливую… на душе Алеши неотступно сделалось совестливо и горько.
– Что же это я? Вместо того чтобы быть со своими… Помочь чем по хозяйству… я-то, подлец, как?.. Нехорошо, совсем нехорошо… Зачем, зачем?..
Ему даже пугающе ясно привиделось, что мать незримо стоит рядом и утирает набежавшие слезы кончиками шерстяного платка. Тут же сами собой слетели птицами в память картины недавнего детства: строгий пансион госпожи Галины Кирсановой, мама с обычным теплым вопросом: «Чем вас сегодня кормили, сыночка?» – и его бесхитростный детский ответ: «Кальтоска, сметана, голёх…» Вспомнились и переживания маменьки по устройству его на казенный кошт в училище, и то, что она готова, по образному выражению, «продать обе свои руки», чтобы он только мог выучиться и получить образование… Вспомнил и многое другое, отчего стало колко стыдно за свой беспутный поступок, за свое падение и пьянство.
Алешка осекся в мыслях, палец обожгла истлевшая папироса, но, отмахнувшись от этой малости, он неожиданно вспыхнул и грубо выдал:
– Ах, отстаньте, мама! Ну, как всегда! Так и знал! Так и знал! Вы же ничего не понимаете ровным счетом. Ничего!
Людмила Алексеевна, от слез плохо видя сына, подавленно молчала и, точно слепая, на ощупь придерживалась рукой за подъезжую свайку. Ее мягкий подбородок дрожал, а с выцветших губ слетело:
– Зачем тебе эта грязь, Алешенька? Зачем, господи… Покайся, милый мальчик, пока не поздно… Разве это наша мораль?
Алексей, не в силах выдержать, заплакал и сел на лавку. Заплакала, присев рядом, и маменька. Бессильные в эту минуту хоть на мгновение слиться в чувстве материнской и сыновней любви, вместе противопоставить ее своим опасениям и переживаниям, они молчали и плакали не согревавшими слезами одиночества.
Так и не дождавшись иных слов, страдая от дурной «защитной» привычки повышать голос на мать, он тихо сказал:
– Простите, мама, простите… Однако кого я предал? Объясните! Я пойму…
– Сначала меня, потом себя, а дале…
Алешка поежился от услышанного. Сквозь искрящуюся грань слез он вдруг близко, с безумной выразительностью увидел, как за последние месяцы поседела и крепко сдала его мать. Он хотел было согреть в ладонях ее изработанную, в мелкую морщинку руку, но образ истаял, дыхнув на него щемящим теплом родного очага.
– Мама, мама… – испуганно и тихо прошептал Алексей, испытывая тревогу пустоты и утраты.
В ответ он ничего не услыхал, но с уходом видения отпал и зыбкий туман от его горячего, раскрасневшегося лица, и блестящими, словно омытыми глазами он изумленно огляделся окрест, будто заново постигал изменчивый мир.
– Эй, долго ль ворон считать будем? – незлобно крикнул нараспев подъехавший сзади ямщик.
У Кречетова заныли от холода зубы: мужик смачно чавкал на морозце студеным моченым яблоком, не то с похмелья, не то с ухарства, и шворкал малиновым носом.
– Нуть, едешь, чо ли?
Алешка без слов зарысил к возку. Деньги Марьюшки были как нельзя кстати.
Ямщик на облучке, ходко разобрав вожжи, чмокнул савраске и, подмигнув угнездившемуся седоку, хэкнул:
– А нуть, холера тебя в дышло! Матюгами сыта! Пошла, пошла, гривастая, зверь о четырех ногах!
Часть 4. Бася
Глава 1
С того дня прошло ни много ни мало – три месяца, однако событий за этот срок случилось множество. Канула в невидимую глубь прошлого встреча с Марьюшкой… Горький осадок «корнеевской ночи» вычеркнул внезапный уход из театра месье Дария.
Споров и разговоров по сему событию было изрядно: чего только не рождало, не строило воображение воспитанников! Хотя правда была проста, как медный пятак, – горячий и гордый южанин Дарий, серьезно не поладив с дирекцией, вышел в отставку.
Потешные с неверием и страхом смотрели друг на друга, умышленно громко разговаривали и смеялись в курилках; решительно никто не желал мириться и верить, что любимого маэстро больше не будет с ними. «Э-э, кажда зверюга к себе гребёть, только кура-дура – от себя», – с сердечной болью заявил по этому поводу пьяный Чих-Пых.
Дворник не развивал свою мысль, но и без того все было ясно… Директор Саратовского театра Михаил Михайлович Соколов не сумел сберечь подаренный судьбою бриллиант – великого мастера балетной сцены.
– Что ты хандришь, голубчик? Ты мне не нравишься последнее время. – Правое веко маэстро чуть-чуть играло, готовое лукаво подмигнуть. – Нет, нет, молчи! И не гневи Небо… Пьешь чай, срываешь аплодисменты зала и поносишь жизнь? Ведь так? Молчи! Не сметь! О, глупые мысли юности о любви! Забудь, Кречетов! Любовь – это дурь! Ловушка для непуганых идиотов, прихлопнет, и все… Работай в поте лица своего, работай и еще раз работай! Служи Театру! И благодари Бога, что тебе дарованы талант и время. Что? Сомневаешься? Ах, нет… Так знай, когда у тебя будут деньги и женщины, тебе просто некогда будет творить.
Отворачивая лицо, Кречетов начал было малосвязно говорить в свое оправдание: дескать, ему еще только шестнадцать, но маэстро, щелкая себя английским стеком по икре, перебил:
– Глупый, ты полагаешь, будешь вечно молод и свеж? Думаешь, будешь бегать как мальчик? Дудки! Спеши жить, друг мой. Спеши к великому, к совершенству, а то опоздаешь! Иначе ценой твоему бездействию, – худая, но одновременно тяжелая рука педагога легла на плечо воспитанника, – будет холод забвения вечности. Что такое вершина Парнаса? Отточенная филигрань мастерства и славы? – сверкая глазами, воззрился на Алексея маэстро, затем порывисто выбросил руку в сторону окна и с жаром продолжил: – Видишь горизонт? Идешь к нему – он близок, идешь дальше, еще и еще, а он все одно чертовски далек. Так делай добро, верши, дерзай, только так ты достигнешь цели!
Маэстро вдруг осекся и костлявыми нервными пальцами оправил длинные волосы. По его мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу скользнула тень какой-то недосказанной правды. Алексею показалось, что его любимый учитель в эту минуту как будто стал меньше и враз постарел на десяток лет…
– Месье Дарий! – Кречетов почтительно придержал за локоть мастера. Но тот хохотал тихим бессмысленным смехом, потирая свои сухие, узкие ладони. Не обращая внимания на Алексея, весь в себе, он прошелся по пустынному классу, пытаясь удержать неуместный смех, но потом враз стал замкнут, серьезен, как прежде, с гордо поднятой головой.
– Впрочем, своя рука – владыка, смотри, решать тебе, – через долгую паузу заключил он и, глядя в глаза растерянного ученика, уже без слов утешения, без тени снисходительной ласки добавил: – Что делать?.. Я слишком симпатизирую тебе, Кречетов, чтобы быть объективным… Зато я знаю, сколь скоротечна жизнь. Да, человека трудно разложить по логике… Что там, человек изначально алогичен по природе своей, но… выжги в памяти: возвеличивший себя да и низвергнет. Я предчувствую: тебя, Алексей Кречетов, ждет венец славы, деньги и оглушительный успех, но пусть время и необходимость сделают тебя мудрым, решительным и благоразумным. А теперь будь добр, оставь меня. Иди и подумай над моими словами.
Напоследок маэстро перекрестил любимца, холодно погладил его по голове и, повернувшись спиной, отошел к окну.
«Этот разговор с месье Дарием случился третьего дня… – лежа на кровати в своем дортуаре, вспоминал Алексей. – А сегодня маэстро уже нет среди нас и никогда не будет. Осиротела наша «потешка». Второго такого мастера не найти…»
Прошла неделя-другая в скорбном оцепенении, и когда воспитанники наконец очнулись – над всеми их мыслями витало тягостное сознание непоправимой утраты. Конечно, жизнь шла своим чередом: как прежде, топились печи, кололись дрова, в баки заливалась вода, велось хозяйство, давались уроки, воспитанники беседовали о своих насущных делах, но проявилось в их бытие и нечто новое, равнодушное блеклое, отчего, несмотря на старания наставников, в коридорах училища начинало веять упадком. Воспитанники откровенно ленились работать в классах, к занятиям готовились спустя рукава, да и самих учителей нет-нет и охватывала та же странная тоска и уныние, от которых положительно все приходило в расстройство.
Именно в это же время, с уходом маэстро, в судьбе Кречетова произошел крутой поворот. Пройдя за четыре года полный курс «тщательной дрессировки», став лучшим танцовщиком училища, уже немало блистая на сцене городского театра, Алексей тем не менее встал перед выбором: следовать ли напутствиям месье Дария либо решиться и все же перескочить на другую ступень, ведущую, по его разумению, к истинному призванию.
Между тем все обстоятельства складывались на руку Кречетову. Еще в 1829 году в Северной столице было утверждено новое «Положение Петербургского Театрального училища». В сем документе основной целью ставилась подготовка не балетных, а драматических артистов. После размолвки маэстро с дирекцией оскорбленный в своих чувствах Соколов, недолго думая, решил следовать столичной директиве. У Алешки появилась нежданно-негаданно возможность покинуть балетный класс, учеба в котором без месье Дария утратила для Кречетова смысл, и заняться наконец тем, к чему так давно стремилась его душа.
Вокруг слышались возмущенные голоса мастаков и друзей:
– Опомнись, дурья твоя голова!
– Талант зарываешь!
– Господа, не болен ли часом Кречетов?
– Наша надежда, и что же?! Мальчишка! Вот, вот она, господа, черная неблагодарность!
Однако Алексей точно не слышал этих голосов. «Мир слова» очаровал его сразу, властно призвал к себе от прежнего безмолвного искусства, хотя и там он, Кречетов, мог быть первым.
По соседству с драматическим классом жили «делаши-краскотеры» – те же воспитанники училища, которым надлежало под бдительным оком первого театрального художника Журавлева обучиться декорационной живописи.
Эта удивительная атмосфера, пропитанная особым устойчивым запахом красок, желатина и лака, наполненная картонами, холстами, эскизами декораций и чертежами, очаровала жадного до всего нового Алексея и часто манила его в художественный цех.
Игорь Иванович Журавлев, сухой и высокий от природы, словно оправдывал и подтверждал свое прозвище «Журавель». Друзья-краскотеры хвастали Алешке, что их наставник учился в столице и был питомцем студии академика Антонио Каноппи – известного архитектора, живописца и скульптора. Там, в Петербурге, он в совершенстве постиг искусство создания декораций к балетным, драматическим и оперным спектаклям.
Сам же художник Каноппи, уроженец синеокой Италии, сказывали, прожил весьма бурную молодость: бился с гвардейцами Наполеона в горах за свободу своей любимой Отчизны, но позже вынужден был навсегда эмигрировать и принять русское подданство.
Как и его достославный учитель, Журавлев писал на саратовской сцене пасторальные сюжеты, сооружал декорации с колоннами и статуями, смело, в известных пределах провинциальной цензуры, решая проблемы композиции и перспективы.
Но более всего Алексей поглощен был тайнами и законами драматического мастерства. Многие часы теперь, вместе с воспитанниками драматического класса, проходили в тщательном копировании знаменитостей города, разыгрывались сцены из прежде виденных представлений и многое другое, что стоило, на взгляд подростков, подражания. При этом сходство с изображаемой личностью получалось замечательное, а «портрет» до слез смешной, потому как Кречетов, выделывая забавные ужимки и «кренделя», сам оставался нарочито серьезным. И право, когда он оказывался в кулисах учебного театра и брался подобным образом развлекать приятелей по ремеслу, то иные потешные, случалось, от «колик в животе» и смеха не имели мочи выйти на сцену.
– Ну ты и пройда, Кречет!
– Ай да путаник, сукин сын!
– Умора, и только!
Алешка был счастлив до небес – сбывалась его мечта! Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим свою волю, смысл и предназначение. Прошло не более двух недель, как Кречетов вступил в полное соглашение с новым своим окружением, радовало и то, что он по-прежнему продолжал жить в старом корпусе в одном дортуаре вместе со своим закадычным другом-хохлом из Полтавы Сашкой Гусарем.
Сергей Борисович Козаков (по прозвищу «Пруссак» – за свои холеные черные усы и педантичные, как у немца, манеры) был новым педагогом Алексея. С болезненной ревностью относясь к прошлой специализации новенького воспитанника, он тем не менее сразу разглядел в Кречетове золотое зерно актерского дарования, хотя многое в юноше настораживало: откровенно худо поставленный голос и излишне рафинированный шаг, который с первого взгляда неумолимо выдавал в Алешке балетного.
– Будь ласкив, що с тобой? – болел душой за друга Гусарь, видя, как мучается и переживает Алексей из-за своих неудач в выразительном чтении текстов.
– Пруссак говорит, голос у меня слабый и балетный «налет» непобедимый.
– Нехай бачит, Лёсик. Дурень он ваш усатый, на все трохи времечка надо. Ты ж тильки не падай духом, освоишь и эту грамоту, як ноги научил кабриоли делать. Вона з лица сошел… Будэ, будэ тоби убиватысь, чай, не дивчина…
– Чувствую я себя плохо, – конфузливо отмахиваясь рукой, замкнулся Кречетов.
– Вот чудак-человек, выглядишь ты еще хуже! – надкусывая маковую булку, не унимался Гусарь. – Як прикажешь лечить тебя, если молчишь букой, а я не знаю, чем ты хворый?
– Ты-то не знаешь? – вспыхнул Алексей. – Не доводи до греха, хам ты трактирный, отвянь. Все ты знаешь. Скучно разве тебе?
– А где же ты пропадал давеча со своим братцем? – ероша волосы на макушке, снова прилип Гусарь.
– В следующий раз пропадем вместе, – рассеянно буркнул в ответ Алексей и виновато улыбнулся: – Не пытай ты меня, и так тошно.
– Ох и твердый ты пряник, Лёсик.
Гусарь легко управился с булкой, основательно запил ее кружкой молока и, не оставляя мысль расшевелить молчаливого друга, вновь наудачу забросил удочку:
– А знаешь, с твоим переводом из балетки к нам новенький поступил.
– И что? – не то с изумлением, не то с любопытством приподнял бровь Кречетов.
– Известно что – Гвоздь по обычаю справился: як, мол, твоя фамилия? Приходилось ли танцам обучаться прежде, и прочее. А тот растянул губы, брови поднял выше лба и, як телок, густо так промычал: «Фамилия наша Жабин. Мы к сему привычные». Наши, кто был в бытовке, чуть со смеху не сдохли! Вот уж послал нам господь дружка, ха-ха! «Мы к сему привычные». И где его только сыскали? Такого шукать да шукать! Ну, що ты зыришь на меня, ровно я брешу? – Голосистый Гусарь даже привстал со стула. – Правда это! Истинный крест.
Алексей, не поворачивая головы, усмехнулся уголками губ и философски заметил:
– Эх, Сашка, друг мой милый, что же ты битый час, как бык на бойне, орешь? Разве у моря родился? Я ведь, брат, не глухой. А насчет твоих заверений – верю, да, да… Что же тут такого диковинного? Только вот, правда и истина, увы, не одно и то же…
– Да-а? – Гусарь в изумлении почесал затылок, округляя кошачьи голубые глаза, его черные брови скакнули к вихру, едва ли не выше лба.
Алексей был, конечно, не прочь поболтать по душам с Сашкой, как-никак их связывала крепким узлом четырехлетняя училищная дружба. Но сегодня, именно в этот час, Гусарь был весь какой-то земной, деревянный, совсем не настроенный на лирический лад. «И еще эта большущая булка с маком и молоко в оловянной кружке с крестьянским прихлебом… Нет, все не то… Грубо и чересчур по-кучерски, так и несет сермягой…» Алешке сейчас хотелось стихов, а Шурка готов был сыпать анекдотами, Кречетову в весенней капели за окном слышался серебряный перебор струн, а другу – барабанный бой.
«А вообще-то, бог мой, сколько есть милых воспоминаний… Как хотелось бы сейчас запереться на ключ и затронуть вечную тему любви со множеством любезных маленьких реминисценций… Ну, скажем, о той самой беличьей муфточке с прохладным запахом ванили, еще кое о чем, более нежном и сокровенном… ведь положительно на то и существует дружба на белом свете, чтобы поверять костру товарищества сердечные секреты и тайны… О, эта самая сладкая и любимая, никогда не иссякающая тема старших курсов в училище!»
Алешка безнадежно вздохнул и краем глаза глянул на друга. Красивое лицо Гусаря самодовольно улыбалось, точно говорило: «Ну что, воспрянул душой? Отполировал свой нимб? Опять готов нести свою душеспасительную чушь? Ладно, чего там, жги, черт с тобою. Ну-с, каков я? А?»
Кречетов закрыл глаза: «Нет, нынче Шурке я ничего не скажу. Не поймет хохол. Смотрит на меня, а думает о сале. Решительно не поймет».
Алешка перевернулся на другой бок, с тоской слушая доносившийся из коридора бой настенных часов. Время отдохновения, имевшееся в распорядке дня, катастрофически таяло, не оставляя надежды на послеобеденный отдых.
С четырех до шести его снова ждала зубрежка текстов и отработка речи. «Ох, уж эта “потешка” – скачем, как саврасы без узды!»
Меж тем Сергей Борисович Козаков ревностно принялся за своего нового воспитанника. В пользу Кречетова говорила его бесподобная мимика и потрясающая гибкость тела. И когда Алексей почувствовал внимание и отнюдь не начальническое обращение Пруссака, стала проходить неуверенность, которая делала его отчасти зажатым и мешала всегдашней восприимчивости. С помощью Сергея Борисовича Кречетов окончательно уверился, что нашел-таки свою стезю. Алешка искренне привязался к Козакову и испытывал к нему глубокое благодарное чувство. Тому приходилось изо дня в день особо заниматься с Кречетовым отработкой речи, заставляя его десятки раз декламировать монологи. Усилия не замедлили дать свои плоды. Наставник по праву гордился своим воспитанником, частенько с радостью говоря: «Что ж, господа, тут, право, и моего меду есть ложка!»
Действительно, артистический рост Алексея был налицо. Хорош собою, он имел, в отличие от других, завидную сценическую внешность и задатки героя-любовника. Свобода и уверенность движений, славные манеры и, как результат большого труда, – ясная, четкая речь… В краткие сроки он не только вполне оправдал, но и превзошел надежды учителя, стремительно выйдя в первые актеры учебной саратовской труппы. Юноша не без успеха играл теперь на заменах едва ли не в любом амплуа.
– У меня есть ужасный недостаток, Сергей Борисович… Молодость… ведь так? – как-то в гримерке, за чаем, после очередной репетиции с наивной открытостью задал вопрос Кречетов.
Козаков нахмурил брови и встал с дивана. Заложив руки за спину, под сюртук, он прошелся по комнате и, остановившись перед Алексеем, сказал:
– Зачем так трагично, дружок? Молодость переходит в мудрость… Не рви себе сердце… Ты говоришь дурно и стыдно. Молодость – это отнюдь не конец пьесы, не занавес. Я понимаю… Ты мечтаешь царственно, как Петров или Рюмин, носить кольчуги и доспехи, костюм Гамлета или лохмотья Лира… Так это будет, Кречетов, будет с Божьей помощью. Не ленись. Работай, учись! Впитывай мастерство корифеев… Но помни и то, что молодость – это великий дар! Увы, скоротечное счастье… И тот же вельми уважаемый нами Рюмин либо Петров уже никогда не смогут сыграть Труффальдино.
Алешка с виноватой благодарностью посмотрел на своего учителя, и ему, не в пример прежнему настроению, стало хорошо и покойно на душе. Он даже почувствовал какое-то физическое облегчение, когда мастер по-дружески подмигнул ему и закурил французскую папиросу.
Странный был человек Козаков, совсем не похожий на месье Дария. Даровитый педагог, ученик знаменитого Петра Андреевича Каратыгина, представитель классической школы, он был одновременно и прост и сложен. Строг и сух на занятиях, но при этом душа-человек в обычном общении. Однако при всей педантичной требовательности ему было далеко до «тиранства» маэстро. Впрочем, как и месье Дарий, Козаков своим рвением умел увлечь воспитанников, разъясняя им необходимость верного понимания роли и чистого произношения, советовал учить роль вслух, тренируя голос и дикцию. Он верил, что каждый человек наделен от природы способностями, которые при желании может развить. Алексей на своем примере видел, как Пруссак любит своих питомцев, заботливо ищет в них основы дарования, нуждающегося в выявлении и шлифовке.
– Запомните раз и навсегда, – порывисто жестикулируя руками, прохаживаясь взад и вперед по классу, чеканил слова Козаков. – Внешние данные, ловкие манеры, звучный голос и благородная наружность еще не делают актера! Всем этим добром может обладать и трактирный мот, и очаровательный подлец! Артист обязан уметь заставить зрителя и рыдать, и смеяться! Он обязан могучим талантом потрясать его до глубины души! Иначе смывайте грим и вон из театра! На Волге всегда нужны рабочие руки! Помните, лицедеи, наш брат паяц должен бить на слух, на разум, на зрение и на сердце своих слушателей. А чтобы приятно действовать на слух, надобно иметь ясную, внятную речь, основанную на грамматике великого русского языка! Впитайте в себя на всю жизнь: талант, усердие и мастерство – вот наши золотые стрелы. Так дерзайте, друзья, чтобы ваши колчаны всегда были полны сих достоинств. Теперь закрепим… Так чем же все-таки может действовать на разум слушателя артист? Прошу, ну-с, скажем, Колесников, вы…
– Актер должен усвоить всю силу, всю сущность выражаемой идеи, господин учитель.
– Так, недурно. Садись. Но сего мало, решительно это не все… Ну-ка, Кречетов, что же еще? Изволь трудить мысль!
– Еще актер должен соединиться с этой идеей. Потому как, только изучив сердце человеческое и сокровенные его изгибы, актер может действовать на душу зрителя.
– Вот это в яблочко. Все слышали? Молодца. Не подвели тебя, голубчик, актерский слух и чутье. Покуда присядь. А сейчас, господа артисты, перейдем от теории к практике.
Так, день за днем, приходя к воспитанникам три-четыре раза в неделю, разучивая с ними монологи и роли, Пруссак учил их искусству актерского мастерства. Будучи требовательным, он все же умел добиваться нужного результата, не прибегая к особой строгости, и часто занятие умело превращалось в интересную игру. Козаков был остроумен, весел и молод, что особенно нравилось и притягивало к нему молодежь.
Но далеко не все было столь безмятежно на горизонте Сергея Борисовича, как полагали потешные, и далеко не все на поверку нравилось начальству училища, что было связано с именем этого человека.
Рваные, без начала и без конца, обрывки пересудов так или иначе долетали и до Алешки. Гусарь клялся, что, дескать, слышал собственными ушами накануне Святок, как на крыльце о Пруссаке сплетничали мастаки. Из этих и других неясных бесед выходило, что господин Козаков на деле не доучился в столице у Каратыгина… и за одну темную историю, что приключилась перед выпуском, был отчислен с несколькими товарищами из петербургского театрального училища. И лишь благодаря обширным связям родителей его миновало грозное наказание. Тем не менее он был принужден покинуть столицу и проживать на Волге в Саратове.
Алексей с недоверием поглядывал на Сашку, который с одеялом внакидку завороженно смотрел на узкий ивовый лепесток пламени свечи, и лишь покачивал головой после сказанного. Фигура Козакова и таинственный ореол, окружавший его, как магнит теперь притягивали к нему пытливых подростков. Алешка и Сашка не раз делали попытки дознаться, докопаться до истины, что же представляет собою Пруссак, и надо признаться, подчас дорисовывались до таких нелепых узоров, что самим становилось смешно и стыдно. Но поутру, когда звон колокольца разводил их по классам, они уже не удивлялись своему смеху и забывали про краску стыда. Напротив, самые фантасмагорические домыслы начинали казаться им истинными, и они с нетерпением ждали отбоя, рассчитывая, что уж на сей-то раз обязательно разрешат мучивший их вопрос. Но наступал заветный час, а предмет раздумий оставался все таким же томительным и далеким.
Больше всех в этой истории туману подпускал вездесущий Чих-Пых, здесь он был на корпус, а то и на два впереди иных рассказчиков. Пыхая самосадом и облизывая сожженные водкой ярко-красные губы, он давал волю своим пьяным фантазиям.
– Я за правду, мать ее суку, под нож пойду, в рот меня чих-пых! – утирая искристое зерно пота со лба, рвал горло Егор в своей дворницкой будке. – Вона Поликашка-золотарь не даст мне быквы соврать… Эх вы, тюхи-матюхи, а ну, брысь отсель! Еще с вопросом к Егору претесь… Вам-то какая печаль? Нехай охотничат ваш Борисыч, обучит вас, недорослей, чай, поп, а не черт. Но одно зарубите, гаврики, что вам скажет Егор. Разбойник он, убивец, в глаз меня чих-пых… О-оо, как! Тссс-с!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































