Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
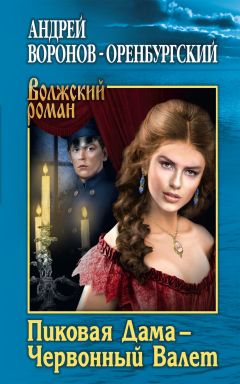
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 48 страниц)
Глава 4
Удивительна география Саратова. Расположен он на возвышенной местности, сбегающей к Волге причудливыми уступами и окруженной высотами, сродни амфитеатру. Город кажется сжатым кольцом высоких холмов и поражает глаза приезжего своим громадьем, растянувшись аж на семь добрых верст вдоль берега реки. С севера над теменем города дыбится Соколовая гора, далее на запад – гора Лысая, а еще далее – Алтынная. Одна сторона этих возвышенностей обнажена, точно выбрита цирюльной бритвой, другая, напротив, крепко поросла щетиной мелкого леса и разрезана весьма глубокими буераками, в которых местами, подобно оазисам, разведены фруктовые сады. Два широких яра делят Саратов на три неровные части; из них средняя – самая значимая и заключает, собственно, сам город, а крайние, хотя и довольно велики и густы народом, – все же считаются только предместьями. От Глебова оврага берет начало и тянется вдоль набережной пристань, в тенистой прохладе которой так славно вершить прогулки.
…Вдоль нее и шли, взявшись за руки, Алеша и Варенька. И, сами того не заметив, вдруг оказались под Соколовой горой, где теснились друг на друге более трехсот хлебных амбаров.
– Как здесь мрачно, – с ноткой тревоги повысила голос Бася и с беспокойством огляделась окрест. Мощеные камнем спуски к берегу давно остались позади. Те же, что виднелись сейчас, были дурно устроены и неудобно высоки. Не было видно здесь и обычных трактиров, продуктовых лавок, ремонтных мастерских и общественных купален, которыми пестрел городской центр, куда приставали пассажирские пароходы. Впереди, у самой воды, виднелась лишь полуразрушенная временем постройка: не то судовой дебаркадер, не то заброшенная портомойня, да полусгнившие деревянные ряды, где прежде велась оптовая торговля зерном.
– Господи, где мы? Мне страшно, Алеша…
Пальцы девушки крепче сдавили его предплечье.
– Вы были здесь прежде? – прошептала она. – Ах, совсем забыла! Который час?
Кречетов давно ожидал этого страшного вопроса. Он безнадежно как приговор, подводил черту их чудесной встрече. Во внутреннем кармане на груди у него хранились серебряные, на цепочке, часы немецкой работы, выпрошенные «на раз» под честное слово у Юрки Борцова. Но за весь день он так и не рискнул с шиком выудить из кармана эту красоту, боясь напомнить о времени и тем самым приблизить их расставание.
Время же, отпущенное для прогулки, давно истекло: за разговорами минуло не два, а все четыре часа… «Ох, что у нее сейчас творится в доме? Как пить дать, переполох!»
Он краем глаза видел, как щечки Барбары схватились ярким румянцем, взгляд сделался напряженным, движения – резкими. Сложенный зонтик от солнца нервно царапал землю латунной шпилькой, еще более подчеркивая и без того скверное настроение хозяйки.
– Варенька… – Кречетов попытался успокоить спутницу, но получил лишь жесткий «отлуп»:
– Замолчите! Когда вы оставите меня с вашими дурацкими просьбами и мольбами! Мне надобно срочно домой! Боже, что подумают маменька и papá? Как вы смели мне не напомнить о времени? Я порядочная девушка…
– Я тоже…
– Ах, молчите! Нет, нет, нет! – Она, словно капризный ребенок, затопала ножками, затем с нескрываемым чувством тревоги бросила взгляд по сторонам, и Алексей заметил, как от отчаянья порозовели белки ее глаз. – У вас… у вас… жестокое сердце! Пустая душа и злое сознание… Господи, мамочка моя! Что будет, что будет?! Да не стойте же, право! Сделайте что-нибудь. Отвезите меня немедля домой!
Девушка кусала губы, глаза заблестели выступившей на них прозрачной влагой.
Но вокруг было пустынно и голо. Ко всему зашло солнце, свет погас, тени исчезли, и все сделалось бледным, немым и серым, как прогоревший пепел. Красавица Волга, еще вот-вот такая чарующая, блиставшая кольчугой серебристой ряби, стала темной, будто заструганный свинец, и в ней уже не было того дневного и солнечного дружелюбия…
Беспокойство полячки невольно передалось и Алешке. Следовало срочно, до темноты, вернуться к пассажирской пристани, и там отыскать извозчичью биржу. «Надо ж так было попасть впросак… Загадал же черт сюда забрести…» – Он пристально оглядел местность.
– Не бойтесь, все будет в порядке.
Кречетов протянул руку барышне, но она предпочла независимо идти рядом, хотя было очевидно, что его решительность отчасти взбодрила ее дух.
Чтобы сократить путь, Алексей решил круто срезать угол, идти напрямик через пустошь, а не вдоль берега. Ведь как известно, сумма катетов больше гипотенузы. Однако берег здесь был непотребно грязен, наполнен рытвинами и лишь местами пестрел сыпучим песком. Но не это обстоятельство наполняло душу Кречетова тяжелым и мглистым чувством тревоги.
Пустошь у Соколовой горы, через которую он вел Вареньку, издавна слыла в Саратове темным и худым местом. На здешних глинистых отвалах и оползнях скрывался от закона лихой народец. Осело в этом месте и то людское рванье, что прозвано было в миру «помойниками». Вконец опустившись на дно жизни, они гнездились тут в жалких лачугах и норах-землянках, промышляя на «Пешке»[78]78
«Пешка» – знаменитый Пеший базар в старом Саратове. См. Старый Саратов. 1995 г.
[Закрыть], иначе «Толкуне», воровством или продажей краденого. Иные «легалы» имели постоянное место в торговых рядах и «втюхивали» незадачливому покупателю всякого рода дрянь: поношенное платье, подержанную посуду, истасканные вещи и прочий характерный хлам, по которому зоркому наблюдателю легко можно было прочитать повесть разорения прежних хозяев… Были и те, кто шнырял в поисках пропитания на привокзальных площадях и церковных папертях, калымил могильщиком на кладбищах или в бурлацких артелях. Их многодетные семьи были истинным бичом города: вечно голодные, обозленные на жизнь, сорванцы с малолетства втягивались в тяжелую, грубую жизнь и существовали по тем же звериным законам, что и их родители.
Не было дня, чтобы их дерзкие, злобные стаи не грабили припозднившегося путника либо не «крысятничали» в торговых рядах. На «Толкуне» кого только не встретишь среди крикливой кипени, с божбой, клятвой и руганью покупающей и продающей жалкие остатки былого величия и следы чужой роскоши! Но за каждым торгашом-ротозеем, за каждой барынькой-клушей, за каждым приказчиком, особенно если он в кураже да под мухой, наверняка имеется свой «стервячий дозор». И стоит такому олуху-простофиле отвлечься, пусть самую малость, будьте покойны, недосчитаться ему товара, а то и срезанной с пояса набитой деньгами кисы́.
Кречетов и сам с детства крепко усвоил: в рыночном сонме продающих и купующих, которых на базаре сбивается несметная тьма, где слух режет адский ор, будто бушует морской прибой – будь начеку!
И сейчас, ступая по здешним глухим местам, он цепко хватал взором притихшую пустошь, ни на секунду не забывая о грозящей опасности. Худо-бедно они миновали большую часть пути: слева остался Затон, а впереди во всей мрачной угрюмости показалась сама Соколовая гора. У ее подножия то тут, то там замигали хлипкие огоньки хибар, из покосившихся труб тянуло горьковатым дымком. Где-то на краю косогора стыло, по-волчьи завыла собака, ей хрипло ответила другая.
Алексей, придерживая локоть девушки, насилу подавил подкативший к горлу ком беспокойства.
– Ничего… доберемся… уже недолго… – скорее самому себе заявил он. – Вот обойдем стороной эту высотку, а там уж рукой подать. Здесь осторожнее – яма. Ставьте ножку левее на доску…
Однако «высотка», которую бодрился обойти Кречетов, была велика, и сейчас, в пепельной дымке сумеречья, как никогда виделась нелюдимой и даже враждебной. Песчаные, буро-красные глинистые отвалы Соколовой горы, скупо поросшие жухлым ползучим кустарником, были изрезаны оврагами и канавами, в темных глазницах которых уже залегла клубящаяся испарениями мгла.
– Опять яма, там, впереди, еще, давайте руку.
Сам Алексей бывал тут прежде лишь раз, год или два назад; вместе со стайкой своих товарищей они ходили вылавливать из здешних нор водой сусликов, местные же рыли тут, у подножья, солодские корни для продажи на рынке.
* * *
Еще в 1823 году были от Думы, на градский счет, наняты плугари на волах, которые в главных улицах пропахивали землю, отступая от домов аршина на два, с обеих сторон дороги. Домовладельцы же были обязаны вспаханную землю скидывать на центр улицы. Таким образом середина ее делалась возвышенною, а по обе стороны устраивались скаты. Потом возле домов и заборов, отступая на два аршина, вырывали канавы шириною и глубиною четверти на три, выкладывали их плахами, а сверху на устроенные перекладины клали доски, что называли тротуарами. Домохозяева обязаны были это исполнять на собственный счет около своих домов. Алексей помнил, как эту «обязаловку» выполняла и их семья. Отступая от сточной канавы, нанятые отцом работники вбивали небольшие столбики, через них пропускались в два ряда березовые решетины. Кто жил победнее, мазал столбики сажей, кто побогаче – краской в три полосы: оранжевой, черной и белой на масле. В те далекие дни Иван Платонович хаживал еще при злакомановских деньгах, а потому мужикам была выдана купленная по уставу трехколорная краска и кисти. По главным улицам Саратова за исполнением этого домохозяйства строго наблюдала полиция. Но такое устройство существовало лишь в центре города, а здесь, у Соколовой горы, этими признаками даже не пахло: изрытая дождями земля да комья спекшейся глины.
Но сейчас Кречетов не роптал на это обстоятельство, оттого как был учен: деревянные тротуары требуют ежегодного ухода. При наступлении ненастного межсезонья от дождей и таянья снега по таким насыпным улицам не было никакого проезду; колеса вязли в жирной грязище по ступицы, так что даже пара дюжих лошадей не способна была везти легкого экипажа с одним седоком. О пешеходах и говорить нечего; те оставляли в творожистом синем месиве сапоги и приходили домой босые. Да и тротуары, давно не знавшие свежего теса, пилы и топора, оказывались для путника весьма опасными, потому как не все хозяева были в состоянии устраивать их добротно и ляпали на скорую руку из откровенно дрянного леса. Случалось, что внутри канавы сгнивали перекладины, и люди проваливались в нее и вылезали оттуда в несусветной грязи, с зашибленной ногой или рукой. Этому несчастью Алешкин отец за жизнь подвергался раз пять, да и сам он, Кречетов-младший, единожды испытал такое. И весь кошмар кончался лишь тем, что хозяину дома приходилось выслушивать ругань и плач от упавшего, а более ничего. Увы, канавы в Саратове, в отличие от Берлина, никогда не прочищались от накопившейся в них грязи, дохлых кошек и крыс, кур и собак, по улицам плавала вонь нестерпимая, в особицу летом, во время волжской жары.
* * *
Здешние канавы были на счастье пусты, но от этого менее жуткими не казались. Торопливо огибая гору, Алексей несколько раз останавливался, вглядывался, желая убедиться в правильности выбранного пути.
– Мы заблудились?! – не удержалась и почти сорвалась на крик его спутница. – Езус Христос! Мамочка моя, но почему, почему я, дура, позволила себя завести в эту дыру? – Красивые, с нежным румянцем щечки Барбары были бледны, губы дрожали, глаза блестели от слез.
Кречетов перевел сочувствующий глаз на ее ноги. Белые туфельки стали кирпичного цвета от глиняной пыли, подол был в двух местах пачкан, розовая оборка надорвана. Сгорая от злости на самого себя, он поторопился отвести глаза, но Варенька точно ждала этого и не старалась себя урезонить:
– Нет уж, вы не молчите! Не отводите глаз! Смотрите, смотрите, на кого я похожа по вашей милости. Золушка, замарашка! Что вы сделали со мною? Куда завели? А еще набрались наглости целовать мою руку…
– Варенька… – Кречетов застонал от бессилия что-либо изменить, с досадой передернул плечами. Выходило все не то, чего он ожидал от их первого свидания; получалась нелепость и чехарда взаимных упреков. – Вам надобно успокоиться. Будет, будет… Поторопимся. Теперь уж скоро.
Она ответила что-то тихо, но так тихо, что он не расслышал, и только слезы, дрожавшие на ее длинных ресницах, сильнее жгли и без того страдавшее его сердце. Он подошел к ней ближе и, виновато склонив голову, бережно приобнял хрупкие девичьи плечи. Они стояли совсем рядом: Алешка видел ее расширенные тревогой зрачки и слышал тихое, прерывистое, бесконечное:
– Что будет?.. Что будет?.. Что будет?..
Внезапно рыдания прекратились: два-три коротких всхлипывания, и плечи перестали дрожать, сделались неподвижны, задумчивы. Но уже в следующую секунду Кречетов ощутил, как вся она напряглась, а губы шепнули:
– Алеша, сзади… Мне страшно… мы не одни.
Толком не разобрав слов, он тем не менее сразу понял смысл сказанного. Сердце екнуло и замерло в груди, когда он поторопился проследить направление ее взгляда.
Их было четверо, неожиданно объявившихся на корявом гребне песчаника. Они стояли молча, словно черные тени, и только рубиновые огоньки окурков от затяжки к затяжке зловеще высвечивали лица двоих.
Соколовские издавна совершали налеты на городских, на сад Шехтеля, служивший местом гулянья, задирали они и ребят из «потешки»; те, в свою очередь, сами отлавливали обидчиков и тоже с остервенелой жестокостью избивали «помойников». Сказать по правде, какой-то веской причины на то не существовало, так уж было заведено их отцами и дедами.
Все эти мысли одним огненным скоком ахнулись в голове Алексея и с роковой неотвратимостью подвели черту: «Эти гады не пощадят… Плевать им на кодекс чести, на свод законов общественных и светских приличий… плевать и на то, что я с девушкой… Сволочи – одно слово».
Следовало что-то срочно предпринимать: «Бежать? Кричать “караул”? Драться? Первые два предложения здравые, но позорные… Да и куда я денусь с юбкой на каблучках?.. К тому же какой ненормальный отважится в сей глуши прийти к нам на помощь?.. Остается последнее… “Что ж, брат, уж лучше бинт на башке, чем венок на могиле”, как говорит Гусарь». В памяти вспыхнула стратегия Воробья – учителя фехтования: «Когда ты слаб, притворись сильным, когда силен – наоборот».
– Алешенька… Что они задумали? Давай же скорее уйдем! – одними губами пролепетала Барбара, и Кречетов почувствовал, как мелко и беспомощно задрожали ее пальцы.
– Толяпа, а он симпотный, почти как его девка. И кожа белая, что у бабы, – пьяно гоготнул низкорослый, что был впереди, цвиркнул нитку слюны сквозь зубы и, заложив кулаки в карманы грязных портов, стал медленно, с бандюжим приплясом спускаться по осыпающейся гряде. Остальные, не шелохнувшись, продолжали хранить молчание и выжидательно следить за происходящим.
В считанные секунды у Алешки родился план. По первости он еще зыбко надеялся как-то расположить к себе этих отпетых котлованных «долгарей», сунуть в руку пятак и уладить все дело миром. Но куда там! Этим хотелось все чохом: и свиста, и крови, и забав.
– Бася, вы слышите меня? – тихо, но твердо, пытаясь сохранить достоинство кавалера, начал он. – Я искренне сожалею, что впутал вас в эту скверную историю. Тише, прошу, не перебивайте! Возьмите себя в руки и положитесь на меня. Я все устрою.
– Но…
– Тише! Нынче не время для словесного торга. Сейчас я возьму у вас в долг зонтик, а вы как можно быстрее бегите по этой тропе. Да, да, именно, по которой мы шли. Здесь рядом… За поворотом часовня… Не спорьте!
– А ты? – Она сама не заметила, как перешла на «ты».
– Я задержу их. Ведь в обязанность кавалера, – он выдавил из себя улыбку, – входит не только целовать барышне руку, но и уметь защитить ее. А теперь – ваш зонт, и бегите!
Сделав решительный шаг вперед, закрывая собою любимую, Кречетов крепче сжал костяную рукоятку зонта. С жестким и длинным латунным стержнем, он был ладен и крепок – то, что надо, – весьма опасная штука в руке человека, знакомого с фехтованием.
– Эй ты, суконка! Стоять! – хрипло гаркнул на ходу подходивший и хотел было броситься наперерез девушке, когда к своему удивлению напоролся ребрами на шпиль зонта. – Ты чо, козлина? Жить насрать?
На широких простолюдинских скулах белобрысого парня вспыхнули два красных свекольных пятна. Узкие глаза злобно впились в лицо Алексея.
– Давайте обойдемся без этих историй, – как можно ровнее, внятно предложил Кречетов.
– Заткни свой вафельник! И чеши отсель, пока не ощипали. Тебе, петух, можа кукарекнуть до смерти шажок, а ты свою цыпу учишь, как яйца нести…
Алексей попробовал удержать взгляд помойника, но тот игнорировал его, цепко щупая фигуру девушки, бегущую косогором. В следующий миг он отбросил зонт от своей груди и хлестко выбросил кулак вперед, пытаясь разбить лицо Кречетова. Каково же было его бешенство, когда кулак распорол лишь пустоту, а шпиль зонта вновь больно боднул в ребра.
– Ах ты, дошляк! Борзой разве?
– А ты проверь…
В руке нападавшего внезапно тускло блеснуло лезвие ножа.
«Держись, Лешка!» – бухнуло сердце в груди, и Кречетов почувствовал, как мерзко и холодно засосало под ложечкой. Красные от вина глаза медленно приближались, узкая полоса стали точно подмигивала, бликуя острой гранью заточки.
– Щас, падла, сядешь на перо… Я таких пудреных между ног пропускал…
– Не кичись прошлым, настоящего у тебя нет! – глухо огрызнулся Алексей, удобнее перехватывая зонт.
Со стороны оврага заслышался женский визг, Кречетов на миг обернулся и увидел, как, перемахивая через комья глины, гогоча и улюлюкая, за его Басей бросились остальные. Он хотел что-то крикнуть, но острая боль обожгла плечо, и распоротый рукав куртки стал быстро темнеть от крови.
Ширмач вновь наотмашь полоснул ножом, но тут же зашелся в крике. Из проколотой насквозь щеки хлестал алый фонтан, а острие зонта, как огромное жало осы, продолжала вонзаться в его шею, скулы и грудь. Ослепнув от боли, белобрысый выронил нож и тут же был сбит новым ударом на землю. Он что-то хрипел и царапал в неистовстве землю ногтями, но Алексей, не чувствуя ног, уже несся на помощь любимой.
Глава 5
– Ого-о, Толяпа, глянь, к нам в гости защитничек спорхнул! Ну, щень, дает… Похоже, зонтик забыл отдать своей крале… Ждал бы краше ее в доме, у мамаши под юбкой. Она нагуляется с нами и зайдет к тебе…
– Заткнись, Лапша! И ты зевло закрой, Кула́ча!
По-мужицки матерый, чернобровый Толяпа сузил до бритвенного разреза глаза и, крепче зажав рот девушке пальцами, уставился на запыхавшегося Алексея.
– Пистон где?
– Кто? – Кречетов окровавленным рукавом смахнул застящий глаза пот.
– Тупого не гни. Дружок мой где?
– Там… лежит… Отпусти ее… не то хуже будет.
Наступило молчание. Слышно было, как недалече, на церковном подворье, калено звякнула дужка колодезного ведра, крутнулся ворот и загремела цепь. Где-то вновь забрехала собака.
– За такой базар… кирдык тебе. Ты хоть знаешь, кому ссышь поперек? – приподнял бровь чернобровый.
– Схлопочешь от Толяпы удар – лучше гасись, прикинься падалью, баринок. Ой, не могу! Ой, сдохну! Толяпа, дай я его на пятаки пошинкую! Дозволь, продую мозги тятькиным кистенем?
– Заткнись! – опять обрубил истерично заблажившего Лапшу старший.
И снова сгустилась вязкая тишина. Три пары глаз темнели неподвижно и страшно. Мстительный огонек замерцал в их глубине. Но не эту опасную правду видел перед собой Алексей, а почерневшие от ужаса глаза на белом, как саван, лице Вареньки, атласный подол платья которой был варварски дран и сбит выше колен.
Отчаянье перед случившимся на время лишило Алексея речи. Он тупо взирал на это обнаженное, безгласое тело, на нелепо подвернутый каблучок туфли и не мог поверить, не мог заставить себя сказать: «Да, это правда». Все увиденное как будто происходило в кошмарном сне и с кем-то иным… Но постепенно, шаг за шагом, от одного мгновения к другому, ему предстала явь: до всех мелочей, во всей омерзительной сути, от которой хотелось рвать и метать, кричать, бежать и…
Пальцы Алексея до хруста суставов сдавили липкую от крови рукоять зонта, сердце застряло в горле.
– Ой-ой… Петушок-то кукарекать собрался, братцы. Ну, чо у тебя для меня? – хахакнул чернобровый и глумливо огладил широкой рукой дрожавшее девичье тело.
– Для тебя – есть я! Отпусти ее или…
– Или чо? – насмешливо присвистнул соколовский жиган, и его кривящееся в улыбке лицо вдруг стало похоже на костистый кулак.
– Или я убью тебя.
– Ой, б…, напугал! Ну, ты дал… Слыхал такую песню: «Божиться божусь, а в попы не гожусь»? Так вот, баринок, заруби: кто платит… тот и пляшет девочку. А здесь плачу я. Кулача! Лапша! Порвите его! И постелите мне под ноги, как половик, я на нем эту цацу… распрягать буду.
Кречетов, теряя рассудок, бросился к насильнику, но перед ним, словно из-под земли, возникла перекошенная злобой рожа Кулачи. Удар в грудь заставил Алексея захлебнуться собственным криком, зубы ляскнули, фуражка слетела и зависла на черном кусте.
– Кулача! В дыхло его садани, в дыхло! – стояли в ушах злорадные выкрики Лапши. Над ухом гибло прогудел бородавчатый чугунок кистеня, перед глазами мелькнула низкая сизая туча, в распертом брюхе которой зияла прореха, сродни ножевой ране, а из нее, как сукровица, еще сочился свет умирающего дня.
Чугунное яйцо вновь просвистело у самого лба, когда раздался приглушенный стон, и буром наскакивающий Кулача, ужавшись за пах, рухнул у ног Алексея. Левая штанина помойника сыро заблестела багрянцем.
– Сука-а, убью-ю!
Кречетов ящерицей ушел от удара, но в следующий момент запнулся о жухлые космы прошлогодней травы, потерял равновесие; зонт выпал из руки и тут же хрустнул спицами под каблуком наскочившего Лапши, превратившись в никчемную вещь. Следом мир полетел в тартарары: удары, что камни, сыпались на голову Алексея, вгрызались в спину и ребра, сбиваясь в слепящий кошмар. Последнее, что он узрел, а скорее расслышал, тщетно пытаясь подняться, это высокий крик Вареньки, нарастающий лай собак, ярую брань чернобрового и громкий хлопок ружейного выстрела.
* * *
Когда Алексей пришел в сознание и с трудом разлепил глаза, первое, что он увидел перед собой – была оскаленная собачья пасть. В нос шибануло псиной и прелой землей. Затем послышался властный окрик – морда исчезла. Рядом зашуршала под ходким шагом трава, и через секунду над ним снопом нависла фигура мужика, в руках которого была зажата двустволка.
– Жив ли, паря? Давай, чо ли, руку. Подмогну. Ух, чинно полирнули тебя, окаяхи. Ишь, рожа-то у тебя, барчук, прям-таки на загляденье – дочиста рождественский фонарь. Глаз-то хоть видит? Этим соколовым ток попадись… Каторга им место. А ну: фу-у! Смиряй! Смиряй! Свои это! Батый, Жулька, Дозор! Цыть, мать вашу!
Мужик лет сорока семи с вьющимися, как у цыгана, кудрями и такими же черными, спелыми, чуть навыкате, глазами еще раз зыкнул на псов и пригрозил им арапником. Те поднялись, покоя вздыбленную шерсть на загривках, и дружелюбно замахали пышными кренделями хвостов.
– Я ж и прежде доезжачим служил у барина своего в Улешах, тут недалече, там прежде сенокосные луга были – одно загляденье… Слыхивал можа, барчук? Так тамось я по молодости собак готовил медведей травить. Хозяин у меня, покойный, Царство ему Небесное, уж зело охочий был до энтих занятельств. Вот и эти песьи морды – даром, что церкву стерегуть со мной. Им бы добру выучку дати, и тоже смогут зверя брать – вопьются крючьями, хрен оторвешь. Хорошо, хыть тебя не подрали… поспел. Ну-к, дай отряхну… Ишь, беды сколь на тебя поналипло.
Церковный сторож участливо смахнул со спины и штанин Кречетова приставшие будылья травы и огляделся окрест.
Алексей тоже осмотрелся, задрал голову: на дымчатом, мшистом небе светло объявился надкушенный месяц. Его прозрачный, дынный, тающий край, казалось, вот-вот коснется высоких крестов храма.
– Где она? Эй, барышня со мной была?! Где? – В глазах юноши вспыхнул огонь, но сторож Игнат заторопился наполнить его душу миром.
– Уймись. На постоялом дворе твоя щеголиха. Я ее перву приметил, когдась пыльнул для испугу. Дюже палец прокусила тому злодыге, что мученил ее. Вона тамось бежала сломя голову, подхватив подол, так что голяжки сверкали… Будет горевать. Хорошо, что хорошо кончатся. Малость тумаков, малость падений, малость перепугов… С кем не быват, барин. Айдате… Шай! Шай! Пошли, лохматые! Ыть, Жулька, мать твою еть, опять оврагами шлындать пошла! Падаль подбирать, зараза! Я-ть тебе!..
Кречетов облегченно вздохнул. И хотя голова его жутко болела, была тяжелой, ровно налитая тусклым свинцом, так что насилу удавалось ворочать, на сердце отлегло. Проклятая Соколовая гора была позади – значит и страхи, а потому он с чистой совестью мог нынче сказать: «Езжайте домой и будьте спокойны, моя любовь. Ничего опаснее урядника на перекрестке вам не грозит. Прошу еще раз меня простить за все… и откланяться. Честь имею».
Кречетов улыбнулся в душе своим «заготовкам» и тут же подумал: «А ежели она уступит? Смягчит гнев на милость… Не испугается моего вида… не прогонит, а пуще позволит сопроводить ее до дому? Ай, шут со всем этим! Как там мой братец говорит: “Была не была! Хуже не будет!”»
* * *
Совсем стемнело. Погода испортилась. Небо затабунилось дождевыми тучами, с Волги подул сырой ветер. Они ехали в экипаже, при бусогривой запряжке с понятливым молчаливым возницей. Ямщик, нахлобучив картуз по самые уши и втянув голову в плечи, старался прятать голову от моросившего дождя. Покорная ему двойка лошадей привычно рысила вперед, изрядно измученная за день, чтобы должным образом подрезвлять на щелчки кнута, стрелявшие над их головами.
– Матка Боска, как я испугалась… Mam dreszcze[79]79
Меня лихорадит (польск.).
[Закрыть] до сих пор.
Барбара доверительно прижалась бледной щекой к его плечу и по-детски зажмурила глаза. Ветер налетал сильными порывами, сотрясая крытый возок на поворотах. Но чуть позже она храбро улыбнулась и горячо заявила:
– О, если б этот жуткий каторжный тип позволил себе больше, клянусь, я вместо поцелуя откусила бы ему нос. Вы верите мне, Алеша? Верите? – Она нетерпеливо затеребила его колено и заглянула в лицо, словно искала поддержки или защиты.
Его губы невольно улыбнулись:
– Верю, конечно верю.
Он с нежностью посмотрел в эти красивые, серо-голубые со льдинкой глаза и полюбовался игре искорок, которые сверкали вокруг ее ярких зрачков. Но теперь, после всего пережитого, их лица не брались румянцем, а взгляд не туманился робостью и смущением.
– Вы такой… такой молодец! Ей-богу, я даже и не думала, не мечтала. – Девушка посмотрела на свою руку, точно подбирала нужные слова. – Вы настоящий рыцарь. Вы так благородно защищали меня… Знаете, я терпеть не могу тех, кто только романтично вздыхает, пишет стихи в альбом… и царапается, как кошка, словом, как женщина…
– Я просто желал уцелеть. Выжить ради вас…
– Нет, нет, молчите! О, если вы так же танцуете, как деретесь, то вы, без сомнения, Аполлон на сцене. О бог мой, что они сделали с вашим лицом! Что скажут в театре? Jaka przykrość![80]80
Какая неприятность! (польск.)
[Закрыть]
Она доверчиво подняла руку к его виску и осторожно, кончиками пальцев дотронулась до лица, на котором горели широкие бордовые ссадины.
В этот момент колесо возка занесло в глубокую рытвину, экипаж изрядно тряхнуло, так что заходил ходуном сырой кожух, и их тела невольно прильнули друг к другу… Кречетов застонал.
– Что с вами? Рука? Вам больно?
– Так, пустяки… – решительно соврал Алексей, пересиливая острую боль ради случайной их близости.
– Бедный мой! Какая же я неловкая утка! Простите меня, Алеша…
Краска пробежала по шее, по щекам Вареньки, и Алексей, поняв истинную причину ее смущения, умышленно поспешил сменить тему:
– Как же ваш зонтик? Увы, его больше нет… Что ожидает вас дома? И все из-за меня…
– Не будем о грустном. – Барбара открыто посмотрела на него. – А зонтик – бог с ним, я куплю новый.
Не доезжая до угла Александровской и Московской, извозчик, как было велено, натянул вожжи и остановил возок у мрачливых хором купца Барыкина; далее следовать был не резон – в доме Снежинских стоял переполох. Свечей не гасили: во всех окнах пылал огонь, со двора доносились возбужденные голоса родителей и хозяйской прислуги, которые тонули в сиплом вое и лае задыхавшихся в своих сыромятных ошейниках сторожевых псов.
Спустившись с подножки экипажа, Бася скользнула беспокойным взором по темному небу в надежде отыскать хоть проблеск света сквозь тучи: куда там – все, от края и до края, было затянуто густым сумраком близкой ночи. Заметь она хоть на мгновенье тот беззаботный, ласковый след лазури, что еще днем так радовал Саратов, будущее показалось бы ей не столь минорным.
– Однако будет вам нонче, барынька, на орехи, – сочувственно покачал головой возница и, чмокнув понурым лошадям что-то свое, «ямщицкое», понятное только его брату-извозчику, добавил: – А ну его, от греха… Бывайте, на добром слове.
Колеса застонали под лошадиной тягой, и вскоре возок растворился в ночи.
– Вы боитесь? – Алексей взял ее руки в свои. – Все образуется.
Она лишь с беспокойной грустью в глазах кивнула в ответ, затем, еще помедлив секунду, тихо сказала:
– Благодарю… Я знаю, это все такие пустяки… Хотя мне и страшно… Папенька будет очень сердиться.
Они замолчали, глядя друг другу в глаза. И в этом сокровенном молчании было что-то значительно большее, чем слова. Белки ее глаз вновь чуть-чуть порозовели от выступившей сверкающей влаги. Он ничего не ответил, но как того требовал этикет, а более сердце, почтительно приложил ее руку к своим горячим губам. А когда оторвался от прохладных девичьих пальцев, то понял, что ее непременно надобно пожалеть, согреть своей теплотой и искренностью. В ее напряженном, ожидательном молчании он как будто услышал для себя: «Милый Алеша, вы можете, право можете дотронуться до меня…» И он как будто ответил: «Всем сердцем, любимая». А потом, словно во сне, склонившись ближе, услышал ее торопливое, тихое.
– Алеша, – прошептала она, глубоко вздохнула и, точно подавив в себе минутное колебанье, продолжила: – Через две недели… мои родители уезжают к дедушке в Варшаву… Быть может, на неделю, быть может, на две… Тише, не надо слов…
Ее тонкие изящные пальчики дрогнули, как крылья бабочки, и опять замерли в его ладонях.
– Я постараюсь остаться… Я что-нибудь обязательно придумаю: простужусь, отравлюсь прокисшей капустой или… впрочем, это не важно, я обязательно постараюсь! Так вот… – она крепче сдавила его ладони, – обещайте, непременно обещайте же мне, что посетите дом, который столько думал о вас все последние дни… Да, да, с той самой встречи на пристани.
Алексей ничего не успел ответить, Бася вырвала свои руки и, схватив муфточку, закрылась ею, пряча свое раскрасневшееся лицо.
– Варенька, я… – Кречетов поперхнулся неподатливыми словами, которые уже давно роились и гудели в его голове. Но она не дослушала: нежные руки внезапно обняли его плечи, а губы коснулись щеки воздушным и теплым, как зефир, поцелуем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































