Текст книги "Пиковая Дама – Червонный Валет"
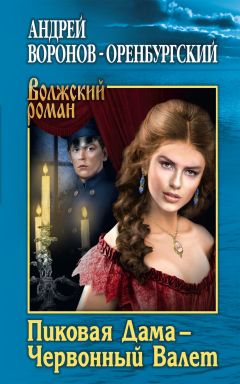
Автор книги: Андрей Воронов-Оренбургский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 47 (всего у книги 48 страниц)
Глава 4
С давних пор Иван Платонович вынашивал мечту доказать миру свое дворянское происхождение, скорей всего мнимое, но так и остался не у дел с руинами своего мифотворчества. Уж сколько порогов было обито, бумаги на прошения переведено и лучших чернил, однако палат каменных построить не удалось.
В молодости он, впрочем, был нагружен талантами, как армянин сливами, но доро́гой все растерял. Увы, Иван Платонович был из тех неудачливых людей, которые умудряются терпеть кораблекрушение даже на суше. Растеряв за жизнь все, он тем не менее не лишился ослиного упрямства и той глупой гордыни, которая напрочь убила в нем жалкие остатки душевной широты, превратив его в домашнего деспота. Даже после кончины жены Иван Платонович не задумался, продолжая в своих неудачах винить решительно всех, кроме себя. Он еще трагичнее и мучительнее стал переносить свои унижения, пропащую жизнь и, как следствие, отчаянно пил. Недельные запои с ним случались теперь раз в месяц, а то и чаще, и Алексей не мог предсказать, когда наступит следующий приступ. Однако, когда проходил кризис и заканчивалась обычная процедура «отмокания» в бане, смены белья, от которого в доме уже нечем было дышать, неуемный Иван Платонович, по собственному выражению, «брал быка за рога» и начинал кипучую деятельность. Деятельность заключалась в том, что хозяин с утра пораньше, слова не сказав, таинственным образом исчезал из дому и пропадал бог весть где день или два.
Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. Саратов – город большой, но не настолько, чтоб раствориться бесследно среди его пыльных, мало причесанных улиц. Ведь и о Москве на Руси народишко бает: дескать, большая деревня… на одном конце пёрни, на другом задохнутся… Даром что столица: тамось пуще куража да зазнания…
Словом, стало до братьев доходить от знакомцев разных, что видели их неприкаянного родителя у порога межевой конторы, причем не раз и не два… Чем это заведение могло завлечь горемычного папеньку, ни старший, ни младший, как ни ломали голову, понять не могли.
Меж тем сама межевая контора в Саратове была устроена еще в 1800-х годах. «Служащих там было человек до шестидесяти: землемеров, помощников их, чертежников, разных делопроизводителей и прочих приказных чертей… Они получали весьма приличное жалованье и пользовались безденежно обывательскими квартирами»[149]149
Попов К. Губернаторство А.Д. Панчулидзева. // Старый Саратов.
[Закрыть].
Что был это за народ и откуда он собрался на государеву службу – вопрос… Все они были, как и сам Иван Платонович, преклонных лет, за пятьдесят, исключая, пожалуй, чертежников и писцов; вечно под мухой, мятые и небрежные, одеты эти господа были всегда дурно, кроме молодых людей, державших себя на удивление пристойно. Контора размещалась в обширном, но ветхом деревянном доме, прежде принадлежавшем архиерею. Многие из служащих на лето выезжали для межевки в разные веси Саратовской губернии, а на зиму опять, как стая грачей, слетались до кучи. Наряжены они были в сюртуки и мундиры темно-синего сукна с голубою выпушкой, но хаживали «по удобству» преимущественно в частных, гражданских сюртуках. По окончании присутствия на службе все как один, исключая разве зеленую молодежь, косяком тянулись прямехонько в кабак, который прижился в шумном ряду рыбного базара и кликался в народе «большой бумажный». Там господа землемеры сиживали и пьянствовали до самой ночи. В этот кабак приказные других присутственных мест нос не казали; у них был свой неподалеку, по Армянской улице. Сюда сходились любители оглушить себя рюмочкой из губернского правления, уездного и земского суда. Этот питейник в противу первому имел название «малый бумажный». И если случалось сюда, в их спетую, теплую компанию по неразумению попасть представителю межевой конторы, то они его гнали взашей, не дав выпить, и наоборот: кто заходил из приказных присутственных мест в «большой бумажный», то межевые крысы (как их обзывали) выталкивали чужака вон, драли бакенбарды, а случалось, меж ними гремел и настоящий бой.
Но если проложенные до кабаков тропки разных ведомств не пересекались между собой, то штиблеты Ивана Платоновича вольготно гуляли по деревянным полам того и другого заведения. Однако за столами собравшихся конторщиков Кречетов рюмкой не баловался. Напротив, строго держал подо лбом тверезую мысль и более слушал бывалый люд, мотал на ус и делал выводы. А выводы его отливались в золотой самородок весом 2 пуда 7 фунтов и 91 золотник[150]150
Действительно, в 1842 г. на золотых приисках Миасса был найден огромный самородок.
[Закрыть], который был найден на далеком Урале неким Никифором Сюткиным. Замирало сердце Ивана Платоновича от всезнающих речей приказных и млела тайно душа, когда уши ловили не то сказки, не то быль о древних косматых горах Рифея: «Миасская золотая долина», «тайны Бушуевского булата», «кровожадные башкиры-кочевники», тысячные табуны, бараны, жаренные на кострах, и снова золотодобытчики, и снова несметные сокровища Али-Бабы. Дикое золото – жильное и россыпью, – казалось, им было расцвечено все, что связано со становым хребтом великой Российской империи.
«Ни один человек не счастлив, покуда не считает себя счастливым, – рассуждал сам с собою Иван Платонович. – Счастье, оно-с ведь как здоровье… когда-с его не замечаешь, выходит, оно есть… Но мне ли щеголять сим праздником души? Нет, Ваня, пуст твой невод, да и жить осталось чуть… А там, на Урале! Вдруг да как повезет? И тебе награда под старость, и детям – забудь про кульбиты судьбы. Это ли не счастье – золото! Кум королю, сват министру… Надо же, как судьба шерсть ерошит! Эх, сдохну, но доживу жизнь по-иному».
– Правда ли, сударь, что золотишко там? – Иван Платонович осторожно забрасывал наудачу удочку… и тут же в ответ лесý вопроса теребила уверенная, торопливая поклевка ответа:
– Да уж, извольте верить, голубчик, коли дремучестью своей мне в морду тыкаете. Разрази меня бог, не вру-с! Рудного золотого песку там, аки грязи на наших улицах, невпроворот. Уж верно-с, не зря знающие горные инженеры называют края те Уральской Калифорнией. Золото там повсюду, глаз слепнет.
– Ну-с, а вы-то, милейший, отчего в таком разе не там?
Конторщик перестал жевать котлету, пристально посмотрел на притихшего Кречетова и, дернув кадыком, серьезно сказал:
– Подозрительный вы субъект, батенька… Вы часом не польский шпиён? Впрочем, отвечу, чего там… – Блестючая вилка вновь энергично вонзилась в поджаристый бок телячьей котлеты. – Видите, плохо, ежели-с о тебе некому позаботиться, еще хуже, если не о ком заботиться тебе. У меня, слава Святым Угодникам, есть и первое, и второе. Да и потом, ваше здоровьице! – Тучный конторщик без затей чокнулся рюмкой водки о запонку собеседника и выпростал содержимое в рот. – Кто ж меня, позвольте-с спросить, с государевой службы отпустит? Здесь у нас не Европа с Америкой – ступай куда хошь… Здесь, замечу-с, порядок и надзор. А вы действительно не польский шпиён?
Словоохотливый конторщик с пущим пристрастием заглянул в глаза Кречетова, затем посмотрел на своих многочисленных коллег и, решив все-таки, что такой малахольный и задрипанный тип не может быть тайным агентом враждебной разведки, облегченно вздохнул и прикончил котлету.
Когда очередь дошла до грудой лежавших на блюде отварных волжских раков, конторщик, вытерев о салфетку пухлые пальцы, представился:
– Дорогокупля Клим Тарасович, главный землемер межевой конторы.
После этих «открытий» было съедено и выпито еще немало, а под занавес теплой беседы захмелевшим господином Дорогокуплей было подчеркнуто:
– Эх, любезнейший Платоныч, плевать, шпиён ты или нет, но признаюсь… по сердцу ты пришелся мне, а потому шепну на ушко. Ежели б дали-с нашему мужику истинную волюшку, как там у них, в бесстыжих Европах, так вот тебе моя голова, уж давно бы Америки заселил наш народ и черт-те что б еще сделал. А то ведь наших там – беда, как тьфу… Казаков, говорят, горсть, компанейских людей шиш, да инородцев крещеных, что пальцев на моей руке… Удержать бы границы! Но сказывают, дескать, русскому мужику государь хочет волю жаловать… Вот-с будет история! А с Уралом вы, батенька, не тяните… Ежели руки и ноги свободны от пут, так езжайте… Кабы не гири мои – семеро по лавкам, да не ответственное место, клянусь, рванул бы попытать удачу.
Таких разговоров «по душам» у Ивана Платоновича было немало. Окрыленный, с авантюрным огнем в душе и нездоровым блеском в глазах, он торопливо возвращался домой с кипой новых газет, где хоть слово было сказано о золотых приисках Урала. Заметок и статей по сему поводу на страницах пестрело изрядно. Многие из них кричали о загадочной Миасской золотой долине, о самородном золоте и золотоискателях. Писалось, как на заре развития горнозаводского дела, еще с седых демидовских времен, были открыты сначала руды, а затем и золотоносные пески, кои первоначально добывались беглыми каторжанами, а позже работниками по найму. В очерках делались ссылки на официальные документы, приводились конкретные цифры и факты, описания быта рабочих на рудниках и их находок, от которых старшему Кречетову становилось дурно и кругом шла голова. Обложившись, что скупой рыцарь, газетами и вооружившись ножницами, нацепив на нос пенсне в медной оправе, он со старательной методичностью вырезал все эти статьи и терпеливо вклеивал их в огромный гроссбух, который затем любовно укладывал в потертую временем писарскую суму.
Но когда приступ золотой лихорадки спадал и саратовский «старатель» мог реально посмотреть на жизнь – сердце его сжимали чугунные пальцы беспросветной тоски.
Будучи пьян, он не замечал убожества и грязной пустоты своего дома, уж много лет требовавшего капитального ремонта. Не замечал он и своей нечистоплотности, имея в памяти на сей случай железный резон: «Что мне, перед бабами ножкой шаркать?» Легче, конечно, было снова набраться до бровей и послать все к чертовой матери, а если и что-то делать, то спустя рукава; так, во всяком случае, казалось не столь горько за бессмысленно прожитую жизнь в мелкотравчатой погоне за завтрашним днем. «Что сделал я в этой жизни? – уныло глядя в засиженное мухами мутное окно, спрашивал он себя. – Так, дым… пустое… Растерял в ознобе житейской суеты по частям свою душу, и только. А ежели обернуться и посмотреть на пройденный путь? Тоже одни собачьи слезы и тлен. Ну-с, разве дети, помилуй бог… так говорим мы давным-давно на разных языках…» Иван Платонович предавался таким суждениям, и перед ним с мучительной болью вставало на дыбы сознание полной никчемности своей судьбы, и вот тут-то, хватаясь за бутылку, как за спасительную соломинку, он от рюмки к рюмке клялся себе, что непременно переломит ход опостылевшей жизни и вот-вот сорвется с насиженного места. При этом, если взять во внимание, что он терпеть не мог терпеть, то можно представить, какие костры пылали в его груди и какие угли обжигали стопы. «Вот справим сорок дней моей незабвенной… и прощай, затхлый Саратов», – накручивал он себя.
И теперь, извлекая из тяжелой сумы свою нетленную папку с вырезками, неотрывно глядя в глаза младшего, он со значимостью изрек:
– Видел ли ты, Лексий, когда-нибудь мух в банке с вареньем? То-то… Я-с всю жизнь наблюдаю людей в сем положении. Лезут они друг на дружку, пихают локтями в рожу почем зря, идут по головам ближних, только б спастись, орут от ужаса, но один черт гибнут, что те мухи.
Отец вытер мокрый от водки рот тыльной стороной ладони и с нетерпением продолжил:
– Так вот, сынок мой родной, хватит и нам… в дерьме вязнуть. Хватит! Помнишь, я как-то сказывал: удивлю еще всех! Вот, пришло времечко, глазей, изучай, радуйся! И уясни – родитель твой не такой уж пропащий тип. Он знает, что почем в этой сучьей жизни. Любит и помнит вас – отпрысков!
Окрыленный сказанным, а более своим «детищем», которое с изумлением листал Алексей, он снова принялся за водку, горько смакуя каждый крупный глоток.
– Это тебе, сынок, не дураков на сцене приплясывать, не кульбитами на воздухах маяться… Это, братец ты мой, Уральская Калифорния – важее дело! Серьезнее не бывает… А то что же это-с такое? Крутишься ты там, крутишься у себя на сцене, сердешный, аки шут на юле, а потом кувыркнешься тройку раз, понимаешь… и мое почтение… Тьфу, срамота – курам на смех! Я же предлагаю тебе стоющее дело. Видеть легко, трудно предвидеть. Но поверь, у меня на сей раз глаз-алмаз, знаю – ждет нас удача. Я-с хоть и дожил до седых волос, а никого не боюсь. И ежели б меня не обошли-с подлецы с дворянством, клянусь, мог бы занять место рядом с царским двором Его Величества! Там, позади тебя, сыр лежит на буфетной полке. Дай закусить… можешь взять и себе четверть к чаю. В нем, правда, черви завелись, ик, но они, шельмы, безвредны. Ножичком можно смахнуть.
Алексей молча подал заплесневелый сыр, глядя, как отец, не найдя под рукой ножа, принялся его скоблить ногтями. Снова журчала в стакане водка, снова о чем-то убежденно распространялся папаша, но Алешка, забившись в угол, прижавшись щекой к стене, пришел в такое волнение от услышанного, что, право, не мог контролировать себя. Кусая губы, он сжимал и разжимал пальцы под столом, в изнеможении откинувшись на спинку стула.
Нет, не тирада косноязычности о театре ошеломила его; эти негативные перлы словесности в адрес своей профессии он слышал и раньше. Его терзал страх перед взбалмошным, вздорным решением отца отправиться на старости лет в неведомые края. Но еще более Алексея пугало категорическое желание отца взять его с собой. «Святый Боже, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради… Это крах всему… Это последний гвоздь в крышку моего гроба, начиная со смерти маменьки и кончая разрывом с Басей… – Он с содроганием посмотрел в стеклянные глаза папеньки, казалось, в них отражались золотистые пески мифических рифейских гор. – Господи, ему ли взапуски пускаться с судьбой? В такие годы уже не до перемен… Листья кленов его молодости давно истлели… мир ровесников-друзей отнюдь не молод, а он одно: “Все кончено, все начато”. А как же я? Как театр? Карьера… моя мечта?! Мой успех! Куда прикажете деть тысячи дней каторжных трудов? А мои роли?! Нет… нет!! Почему именно я?.. Не хочу, не желаю!»
Алексей дернулся на стуле, трудно было дышать от невидимых рук судьбы, сжимавших его, как железные обручи, нужно было что-то делать, что-то решать, но он не знал, что делать, что предпринять… Ему вдруг с отчаянной силой захотелось удариться головой о стену, разорвать на себе рубаху, броситься прочь, а то и вцепиться в горло ненавистного отца, который убил своим пьянством мать, разорил дом, а теперь без тени смущения крушил и его жизнь. Но, видимо, столь велико было охватившее его безумие, столь глубока была душевная рана, что он неподвижно сидел напротив отца и тупо смотрел, как выбитые из сыра белые черви изгибались, корчились и лопались на столе под жестким ногтем папаши.
Прошло не меньше пяти минут, прежде чем откуда-то из подсознания возник образ месье Дария, затем Козакова, его сменил Злакоманов с лицом, искаженным в жуткой гримасе; не сразу оно слилось с другим обликом – и это был его папенька Иван Платонович Кречетов.
– Дмитрий знает о сем решении? – напряженно сказал Алексей; каждый громкий звук в его словах был как звонкая металлическая слеза.
– Дмитрий? – переспросил отец, растягивая по слогам имя старшего сына, и, проглатывая остатки сыра, махнул рукой. – Съедобный гриб прячется, ядовитый всегда на виду. Нет, милый, не знает он, да и зачем? Митька – отрезанный ломоть. Я только тебе поверил задуманное. Нам с тобой в одной упряжке и быть. С ним душу держать нараспашку – себя не уважать… Знаешь ведь, характер его хуже терновника.
Папаша вяло улыбнулся, сморгнул пьяную слезу и нетвердым движением рук, нашаривающих в темноте свою «драгоценную» папку, дотронулся до колена сына.
– Ничего, ничего, сынок, все образуется. Дай срок… Вот увидишь, заботы о деньгах скоро уйдут из твоих мыслей.
– Нет уж, увольте, папенька! – криком взорвался Алексей и раздраженно оттолкнул гладившую его колено руку. – Я не дитя, со мной не должно носиться из-за пары царапин! У меня есть своя жизнь и свои маяки, коим я не хочу изменять! Неужто вам трудно понять?!
Он вскочил на ноги, бросил на диван толстенную папку и собрался было все выдать отцу, но тот, откинувшись на сбитое покрывало, уже храпел, как измученное животное, широко открыв рот и высунув язык. Руки все еще лежали на столе, кисти сжаты, будто в молитве.
Сын сцепил зубы, пытаясь укротить огонь отчаянья, бушевавший в груди. Лицо родителя стало расплываться перед ним, двоиться, троиться в колючих гранях нахлынувших слез, потом сузилось и исчезло. О Небо! Кто б знал, как ненавистен в сей час был для него отец, эта комната, весь этот дом, который помнил его рождение, первый плач и первый шаг у материнской руки… Если бы смерть пришла немедленно и тотчас, это было бы облегчением – жизнь не сулила ничего доброго. Алексей не чувствовал сил и желания жить, а храпевшее перед ним на диване тело было чужим. Пережитая боль от услышанной правды лишила его сил, унесла радость, надежду и молодость. Жгучая жалость к себе захлестнула Алешку, горькая соль слез окольцевала горло.
Он не помнил, как добрался до своей спальни, как рухнул на кровать, дав волю переполнявшим его чувствам. Выплакавшись в подушку, Алексей тем не менее ощутил возвращение вконец было потерянных сил, а вместе с ними возвращалось и иссякшее, казалось, окончательно мужество.
«Умел найти, умей потерять, – слушая внутренний голос, рассуждал он. – Натерпишься горя – научишься жить». Но есть ведь и другой сказ: «Кто отстал? Скорый. Кто дошел? Спорый». Нет, дудки! Уж коли прислушиваться, то к голосу сердца и зрелому опыту веков. Ведь как ни меняются времена, а пословицы – это наставления наших прадедов, ежели вдуматься в них, примерить к себе, – с добром и умом поправляют нас. «Завтра же пойду в дирекцию… Все обскажу Мих-Миху, авось обойдется. Кречетов Алексей, чай, не в последних рядах числится». И когда он уже засыпал, мелькнула, как пролетающий небом ангел, мысль: «А может, я счастлив, потому что несчастлив?»
За окном пугливо нарождалось новое утро. Студено, сыро, мозгло – но прекрасно. Алешка спал, но сон его был светел, как юность, хрустален и зелен, что ясная вода родника.
Глава 5
В театре Кречетов чувствовал себя в своей тарелке только со «своими». Он был «незвонок» с начальством, но прост с товарищами. И чем меньшее положение те занимали, тем легче ему с ними было, а от актеров-«аристократов» он по возможности держался в стороне. Драматические зубры имели отдельные уборные, Кречетов и после того, как стяжал славу, не думал об этих «пенатах»; по-прежнему гримировался в одной из душных комнат с друзьями – Гусарем, Борцовым, Тепловым, Новиковым и другими.
Тем, что называют театральным характером, он обладал лишь на сцене, но не в кабинетах начальства, где иные «таланты» умели постоять за себя, умели требовать, будь то прибавка к жалованью или новая роль.
Но сегодня, стоя у дверей дирекции, испытывая знакомый озноб смущения, он тем не менее был исполнен решимости бороться за свою судьбу и не быть тем суфлером в будке, который волнуется, исполняя роль морского прибоя.
– Вот вам гром не из тучи, господин Кречетов. Да-с… да-с…
Михаил Михайлович, печалясь глазами сквозь стекла пенсне и всем своим с крупными чертами лицом после изложенной истории, положил на плечо воспитанника руку.
– Ваше превосходительство, я хотел оповестить вас о возможном…
– Знаю, знаю… – Директор недовольно пошевелил усами, вежливо обрывая дальнейшие взволнованные излияния Алексея коротким пожатием. – Потому как вы изволите чересчур стремительно бомбардировать меня информацией… весьма понимаю степень вашего беспокойства. Не скрою, мы озабочены не менее вашего. Вот уж действительно случай… Редкий, однако, человеческий экземпляр ваш батюшка… Хлебом не корми, дай покуражиться над близкими да пырнуть побольнее.
– Простите, ваше превосходительство, но откуда?.. – Кречетов не мог скрыть изумления.
– И не только это. Сидите, голубчик. Разговор будет долгий, в ногах правды нет… Здесь надобно все хорошенько обдумать. Мы сами хотели вызвать вас для беседы, но ждали открытия сезона.
– Вы что-то уже решили? – Алексей со скрытой тревогой испытующе покосился на облаченного во фрак главенствующего директора.
Тот, присев в кресло напротив, уклончиво ответил:
– Трудно однозначно сказать… Я вынес из всей этой истории покуда самое поверхностное впечатление. Но давайте все по порядку. Увы, здесь много щекотливых и тонких моментов. Он – ваш родитель, вы – его кровный сын, но… младший. А младший, как известно, обязан быть при родителях…
– Обязан по закону? – У Алешки оборвалось сердце.
– В том и дело, голубчик, что по закону. Куда родитель, туда и ты. И что ему взбрендило в голову бросать Саратов? У нас как будто не хуже будет, чем у других. Увы, еще раз увы… Житейские драмы идут без репетиций. Вот и с вами беда. – Михаил Михайлович внимательно посмотрел на своего выпускника. – Когда на свете появляется истинный талант, узнать его можно по тому, что все тупоголовые объединяются в борьбе против него. Простите за категоричность, я уважаю чужое самолюбие, но… человек я открытый, прямой, и эмоции мне удается сдерживать с трудом. Безмерно жаль, что от нас всех ушел Василий Саввич, уж он-то имел влияние на вашего папашу. И ведь надо же быть таким неблагодарным: сын был все эти годы устроен на казенный кошт; ел, спал, обучался, проявил исключительные задатки, и на тебе… номер! Нет, я буду жаловаться городничему, а ежели вдруг… добьюсь встречи и с самим губернатором. Не волнуйтесь, голубчик, мы своих не сдаем… Блестящий выпускник, надежда театра, да что там!.. Будем в таком разе сами дуть в свои паруса.
* * *
А далее упряжка событий словно покатилась под гору: театр бился за Алексея, а папенька бился с театром. Заточив гусиные перья и обложившись бумагой, Иван Платонович рьяно взялся за любимое дело. И полетели его «гуси-лебеди» по всем возможным инстанциям. Теперь он донимал не только сына, не знала покоя и театральная дирекция. Старший Кречетов являлся туда сам с завидным постоянством завсегдатая и слал письменные жалобы на сына. Именно благодаря Ивану Платоновичу все «грязное белье» дома Кречетовых было известно положительно всем. Налаявшись днем в театре, вечером отец изощрялся в родных стенах. «Он без стука являлся к Алексею в любое время суток и непременно требовал денег – то пять, то десять рублей. Если денег не оказывалось, гремел скандал, оскорбления и угрозы. Редкой порой на родителя находили сомнительные в своей доброте минуты раскаянья: он становился ласков и даже внимателен… Братья вздыхали с облегчением: в доме мир. Но после краткой передышки все возвращалось на круги своя, с еще пущей энергией и накалом. Пожаловав, снегом в июле, к обеду, он вдруг находил, что водка дурна… Посылали за другой – опять не праздник души! И пошло, и поехало – страданье!»[151]151
Золотницкая Т. Мартынов.
[Закрыть] И, право, чем больше Алешка старался угодить, чем большую покорность выражал, тем крепче распалялся старик. То грозил, что стоит ему захотеть, и он пошлет сына на съезжую, где «безо всяких яких» его излупцуют плетьми – даром что известный артист; то начинал сквернословить, называл сыновей каторжниками и негодяями, каких свет не видывал, даже бросался с кулаками; то клятвенно обещал выселить Алешку из Саратова с волчьим билетом, если тот не исполнит его волю и не отправится с ним на Урал. После жалобы Алексея в дирекцию на отца и вовсе не стало удержу. Теперь он кружился коршуном над сыном не просто ради куража, а с «идеей». Идея состояла в том, чтобы утвердить абсолютную родительскую власть и доказать ставшему знаменитостью отпрыску, что он перед отцом – ничто.
Директор Соколов вел себя достойно, выше всяких похвал, он трижды по часу и более увещевал Ивана Платоновича, призывал к благоразумию, рисовал радужные картины блестящей карьеры его Алексея, намекал на солидное жалованье и многое другое, что могло бы расцветить жизнь злобного старика, но все попусту.
– Як же це будэ? – сокрушался Сашка и осенял крестом несчастного друга, пытаясь отогнать от него тоску и худые мысли. Душа верного Гусаря пылала, подобно жертвеннику, ему хотелось заключить в братские объятья Алешку, влить в него свои силы, уверенность, бодрость или сказать от сердца: «Кречет, брат мой, давай вместе драться и рыдать, вместе искать выход. Ибо неоткуда ждать человеку помощи». Сознавая разницу дарования и таланта, видя свое и Алексея место на сцене, он готов был пожертвовать собою ради блистательного друга… Однако сказать это не осмеливался, зная его горячий и гордый нрав, а потому тихо гасил в себе этот порыв, отходил в сторону, но лишь на два шага, так, чтобы быть рядом, и чутко ловил штрихи настроения Алексея.
– Может, Кречет, тоби бежать в другой театр? Если гора не идет к Магомету, то пошла она в пим дырявый! Возьмешь рекомендательное письмо у Мих-Миха и…
– Что за ребячество? – Алешка уткнулся горячим лбом в ладони.
– Отец все так же пьет? – вновь нарушил молчание Сашка.
– А что ему, окаянному, сделается? Он водку жрет, как корова свеклу. Вот, смотри, что опять удумал. – Кречетов протянул Сашке мятый листок и, посмотрев на него тусклыми, без блеска глазами, с минутным приливом отчаянья резко поднялся со стула: – Грозился эту кляузу передать в театральную дирекцию, а то и выше! Начальство, понятное дело, обязано будет сему внять и дать должный ответ.
Гусарь сочувственно хмыкнул, расправил на колене листок, уткнулся в чтение:
«Любезный сын.
Мне с тобою делать нечего, как только силою закона заставить тебя, мерзавца, следовать воле отца. Как младший в семье, ты обязан быть при живом родителе, где бы тот ни имел желания пребывать! Я уже крепко приблизился к гробу, Небо становится ближе с каждым днем, и могила мне уже уготована Господом…
Больно и очень горько терпеть разруху, голод и нищету, а пуще подлое предательство детей на старости лет! О сем ли мечтал я с покойницей матерью вашей, в любви и согласии зачиная вас, вероломных поганцев? По твоей милости я вынужден сам каждый день искать в поте лица, где мне угоститься… пью гадкий портер и прочий волчий стрихнин, вместо того чтобы быть обласканным тобою. Задумайся и покайся, покуда не поздно! Господь шельму метит… Разве отец твой на старости лет не заслужил другого почтения?!
Имя твое в моих глазах опозорено… Но не смей радоваться скорой победе! Знай, покуда я жив, судьбе не поддамся, затем ожидай родительской воли и приготовься…
Жалобу сию и свой родительский протест супротив твоего скверного поведения я отправлю по назначению, куда след… и заруби на носу, что Контора Императорского Театра и его превосходительство Директор в лице господина Соколова в сем деле тебе не опора.
Засим до сроку прощай.
Единокровный отец твойИван Платонович Кречетов».
Сашка, раздув щеки и наморщив лоб, еще раз перечитал дышавшее угрозами послание. Трудно было сказать, что таки имел в виду Иван Платонович, ставя многозначительную шеренгу точек после слова «приготовься». «Быть может, из желания больнее уколоть сыновей он и в самом деле присмотрел себе место на кладбище. Пусть, мол, им будет вечный укор, пусть помнят свою вину перед родителем!»[152]152
Золотницкая Т. Мартынов.
[Закрыть]
Впрочем, ядовитые жалобы старика, порочащего перед всеми и каждым своих сыновей, особенно младшего, за даровой стакан вина – бесстыдны, а скорбь за покойницу мать – фальшива. Да и все посланье по сути – слезливая ложь пьяницы, за неказистыми строками которой виден весь человек: злобный неудачник, шантажист, поднаторевший в судебных жалобах и тяжбах.
– И как тебе это нравится? – Алексей, заложив руки в карманы, снова нервно заходил по дортуару.
– Що тут скажешь?.. Вин у тоби як Робинзон, у коего семь Пятниц на неделе. Похоже, его болезненных думок с лихвой хватило бы на гарну брэхню в десять больничных листов. А ежли по совести, жуть берет за тебя, Кречет. Що ему наш Мих-Мих? Как гусь свинье – на один раз пожрать. Вишь, копает-то как! – Сашка потряс бумагой. – Вин у тоби, похоже, из тех самых, предусмотрительных, что селятся рядом с погостом. Все намерил, все накроил.
– Эт точ-но… – обреченно выдохнул Алексей. – Не дай бог кому пережить его дикую волю. Я хоть за тебя рад, не довелось тебе познать сего унижения от своих кровничков.
– У мэни батьки нэма, – перекрестился Александр. – Помер, когда я был малэнький, чуть выше его сапога. Да що там… я ли тоби не розумию? В петле ты, хлопец, в петле.
– Он ведь и деньги сумел мои посчитать, – горько кивнул головой Алешка. – И не лень было расписать для дирекции все доходы мои и расходы.
Гусарь подивился услышанному.
– Папаша, разумеется, лучше меня знает, сколько нужно молодому человеку, пусть и актеру, на пропитание, на квартиру.
– А сам-то в дом приносит ли что?
– Но больше тратит. Представь: он убежден, что жалованье, кое я еще только буду иметь, не есть Олимп моих возможностей.
– Що ж еще?
– Еще существует поспектакльная оплата, то бишь разовые, а кроме того, деньги за бенефисы в губернских городах и уездной провинции. Эти доходы нашего брата, как ты знаешь, дирекции не касаются. Но это еще не все, он где-то по случаю прослышал о государевых наградах, ну, и конечно, о подарках публики.
– Ай да пацюк! Ай да зуб щучий! Ну и? Добалакивай.
– Вывод его прост: мне, стало быть, не отяготительно уделять ему по пятьдесят рублей серебром в месяц, что было бы справедливо – а более послужило бы к чести моей и славе. Ну и, понятное дело, избавило бы моего несравненного папеньку от утеснения за долги и навлечения сердечных недовольств. Да черт бы с этим полтинником! Хорошо никогда не жил – нечего и привыкать, так ведь дался ему этот Урал – золото там, дескать, лопатой гребут и только ленивый богатым не станет.
– И ты, значит, должен при нем быть? Золото в ведра ссыпать?
– Ну… вроде того.
Алексей скрепя сердце сложил вчетверо ненавистный листок, спрятал на груди.
– Пойду я… домой пора.
Он начал вздевывать на себя сюртук, медленно и неловко, как тяжелобольной, давно не встававший с постели.
Гусарь вышел проводить его до ворот «потешки». Обнялись на прощанье, расцеловались. Сашка со скрытой тревогой поглядывал на товарища, пытаясь казаться веселым.
– Ты меня, понятно, за дурачину держишь, Лексий, но я тоби як дурак и скажу: люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. А если серьезно, – Александр как-то виновато блеснул белозубой улыбкой, в его голубых глазах стояли слезы, – помни, чему нас учили в сей богадельне: «Гениальность не болезнь, коя не излечивается даже бессмертием». А ты у нас гений. Тихо ты, не шугайся слов моих, як чертило ладана. Все так и есть! И еще зацени, що ты сын Большой Волги. Знаешь, если даже судьбе будет угодно… съехать тоби на Урал, увси будут ждати твоего возврату.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































