Текст книги "Песчаная роза"
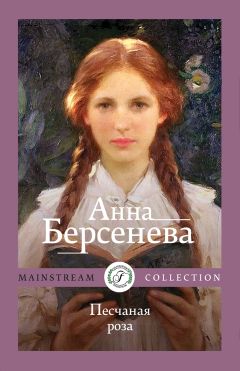
Автор книги: Анна Берсенева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Я никогда тебя таким не видела…
– Возможно, потому что я таким не был, что бы это ни значило, – заметил он. Глаза его смеялись, и это было гораздо более необыкновенно, чем синий галстук. – Благодарю, что согласились провести этот вечер со мной, мадам!
Глава 8
Люди вереницей шли по рю Рише к ярко освещенному кабаре «Фоли Бержер». Если бы Сергей Васильевич не подал Ксении руку, выйдя из такси, она споткнулась бы, потому что задрала голову, разглядывая панно над входом. На панно переливался огнями какой-то сложный рисунок.
«Как на платье у меня!» – подумала она и обрадовалась совпадению такому же необыкновенному, как всё в этот вечер.
Ксения не была в театре так давно, что, ей казалось, забыла его волнующую атмосферу. Но не забыла, совсем не забыла, а наоборот, почувствовала себя в ней, как рыба в реке! Правда, «Фоли Бержер» не походило ни на один театр, который она видела, хотя и огромная круглая люстра здесь была, как в театре положено, и лепнина на стенах и потолке, и волнующий гул множества голосов. Но кресла стояли в зале не рядами, а вокруг столиков, и зрители поэтому сидели перед сценой как в ресторане.
В этом необычном зале был даже бар. Сергей Васильевич спросил, хочет ли Ксения аперитив, и она ответила, что, конечно, хочет, все равно какой, пусть возьмет на свое усмотрение, он хмыкнул «опять?», но взял себе и ей мартини, и голова у нее закружилась не столько от аперитива, горьковатого и крепкого, сколько от радостного волнения, которым блестели его глаза.
За спиной у бармена было огромное, во всю стену, зеркало, и, пока пили мартини, Ксения изумленно в него смотрела. Неужели эта женщина с волнующе открытыми, угловатыми, как у подростка, но по-взрослому сияющими в свете ламп плечами – она? В тех местах, где платье касалось ее груди, металлические переливы ткани приобретали какой-то новый рисунок, и Ксения растерянно подумала, что Рене, может, не так уж был неправ, когда назвал ее грудь эротичной. Вдобавок помада в самом деле оказалась вызывающе яркой, да еще и платье вызывающе коротким – острые коленки просвечивали сквозь стеклярусную бахрому. Из-за всего этого Ксения выглядела даже не эротично, а, ей показалось, развратно.
«Ну и пусть!» – снова подумала она.
Представление еще не началось, звучала лишь музыка. Сергей Васильевич провел Ксению к их столу и сказал:
– Только не говори, пожалуйста, что еда тоже на мое усмотрение.
Именно это она собиралась сказать, но пришлось сделать вид, будто выбирает что-то по карте. Хотя что она могла выбрать – буквы плясали у нее перед глазами, и вовсе не от мартини. Наткнулась в меню на слово «тюрбо» и решила, что рыбу постарается съесть.
Всё завораживало ее, не хотелось изменить ни один волшебный атом этого вечера. Она не отрываясь смотрела, как Сергей Васильевич пробует вино, глоток которого официант плеснул в его бокал, как сумрачно блестят темные ониксы в его запонках, когда он поднимает бокал уже полный…
– Ты смотришь так, будто я делаю что-то неприличное, – заметил он.
– Нет, совсем нет! – встрепенулась Ксения. – Ты все делаешь так, что… Это меня гипнотизирует, – призналась она. И добавила, чтобы скрыть смущение: – И запонок этих я у тебя никогда не видела, и всего остального тоже. И не думала, что мы сюда пойдем.
– Запонки и все остальное я купил по дороге домой. – Он слушал ее так внимательно, будто она говорила что-то кроме глупостей. – И до сегодняшнего дня тоже не думал, что мы куда-нибудь пойдем. Вернее, просто ни о чем постороннем не думал. Извини за это.
– А что произошло сегодня? – спросила Ксения. И вдруг догадалась, и ахнула: – Ты поедешь в Англию! Как хотел, да?
– Да. И я действительно ничего не хотел так, как этого. Почти ничего.
Она собиралась спросить, что означает «почти», подумала еще, что, может быть, неловко спрашивать… И в эту самую секунду взорвался у нее в голове утробный смешок, и сквозь отвратительный этот смешок прозвучали слова: «Он должен отбросить свои планы и действовать согласно задачам, которые перед ним поставлены».
– За малодушие приходится расплачиваться, – сказал Сергей Васильевич.
Ксения вздрогнула.
– Чье малодушие?
– Мое, чье же еще. Я проявил однажды малодушие и потерял Англию. И готов был лучше вернуться туда трупом, чем… Ну, это уже неважно. Я жив и увижу белые скалы Дувра.
– Ты… много времени там провел? – с трудом шевеля губами, спросила она.
– Достаточно, чтобы осознать масштаб потери. – Он вгляделся в ее лицо и спросил: – Что с тобой?
Как Ксения ни старалась, Сергей Васильевич, конечно, заметил произошедшую с ней перемену.
– Н-ничего… – пробормотала она. – Просто никогда мартини не пила. Голова разболелась.
– В жизни больше не стану за тебя ничего решать! – рассердился он. – Стакана воды не подам, которого сама не выберешь. Выйдем на улицу?
– Нет-нет, и так пройдет, – отказалась Ксения.
И тут музыка на секунду затихла, и сразу же зазвучала снова, так празднично и громко, что заглушила даже общий гул зала, не говоря уж о ее лепете. Вереница блестящих красавиц вылетела на сцену, словно выпущенная из лука стрела. Блестели, казалось, не только их костюмы, но и едва прикрытые этими костюмами тела, колыхались над головами гигантские разноцветные перья. Тут же явились и красавцы во фраках – выстроились по обе стороны лестницы, расположенной в середине сцены. А в центре этой лестницы, на самой верхней ее ступеньке, показалась женщина неземной красоты. То есть наоборот, очень земной. Бравурная музыка сделалась острой, как стук ее каблучков, когда, спускаясь по лестнице вниз, она запела – конечно, про Париж, а про что же еще могла петь здесь, в «Фоли Бержер», такая необыкновенная женщина! Мурашки бежали по коже от ее волнующего голоса. Вот уж он точно был эротичным, а не какие-то подростковые плечи.
Стол, за которым Ксения сидела рядом с Сергеем Васильевичем, находился совсем близко от сцены, поэтому она видела и блеск глаз певицы, и идеальную красоту ее длинных ног, которыми она выделывала презадорнейшие вензеля, ни на мгновенье не сбиваясь при этом с дыхания.
– Знаешь, кто это? – негромко спросил Сергей Васильевич. – Мистенгетт! – И не зная, говорит ли Ксении что-нибудь это имя, добавил: – Она великая актриса. Мы всю жизнь будем вспоминать, что видели ее.
Ксения понимала, что он любуется великой Мистенгетт и точно ее не забудет. О себе она не могла сказать того же – смятение застило ей глаза.
Песенка про Париж закончилась, и всё переменилось на сцене. Не только красавицы и красавцы вдоль лестницы, но именно всё – беспечность превратилась в то, что называется печалью, но легкой, как дуновение уст. Мистенгетт пела теперь о мужчине, которого она любила и потеряла, однако ее песня не угнетала, а каким-то загадочным образом подбадривала.
Когда стихло последнее слово, зал взорвался аплодисментами и восторженными криками.
– Похоже, ты в обморок собираешься упасть, – заметил Сергей Васильевич. – Не прошла головная боль?
– Прошла. Просто… песня у этой Мистенгетт очень печальная, – поспешила отговориться Ксения.
– Не стоит так переживать, – усмехнулся он. – Ну да, она рассталась с Морисом Шевалье. Но из этого вышла песня. Все не так уж плохо.
Теперь Ксения наконец вспомнила, откуда знает имя этой актрисы: Сергей Васильевич говорил однажды, проглядывая газету, что Мистенгетт и Морис Шевалье расстались, а между тем она недавно вытащила его, раненого, из немецкого плена, хотя какое «недавно», десять лет уже прошло, так что удивляться нечему, да и в любом случае нечему…
Мистенгетт исчезла под аплодисменты, а на сцене началось что-то невообразимое. Артисты танцевали так, словно были единым живым существом, и каждый новый музыкальный такт мгновенно превращался в новое же движение этого восхитительного, невероятного существа. Никогда Ксения не видела зрелища столь яркого, искрометного, феерического! И надеялась, что в общем блеске и шуме, в ежесекундно меняющемся свете и цвете Сергей Васильевич уже не замечает ее смятения. Тем более что в зале все ели, пили, переговаривались, смеялись, аплодировали…
На улицу после представления и ужина вышли уже совсем поздним вечером, если вообще не ночью. Впрочем, в Париже свои представления о том, что такое поздно, рано, день, ночь…
– Почему ты сама не своя? – Сергей Васильевич остановился неожиданно и резко. Напрасно она надеялась, что он не замечал ее состояния в зале, и невозможно было надеяться, что от его пронизывающего взгляда что-либо укроется сейчас. – Ты думаешь… – Его голос дрогнул. – Думаешь, я допущу, чтобы ты еще раз пережила то же, что в чертовой Сахаре? Но ведь я тебе пообещал… Ты поедешь со мной?
– Да! Я поеду с тобой.
Она обрадовалась, что можно говорить не о том, что разрывает ей сердце, а о том, что не вызывает у нее ни тени сомнения.
– Ну и хорошо, – сказал Сергей Васильевич. И добавил с некоторым недоумением: – Правда, хорошо. Похоже, я не знал бы покоя, если бы оставил тебя одну. Даже в Париже. – Он вдруг взял ее руку, положил себе на ладонь и накрыл другой своей рукою – без страсти, но с совсем новым, не знакомым ей в нем чувством, которого она не умела назвать, но при котором ей и страсти было не надо. – В Англии решим, как нам строить свою жизнь дальше. А сейчас, если ты не против, пойдем танцевать.
– Пойдем – куда?! – изумилась она.
– В дансинг. Я видел на бульваре Пуассоньер. Это близко, можем прогуляться. Но если ты устала, возьмем такси. По-моему, тебе совсем не помешает развеяться. Поплясать, сверкая коленками, в твоем преразвратнейшем платье.
И тут слезы брызнули у нее из глаз так, что даже в лицо ему попали, наверное.
– Кэсси! – воскликнул он с удивлением и тревогой. – Я тебя обидел?
– Нет… но я… я должна тебе сказать… – выговорила она, судорожно всхлипывая.
– Ну так скажи. – Он пожал плечами. – Мне можешь говорить все что угодно. Рыдать для этого не обязательно.
– Я все тебе и говорю, – пробормотала Ксения. – Но дело не во мне… Они… Я даже не знаю, кто они…
И, проглотив слезы, рассказала об усатом пошляке, и как он велел ей передать все дословно, и дословно повторила все, что он сказал.
Его лицо не изменялось. Но она чувствовала, как с каждым ее словом холодеют его ладони, между которыми все еще лежит ее рука, и только по этому понимала, что с ним происходит. Нет, не только по этому… Ксения ничего не знала о Сергее Васильевиче, совсем ничего, даже фамилию его узнала лишь сегодня. Его мысли были ей непонятны, слишком сложны для ее понимания, быть может. Но его – самого его, всего его – она чувствовала каждую секунду, и так, словно он у нее внутри, хотя он не внутри у нее, конечно, что за глупости, вот же он стоит перед нею в огнях «Фоли Бержер»… Она вдруг подумала, что, наверное, ребенка своего женщина чувствует так же – всегда внутри себя, даже когда он давно уже не в ней, и даже когда он совсем далеко от нее, и когда она его не видит, то чувствует все равно. Как это странно!.. В нем нет ничего от ребенка, наоборот, ей самой хочется зажмуриться как маленькой, спрятать лицо на его плече и забыть обо всех жестокостях мира, сошедшего с ума, или, быть может, с самого начала созданного безумным.
Но, конечно, ничего такого она не сделала. Не хватало еще повиснуть у него на плече – довольно и того, что ей пришлось стать вестницей его несчастья.
– И всё, – сказала Ксения. – Он выпил свое перно и ушел. Это совсем плохо, да?
Сергей Васильевич наконец отпустил ее руку. Вернее, его руки упали, как будто в них растворились кости. Даже в пустыне, когда поняла, что умирает от жажды, Ксения не почувствовала того, что сейчас. Тогда ей просто стало все равно, что будет с нею. Но теперь ей не было, не могло быть все равно, что будет с ним!
Он повернулся и шагнул к краю тротуара. Она видела, как опускаются его плечи. Такси остановилось перед ним. Он открыл дверцу. Ксения поняла, что у него нет сил обернуться к ней. Она подошла к машине и села на заднее сиденье. Он сел рядом и захлопнул дверцу.
Всю дорогу до Монпарнаса они молчали. Сергей Васильевич смотрел в окно. Когда проезжали мимо какой-то темной стены, окно тоже сделалось темным, и Ксения увидела в нем отражение его глаз. Они были совершенно больные. Ужас и жалость стиснули ее сердце, как две беспощадные руки.
По лестнице он поднимался так медленно, будто каждый из ее пролетов был Монбланом. Ксения шла за ним и надеялась, что он, может быть, уже знает, что ему делать дальше. Но потом вспоминала выражение его глаз и понимала, что это не так.
В мансарде он, не сняв пальто, сел на единственный стул, почему-то оказавшийся посередине комнаты. Наверное, ей надо было уйти к себе, не стоять же перед ним истуканом. Но уйти она не могла. И неловкость от собственной навязчивости казалась ей сейчас такой мелкой, такой мизерной!
Ксения села на пол, чтобы видеть глаза Сергея Васильевича, и спросила:
– Они могут тебя убить?
Он посмотрел на нее все тем же больным взглядом и безучастно произнес:
– Могут. Но не убьют.
– Почему?
– Я им нужен живой.
– Для чего?
Никогда она не расспрашивала его о том, что он делает, почему делает, для чего. И если бы он возмутился ее внезапной назойливостью и ушел бы, хлопнув дверью вместо ответа, она не удивилась бы. Но Сергей Васильевич ответил, и Ксения обрадовалась, что он не молчит, и понадеялась, что выражение его глаз от этого переменится.
– Ты же слышала. – Его лицо дернулось в гримасе такой же болезненной, как и взгляд. – Для выполнения поставленных задач.
– Может быть, мы все-таки уедем? – чуть слышно спросила она. – Прямо сейчас, а? Наверное, можно нанять шлюпку и переплыть Па-де-Кале…
– Ты умеешь управляться с кливером, я знаю. – Лучше бы он не улыбался вовсе! Невыносимо было видеть жалкую улыбку на его лице. – Но я не могу уехать.
– Почему?
– Потому что они догадались, как держать меня на крючке. Ладно. – Он потер ладонями виски. – Обо мне думать незачем. Подумаем, что делать с тобой. То есть что делать тебе, извини.
– Но об этом тем более незачем думать, – пожала плечами Ксения. – Я поеду с тобой. Ты же говорил.
– Я говорил об Англии.
– Ты говорил, чтобы я решила, поеду ли с тобой, – возразила она. – Я решила.
– Для полного счастья мне не хватает только воспользоваться твоей наивностью!
Кажется, он наконец рассердился. Ксения обрадовалась.
– Никакой наивности нет, – сказала она. – Я ведь жила в России.
– В пять лет? – усмехнулся он.
– Из Крыма уехала в тринадцать. И отлично все помню.
– Тем более, – зло бросил Сергей Васильевич. – Что в Крыму тогда творилось, надеюсь, тоже помнишь. Если думаешь, что с тех пор произошли принципиальные перемены, то должен тебя разочаровать. Убитые на улицах не лежат, во всяком случае, в Москве, но суть всё та же. А почему ты думаешь, что мне придется ехать в Россию? – вдруг спросил он.
– Ну а куда же? – пожала плечами Ксения. – Тот усатый говорил ведь со мной по-русски. И у него… Руки его, глаза… Я только сейчас поняла, где такие видела. В Крыму как раз. Точно такой зашел во двор. Мы с мамой комнату там снимали, но мама умерла уже, и я осталась одна. Он спросил соседку, есть ли белогвардейцы в доме. Она ответила, что нету, и тут он увидел в окне мальчишку. Это соседкин сын был, маленький, лет пяти. Руками замахал, засмеялся… Тот на него посмотрел, а потом взял да и выстрелил в окно, прямо в ребенка, из большого такого револьвера. И в соседку выстрелил тоже. В упор. Я отлично все помню, – вся дрожа, повторила Ксения.
– Тем более. – Сергей Васильевич положил руку ей на плечо, и дрожь ее сразу утихла. – Если я готов был лучше сдохнуть, чем еще раз все это увидеть, то о тебе речи нет тем более. Завтра найду тебе жилье. В каком-нибудь богемном улье ты будешь в безопасности.
Он поднялся со стула, пошел к двери.
– Я буду в безопасности только с тобой, – сказала она ему в спину.
– Тебе кажется, Кэсси. – Он обернулся, посмотрел больным этим, невыносимым взглядом. – Ложись спать. – И, хотя она не требовала объяснений, добавил: – Я выпью и вернусь. Спи, не жди меня.
Звук закрывшейся за ним двери показался ей громом небесным.
Глава 9
Футболка. Хлопчатобумажные брюки. Бахилы высокие – завязать на щиколотках. Первая пара перчаток. Тайвек – все отделение молится на Евгения Андреевича, он добился, что комбинезоны у всех вот эти, одноразовые белые, а то в желтых тело совсем не дышит. Правда, на Евгения Андреевича и в желтых молились бы тоже.
– Препод вообще зверь. Вы, говорит, в красную зону специально пошли, чтобы не учиться. Прикинь? Вам бы только деньги, говорит, а надо сосредоточиться на приобретении профессии. И, главное, спорить же бессмысленно. Во-первых, он этого всего не видит, что мы здесь видим. А главное, выпрут с лечфака, и что ты кому будешь доказывать? И в больницах тоже по-разному… Это у нас здесь Евгений Андреевич студентам больничные подписывает, а вот мальчики из нашей группы говорят, у них сразу увольняют, как только заболеешь. Договор же на два месяца у студентов, можно и продинамить с больничным.
Пальцы – в петельки на рукавах. Рукава – во вторые перчатки. Кроксы. Поверх – вторые бахилы. Волосы под шапочку. Теперь очки. Под очки – косметические патчи, иначе будут пролежни. Респиратор. Проверить, чтобы резинка не давила на уши. Не проверишь – к концу смены можно и сознание потерять от боли. А глупо ведь терять сознание от резинки на ушах, когда уже и от гипоксии не теряешь. Капюшон застегнуть у горла на липучку. Теперь всё.
– Сонь, подожди меня. – Светка закрутила волосы гулькой, надела шапочку и теперь приклеивала пластырем патчи. – Пять минут, честное слово.
– А нечего болтать про всякую ерунду, – проворчала медсестра Зина. – Сама задерживаешься и людей задерживаешь.
Она еще только распаковывала свой защитный комплект, потому что пришла позже Светки и Сони.
– Тебе, может, и нечего, – фыркнула Светка. – А мне за квартиру платить. Если уволят, когда заболею, то очень даже не ерунда.
– Евгений Андреевич еще никого не уволил, – тем же недовольным тоном заметила Зина. – Хоть кое-кого и следовало бы. Если кто, например, под профессора с пятой койки подушку не подложил, когда на живот его перекладывал.
На Зинино недовольное ворчание никто, впрочем, внимания не обратил. Светка потому, что пропускала мимо ушей все, что можно пропустить без ущерба для дела, а Соня потому, что ее самым первым впечатлением в отделении было: Зина поит из шприца старика в кислородной маске, приговаривая: «Вот сейчас водички попьем, мой хороший, потом подмоемся, и будет нам полегче», – и голос у нее при этом не ворчливый, а воркующий.
– Я подожду, Свет, – сказала Соня.
– Ты прям как робот, – заметила та. – А мне до сих пор приходится у себя в голове повторять, что после чего надевается, иначе перепутаю.
– У тебя в голове повторяй, не повторяй, все равно все перепутается, – не задержалось за Зиной.
– Но болела я только раз, и то в легкой форме, – отбрила ее Светка.
– Можно подумать, это твоя заслуга! Особенность организма, больше ничего. Сонечка вон вообще за пять месяцев ни разу еще не болела.
– Зин, ну что ты говоришь? – сказала Соня. – Это же не соревнование.
– Я читала, от генов зависит. – Светка наконец надела очки и респиратор, ее голос звучал теперь глухо. – Кому одна группа генов от неандертальцев досталась, те болеют легко, кому другая – в тяжелой форме.
– А у кого гены непосредственно от обезьян, те… – начала было Зина.
Но Светка уже пошла к выходу из раздевалки в отделение, и Соня следом за ней.
Да, одевается она теперь и правда как робот. Даже не верится, что, проделывая это впервые, испугалась своей абсолютной неспособности запомнить, что надевается сначала, бахилы или перчатки, и куда вставлять пальцы, чтобы не задирались рукава.
Первое погружение в больничную действительность ошеломило Соню настолько, что она, может, и отказалась бы от своего намерения, таким самонадеянным оно предстало в тот день в ее сознании. Как ей вообще могло прийти в голову, что она способна выполнять работу санитарки?! Да она даже борщ сварить не умеет! Но умеет или не умеет, а невозможно признаться Жене в своем малодушии после того, как сама напросилась…
По дороге с остоженской вечеринки домой у Сони тряслись руки и подкашивались ноги. И ладонь горела так, словно она ударила ею по раскаленному железу. Она хотела даже зайти в магазин за коньяком – может, от выпивки удастся успокоиться, – и не зашла только потому, что вспомнила о початой бутылке, которая осталась у нее дома со дня похорон.
Когда Соня вошла в квартиру, из кухни в прихожую выглянула Алеся.
– А мы зашли тебя проведать, – сказала она. – Не виделись давно же. Мы ненадолго!
– Почему? – Соня собрала все силы, и улыбка у нее вроде бы вышла обычная. – Лучше бы надолго.
– Со смены едем и спать хочется, – извиняющимся тоном объяснила Алеся. – Поэтому.
– Соня, что с тобой?
Женя, оказывается, тоже вышел уже ей навстречу и стоял в дверях комнаты, глядя на нее тем взглядом, про который мама говорила, что это не взгляд, а ледяное сверло.
– Со мной… – Соня хотела сказать, что с ней ничего особенного, потому что – зачем говорить что-то другое людям, которые с ног падают от усталости, но приехали специально, чтобы увидеть тебя? – Со мной… – повторила она. И вдруг сказала совсем другое, чем намеревалась: – Жень, возьми меня к себе на работу. Пожалуйста, очень тебя прошу!
Соня думала, брат поинтересуется, не с ума ли она сошла, и это был бы правильный вопрос. Но он спросил:
– Кем?
И от ясности его взгляда и тона Соня почувствовала, как успокаивается буря у нее внутри, охлаждается раскаленный разум и прекращается дурацкая слабость в коленях.
– Санитаркой, – ответила она. – Я, конечно, ничего не умею. Но я научусь!
– Не сомневаюсь.
– Правда? – обрадовалась она. – Ты правда так думаешь?
– Ну, все же научились. – Он пожал плечами. – Но зачем тебе это?
«Если скажет, что не может взять, волонтером пойду, – подумала Соня. – В первую попавшуюся больницу, даже говорить ему не буду».
И обрадовалась этой простой мысли, и удивилась лишь тому, что еще минуту назад ничего подобного у нее и в голове не было.
– Затем, что иначе с ума сойду, – сказала Соня. – Уже и сошла, кажется. На людей бросаюсь.
– Да? – с интересом спросил Женька. – На каких людей?
– Я только что пощечину дала одному человеку, – вздохнула она.
– Это не обязательно означает сумасшествие.
– Даже не мужчине! Женщине… Просто ужас.
– Какие у тебя тут страсти кипят! – В Женькином голосе послышались веселые нотки. – Ну, дала и дала, не о чем переживать.
– Как же не о чем!
– Если бы я дал женщине пощечину, это было бы странно.
– А если я, то, можно подумать, это нормально!
– Я исхожу из того, что без веских причин ты бы этого не сделала.
– Ты же говорил, тебе санитары нужны, – напомнила Соня.
Говорил он это, правда, не ей, а тренеру по плаванию, то есть сильному и спортивному мужчине…
– Это очень тяжело, Соня, – сказала Алеся. – Не физически, хотя и физически тоже. Но морально гораздо тяжелее.
– Но вы же…
Еще не договорив, Соня уже устыдилась своих слов. Нашла с кем себя сравнить!
– Мы еще на первом курсе привыкаем, что есть смерть, – сказал Женя. – А у тебя этой привычки нет, и тебе тяжело будет. Вот про что Алеся говорит.
Возразить было нечего.
– Я постараюсь, Жень, – сказала Соня. – Тем более я же понимаю, нельзя, чтобы тебя упрекали, что ты родственницу взял на работу.
– До этого сейчас никому дела нет, – усмехнулся он. – Вслух, конечно, не говорят, но хоть кошку свою приводи, лишь бы польза была.
– Надеюсь, от меня пользы больше будет, чем от кошки, – сказала Соня.
И в первый же свой рабочий день поняла, каким самоуверенным было это заявление. Притом переодевание в защитный костюм оказалось самой малой трудностью того дня.
Когда Соня первый раз вошла в отделение, медсестра, поившая старика из шприца, как птичку – на ее белом комбинезоне фломастером было написано имя Зина, – сказала:
– Сейчас закончу и все тебе покажу. Оглядись пока.
Но оглядеться Соня не успела. К ней подскочила девчонка, стройная, как Барби. На ее комбинезоне было написано – Светка.
– Ты новенькая? Соня, да? Поможешь? – вглянув на надпись на Сонином комбинезоне, спросила она звонким даже сквозь респиратор голосом.
– Конечно! – Соня с готовностью закивала. – А что надо делать?
– Пациентов переворачивать в реанимации. Не бойся, они в медикаментозной коме.
Такое предупреждение не способствовало бесстрашию, но говорить об этом Соня не стала.
Реанимация, примыкавшая к линейному отделению, не испугала ее, а словно по голове ударила. Перестало беспокоить, что по всему телу под защитным костюмом текут струйки пота, и что в респираторе трудно дышать, и что очки запотевают, хотя она по совету волонтера, помогавшего ей одеваться, поплевала на них и протерла сухой салфеткой. Все оказалось несущественным по сравнению с тем, что она увидела.
В пронзительных и тревожных звуковых сигналах, в сверкании разноцветных огоньков на аппаратуре, в ярком свете ламп перемещались между койками одинаковые фигуры без лиц – врачи, или медсестры, или медбратья, или санитары, а скорее, все вместе. Лица были только у пациентов, и смотреть на эти едва различимые под кислородными масками синие лица было страшно до дрожи. Надсадный кашель, стоны, крики были даже громче, чем звуки приборов. И трубки, трубки у всех – небольшие в носу, побольше во рту и в горле, совсем большие и красные в бедрах… Соне показалось, что все эти голые измученные люди не дышат, а агонизируют, и умрут прямо сейчас, у нее на глазах, и спасти не удастся никого.
– Кардиологи пришли своих смотреть, – объяснила Светка. – Вон, с Евгением Андреевичем ходят, видишь? Но это нас не касается. У нас десять переворачиваемых, каждого раз в три часа перекладывать надо. И Саня как назло ногу сломал, тоже нашел время! Он у нас качок, как без него справимся, не представляю. Вон та крайняя тётечка сто двадцать кило весит, прикинь? Не бойся, ты только трубки будешь держать, чтобы не отсоединились.
В следующие полчаса Соня бояться действительно перестала. Вернее, перестала уделять внимание такой несущественной вещи, как собственный страх. Единственное, что ее волновало: не отсоединились бы в самом деле трубки, через которые кислород поступает в эти неподвижные, по виду безжизненные тела, не перепутались бы провода, ведущие к приборам. Каждого больного, в том числе и женщину, весящую сто двадцать килограммов, переворачивали, кроме Сони, еще пять человек, только один из которых был парнем, да и то явно не качком. Ее задача была самой простой, а как справляются остальные, было для нее непостижимо, и особенно – как им удается делать это так слаженно, что даже она с ее физической бестолковостью сумела подстроиться под общее действие.
– Фух! – выдохнула Светка, когда был перевернут последний больной. – В следующий раз – через три часа. – И с беспокойством спросила: – Ты как, Сонь? В обморок не упадешь? А то разные реакции бывают, как только адреналин перестает в кровь поступать.
Соня не была уверена, что во время этой тяжелой физической работы ей в кровь поступал именно адреналин, а не какой-нибудь другой гормон, но ее состояние в самом деле стало полуобморочным. От невозможности глубоко вдохнуть все плыло перед глазами, и пот лился по телу уже не струйками, а ручьями.
– Посиди вон там, возле монитора, – заботливо предложила Светка. – Заодно интубацию посмотришь. На экране посмотришь, не бойся, – уточнила она.
– Ага, посижу… – пробормотала Соня. – Я не долго.
Она плюхнулась на свободный стул рядом с монитором и девушкой, которая вглядывалась в экран сквозь защитные очки. То, что было видно на мониторе, вообще-то происходило и наяву, в нескольких метрах от них. Соня переводила взгляд с кровати на экран и ловила себя на том, что ее плывущее сознание перестает различать эти две реальности.
Голова мужчины, лежащего на кровати, была закинута назад, торчал вверх острый подбородок, заросший седой щетиной. От его рта прозрачная трубка тянулась из желтого шарика к прибору. Соня уже знала, что это аппарат для искусственной вентиляции легких. Мелькали на экране цифры – красные, желтые, зеленые.
Вокруг кровати стояли медсестры. Одна из них густо мазала шею больного йодом. Другие накрывали зелеными простынями его тело и голову. На груди, как на столе, раскладывали инструменты, вид которых вызвал у Сони ужас. Когда все это было сделано, медсестра, которая мазала шею, ввела в рот лежащему какой-то черный предмет. При этом она чуть повернулась, и стала видна надпись на ее комбинезоне – Алеся.
В следующую минуту Соня подумала, что сходит с ума, но тут же поняла, что это не она попала в какой-то темный тоннель, а просто сменилась картинка на мониторе: теперь шея больного стала видна изнутри.
– Это трахея, – не оборачиваясь, сказала девушка перед монитором. – Сейчас Евгений Андреевич будет разрез делать.
Отведя взгляд от экрана, Соня увидела, как подошедший к кровати врач ощупывает желтую шею больного, потом берет скальпель, и поняла, что этот врач – ее брат. Это было так странно, это казалось невозможным! Женька, с которым они всю жизнь были как половинки грецкого ореха под общей скорлупой, словно бы отделился от нее совсем, перешел в такое состояние, в котором не может находиться обычный человек.
«Он и не обычный человек», – подумала Соня.
И успокоилась, поняв это.
– Есть! – сказала девушка за монитором. – Скальпель в трахее, видишь? – И с гордостью объяснила: – Евгений Андреевич всегда правильное место для разреза с первого раза находит. А другие, бывает по три раза режут, и то не туда попадают.
– Теперь всё? – спросила Соня, глядя, как в трахею вместо скальпела входит ребристая трубка.
– Нет, что ты, – покачала головой девушка. – Эта трубка видишь какая узкая. Теперь он отверстие будет раз в пять расширять, чтобы такую трубку вставить, по которой кислород можно пустить. Это минут двадцать еще займет.
– Господи, – сказала Соня, – помоги ему.
Девушка у монитора ничуть не удивилась ее словам.
– Евгению Андреевичу всегда помогает, – с уверенностью ответила она. – Я, знаешь, иной раз думаю: может, он сам бог и есть? Мы на него все молимся, во всяком случае.
Соня смотрела то на брата, то на экран как завороженная и, наверное, смотрела бы и дольше двадцати минут, но тут снова появилась Светка.
– Оклемалась? – спросила она. – Пойдем тогда. А то Зинка мне уже плешь проела, почему я тебя у нее увела. Она хотела, чтобы ты сегодня только ногти больным стригла, потому что ты не привыкла еще, прикинь! Я ей говорю: да Соня толковая девчонка, сразу и привыкла! Но она все равно мозг мне выносит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































